Humanitas
�Владимир Глебкин
Серия основана в 1999 г.
В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты
Центра гуманитарных научноинформационных исследований
Института научной информации по общественным наукам,
Института российской истории,
Института философии
Российской академии наук
Смена парадигм
в лингвистической
семантике:
от изоляционизма
к социокультурным
моделям
Центр гуманитарных инициатив
Университетская книга
Москва – Санкт-Петербург
2014
�УДК 80/81
ББК 81
Г53
Главный редактор и автор проекта «Humanitas» С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осиновская
Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, П.П. Гайденко,
И.Л. Галинская, В.Д. Губин, Б.Л. Губман, П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов,
Г.И. Зверева, А.Н. Кожановский, Л.А. Микешина, Ю.С. Пивоваров,
И.И. Ремезова, А.К. Сорокин, П.В. Соснов
Редактор Е.В. Романова
Серийное оформление П.П. Ефремов
Г53
Глебкин В.В.
Смена парадигм в лингвистической семантике: от изоляционизма к социокультурным моделям. М.; СПб.: Центр гуманитарных
инициатив; Университетская книга, 2014. – 368 с. – (Серия
«Humanitas»).
В монографии анализируются базовые парадигмы, определяющие
облик лингвистики во второй половине ХХ – начале ХХI века (изоляционистская, антропоцентричная, социокультурная), а также их
философские и психологические основания. Возможности, открываемые социокультурной парадигмой, проиллюстрированы исследованием социокультурной истории метафоры механизма, когнитивных и
культурно-исторических оснований метонимии, содержания понятия
«кризис культуры». Важным итогом книги становится «социокультурная теория лексических комплексов» и выполненное в ее рамках описание комплексов «открыть», «камень», «интеллигенция».
Книга адресована студентам и аспирантам гуманитарных университетов.
УДК 80/81
ББК 81
ISBN 978-5-98712-210-4
© Левит С.Я. составление серии, 2014
© Глебкин В.В., 2014
© Центр гуманитарных инициатив, 2014
© Университетская книга, 2014
От Автора
Данная монография представляет собой переработанное и заметно
расширенное издание книги «Лексическая семантика: культурноисторический подход» (М., 2012). В тексте появились четыре новые
главы, посвященные теории концептуальной интеграции ФоконьеТернера, критическому анализу категорий концепт и языковая картина мира, а также описанию комплексов открывать и камень в рамках
социокультурной теории лексических комплексов (СТЛК). Также кардинально переработана глава, в которой описываются общие принципы СТЛК. Внесенные изменения и дополнения должны снять ряд
вопросов, возникших при знакомстве с СТЛК в предыдущем издании.
Я искренне признателен Арине Зайцевой, Дарье Малышевой и Лидии
Хесед за помощь при подготовке данной монографии.
Введение
Как-то на занятии спецкурса по когнитивной лингвистике одна из
слушательниц спросила меня, чем вызван столь странный методологический консерватизм, присущий лингвистике второй половины XX
столетия. Действительно, базовые основания, на которых возводятся
фундаментальные лингвистические теории, на фоне эпистемологических открытий XX века выглядят как глубокая архаика. Лицо физики
в этот период определяют теория относительности и квантовая механика, главный результат которых для теории познания состоит в отказе от представлений о не связанном с наблюдателем, существующем
по вечным и неизменным законам мире, в признании необходимости
включать наблюдателя и измерительную процедуру в теоретическую
модель1. Позднее в космологии значимость позиции наблюдателя выражается в так называемом антропном принципе, довольно размытом
по формулировке, но крайне показательном методологически: невозможно говорить о вселенной вне человека, который взаимодействует
с ней, задавая точку отсчета и базовую систему координат2.
В социальных и гуманитарных науках аналогом отмеченных субъектно ориентированных установок стало введенное Максом Вебером понятие «идеального типа», рассматриваемое им как ключевой инструмент
для проведения конкретных исследований (Вебер 1995а (1904)). Методологический императив Вебера, как, впрочем, и антропный принцип,
развивает положения кантовских антиномий: научные категории, такие
как капитализм, эпоха Возрождения, протестантизм, представляют собой
�6
Введение
не факты объективной реальности, а инструменты для ее описания;
каждый из этих инструментов несет на себе печать профессиональных
интересов, мировоззренческих пристрастий, ценностных установок использующего его исследователя. Другими словами, взгляд исследователя на изучаемую реальность субъективен, и эта субъективность является не досадной помехой, которую можно устранить при корректной
работе, а необходимым предварительным условием исследования. По
Веберу, важно осознавать ограниченность используемых категорий и,
работая в рамках этих ограничений, добиваться внутренней непротиворечивости и отчетливости категориальной структуры.
Определенной параллелью к результатам Вебера стали работы постпозитивистов: Карла Поппера, Томаса Куна, Имре Лакатоса (Popper
1962; Кун 1977 (1962); Лакатос 1995 (1968)). Их эпистемологический
итог выразился в опровержении классической схемы эволюции научной теории, в которой ключевую роль играет экспериментальное
подтверждение или опровержение теоретических предсказаний. Исследования постпозитивистов показали, что в действительности никакой эксперимент не может ни доказать, ни опровергнуть теорию из-за
наличия ряда граничных условий, дающих теории пути для отступления, и что реальный процесс смены теорий, или, точнее, говоря языком
Куна, смены научных парадигм, оказывается гораздо более сложным.
Определяющую роль в этом процессе играет устоявшаяся позиция научного сообщества, опирающегося на сложную систему критериев и
оценок, часто носящих иррациональный характер.
Еще один важный вектор в эпистемологии прошлого столетия задает идея развития, выраженная в целом ряде философских и психологических школ (например, в школе культурно-исторической психологии, генетической эпистемологии Ж. Пиаже, в эволюционной теории
познания (Кезин 2006)). Представление о знании, мышлении, восприятии мира как эволюционирующих системах, формирующихся в
процессе взаимодействия человека с окружающими его природной и
социокультурной средами, оказывается определяющим для этого направления и выступает как одна из эпистемологических доминант для
науки XX века в целом.
На этом фоне поиск целым рядом ведущих лингвистов (Н. Хомский,
А. Вежбицкая и др.) мировоззренческих оснований своих теорий в
философском рационализме XVII века и предлагаемые ими «изоляционистские» модели описания языка выглядят странным анахронизмом. Вопрос об уникальности сложившейся ситуации и ее причинах
крайне интересен для истории науки и требует отдельного исследования. Можно привести весомые аргументы в пользу того, что указанный
процесс отражает не казус, а одну из тенденций эволюции науки (развитие вычислительной техники и связанных с ней новых областей
Введение
7
математики, бурное обсуждение проблемы искусственного интеллекта
сделали обращение к философскому опыту XVII века весьма продуктивным). Мне хотелось бы, однако, обратить внимание на другое:
несмотря на различие в начальных точках, направление мировоззренческой эволюции лингвистических теорий со второй половины XX по
первое десятилетие XXI века вписывается в заданные квантовой теорией методологические рамки. В лингвистике этого периода отчетливо выделяются три базовые парадигмы (по Куну), которые можно
условно обозначить как изоляционистскую, антропоцентричную и
социокультурную. Хотя все они, а также разнообразные их комбинации, присутствуют в современной науке о языке, главный вектор ее
развития можно обозначить как движение от изоляционистской парадигмы к антропоцентричной и затем к социокультурной, что вполне
соотносится с направлением развития эпистемологии в целом.
Этот факт недостаточно осознан современными лингвистами, и
базовые установки социокультурного подхода, давно уже ставшие общим местом в смежных науках, здесь еще звучат как новость и воспринимаются с недоверием. Отмеченная ситуация особенно актуальна
для отечественной лингвистики, где изоляционистская парадигма сохраняет свою значимость, выступая как одна из мировоззренческих
доминант. В частности, один из ведущих отечественных лингвистов
Ю.Д. Апресян, говоря о методологических основаниях проводимых им
и коллегами исследований, неоднократно подчеркивает, что они выполнены исключительно на материале языка без привлечения социокультурных, психологических или каких-то иных, отличных от языковых, данных (Апресян 1995б, с. 37; Апресян 2006a, с. 34). Так уж
сложилось исторически, что, имея отечественную школу культурноисторической психологии, оказавшую заметное влияние на мировую
науку, мы не имеем школы культурно-исторической лингвистики или
культурно-исторической семантики, хотя для создания такой школы
существовали вполне отчетливые предпосылки. В этой перспективе
важны методологические идеи В.В. Виноградова, говорящего о слове
как «культурно-исторической вещи» и призывающего изучать его
историю во всем многообразии социокультурных контекстов (Виноградов 1995, с. 22–24).
Сказанное не означает, конечно, что современная отечественная
лингвистика дистанцируется от анализа культурно-значимых слов и
выражений. В последние годы появился целый ряд интересных исследований, среди которых в первую очередь следует упомянуть работы, выполненные в рамках «новомосковской школы концептуального анализа» (Зализняк и др. 2005; Зализняк и др. 2012). Однако
базовые теоретические установки и методологические принципы,
эксплицируемые авторами, во многом исходят из изоляционистской
�8
Введение
парадигмы и часто противоречат логике их работы с непосредственным материалом.
К указанному направлению примыкают исследования, посвященные анализу культурных концептов (Степанов 2001; Подзолкова 2005
и др.). Они методологически вписываются в рамки культурноисторического подхода, однако основная проблема работ данного
круга состоит в неопределенности понятия «концепт», не дающей возможности построения методологически выверенной теории и препятствующей получению корректного в научном плане результата.
Основу данной монографии составляет представление о слове как
«культурно-исторической вещи», сформулированное В.В. Виноградовым.
Одна из главных задач, которая в ней поставлена, – преодоление характерной для культурно-исторических исследований эссеистичности
и описание контуров фундаментальной модели, допускающей прозрачные принципы практической реализации.
Другое обозначение базовой для данной монографии системы координат выражается в понятии социокультурная когнитивная лингвистика. Это сочетание может звучать странно для искушенного читателя и даже восприниматься им как оксюморон3, однако в нем заложена
довольно простая идея. Как известно, основной вектор устремлений
когнитивной лингвистики состоит в восприятии языка как антропосообразного феномена, материального воплощения языковой способности человека, как одной из когнитивных подсистем, находящейся в
сложном взаимодействии с другими когнитивными подсистемами
(память, внимание, интеллект и т. д.)4. Однако в базовых для когнитивной лингвистики моделях человек рассматривается как некое
подобие Робинзона, как сложноорганизованная система, взаимодействующая с окружающей средой вне социального и культурного
контекста. Социокультурная когнитивная лингвистика также рассматривает язык как продукт человеческой деятельности, однако воспринимает человека уже не просто как органическое тело, но и как
социокультурное существо. Данную мировоззренческую парадигму
можно обозначить также сочетанием антропная социокультурная лингвистика, т. е. лингвистика, в основе которой лежит антропный принцип, аналогичный антропному принципу в космологии: необходимым
условием возникновения, функционирования и эволюции языка является существование человека, породившего и изменяющего этот
язык, причем человек берется здесь во всей совокупности связей со
своим природным и социокультурным окружением.
Данная парадигма естественным образом вытекает из общей эволюции представлений о человеке в XX веке, основной вектор которой
определяется преодолением характерного для классической философской традиции телесно-духовного дуализма и осознанием человека как
Введение
9
целостности, встроенной в природное и социокультурное окружение5.
Начав формироваться в психологии и психологически ориентированных философских исследованиях, отмеченный взгляд на человека
проникает и в лингвистику, задавая антропоцентричную перспективу
для представлений о структуре и эволюции языка. Здесь он постепенно, как трава сквозь асфальт, пробивается сквозь плотный слой «изоляционистских» теорий, обретая свое место в современной науке о
языке.
Книга посвящена осмыслению базовых вех этого процесса, завершаясь теоретической моделью семантического описания, выполненной
в рамках культурно-исторического подхода. Она состоит из трех частей.
В первой части исследуются методологические основания изоляционистской парадигмы. Хотя основной сюжет книги связан с лексической
семантикой, она открывается анализом мировоззренческих и методологических установок генеративной грамматики, главным образом, на
материале работ Н. Хомского. Это связано с безусловным идеологическим лидерством Хомского, настойчиво отстаивающего базовые принципы изоляционистского подхода в полемике с многочисленными
оппонентами и, пожалуй, наиболее глубоко отрефлексировавшего его
мировоззренческие основания. Вторая глава обращается к лингвистической семантике и посвящена анализу семантических теорий, исходящих из изоляционистских установок: теории натурального семантического метаязыка Вежбицкой–Годдарда и модели «Смысл–Текст»
Мильчука–Апресяна–Жолковского. Несмотря на серьезные разногласия во взглядах на язык и задачи лингвистики у авторов, обсуждаемых
в первой и второй главах, можно заметить отчетливое сходство базовых
методологических и онтологических постулатов, далеко не всегда явно
эксплицируемое в их работах.
Во второй части книги описывается парадигма, условно названная
антропоцентричной. В центре ее находится человек, но не как социокультурное существо, а главным образом как организм. Эта часть начинается с главы, посвященной философским и психологическим
основаниям антропоцентричного подхода. Содержание данной главы
может показаться неуместным в книге по лингвистической семантике,
однако ее присутствие здесь носит принципиальный характер. Удивление мольеровского Журдена, узнавшего, что он говорит прозой,
давно уже стало расхожей метафорой среди гуманитариев, но частота
ее использования лишь подтверждает ее актуальность: мы слишком
часто не осознаем истоки взглядов и идей, на которые опираемся,
считая их общим местом, воспринимая их как естественную среду
существования. Однако философский и психологический фон появления лингвистических теорий меняется, и лингвисты, осознанно или
неосознанно, следуют за происходящими изменениями. Явная экс-
�10
Введение
пликация этого фона дает возможность повысить осознанность в использовании тех или иных мировоззренческих моделей. Четвертая,
пятая и шестая главы содержат изложение конкретных лингвистических теорий, построенных в рамках данной парадигмы: теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона, теории концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера, теории лексических
концептов и когнитивных моделей В. Эванса, а также семантики фреймов Ч. Филлмора.
Третья часть открывается критическим анализом отечественных
исследований, обращенных к категориям «концепт», «концептосфера»,
«языковая картина мира». Также в ней представлены работы автора,
выполненные в рамках культурно-исторического подхода. Восьмая и
девятая главы связаны с исследованиями метафоры и метонимии,
десятая глава обращается к анализу научных категорий. Имея самостоятельную ценность, эти главы важны еще и тем, что в них вводятся
системообразующие элементы с о ц и о к у л ь т у р н о й т е о р и и л е к с и ч е с к и х к о м п л е к с о в , обобщающей различные локальные
исследования автора в данной области. Общие контуры теории излагаются в одиннадцатой главе, а в двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой ее базовые положения иллюстрируются на примерах описания комплексов «открывать», «камень» и «интеллигенция».
Данная монография появилась бы значительно позднее, если бы не
постоянная помощь и поддержка моей жены Анны Леонидовны Беленькой. Счастливым для меня обстоятельством, существенно повлиявшим на формирование положенных в ее основу идей, стало многолетнее общение с Владимиром Николаевичем Романовым и Григорием Александровичем Ткаченко, светлой памяти которых посвящается
эта книга.
Примечания
См.: Бор 1961, с. 51–128; Джеммер 1985, с. 313–369, особ. 365–369; о применении этих
установок в лингвистике см.: Glebkin 2009.
2
Об антропном принципе в космологии см., напр.: Barrow, Tipler 1986, особ. p. 15–26;
Балашов, Казютинский 1987.
3
Ср. название одной из последних коллективных монографий Д. Герартса с коллегами:
Advances in Cognitive Sociolinguistics, а также введение к ней (Geeeraerts et al. 2010).
4
См., напр.: Croft, Cruse 2004, p. 1–6; Кубрякова 2004, с. 9–23, 57, 475–477; Evans, Green
2006, p. 27–51; Geeraerts, Cuyckens 2007.
5
См. об этом: Глебкин 2007, Глебкин 2007а. С небольшими изменениями обе статьи
включены в: Глебкин 2010.
1
Часть I. Модели языка как
автономной системы
�Глава I. Мировоззренческие основания
и методология генеративной грамматики
В
первой части речь пойдет об изоляционистских моделях языка,
рассматривающих его как самосогласованную систему, не требующую для описания своей организации внешних, выходящих
за ее рамки принципов. В первой главе анализируется методологическая парадигма генеративной грамматики, связанная с
анализом синтаксических структур, во второй – созданные в той же
логике семантические модели1.
Генеративная грамматика, связанная, в первую очередь, с именем
Ноама Хомского, представляет собой крайне влиятельную и амбициозную научно-исследовательскую программу2, в значительной степени
определившую облик когнитивного направления в лингвистике в период со второй половины 50-х по 70-е годы, оказавшую и продолжающую оказывать до сих пор заметное влияние как на лингвистику, так
и на когнитивную науку в целом3. В индексе цитирования по гуманитарным наукам в период с 1980 по 1992 гг. Хомский оказался первым
среди всех живущих в то время ученых и вошел в десятку наиболее
часто упоминаемых мыслителей всех времен и народов, занимая место
между Фрейдом и Гегелем4. При этом говорить об однозначности и
графической четкости научного портрета Хомского было бы большим
преувеличением. Как известно, избыток данных не в меньшей степени
усложняет корректное описание явления, чем их недостаток. Образ
Хомского в посвященных ему или упоминающих его работах дробится
на множество отдельных изображений, иногда изменяясь до неузнаваемости при переходе от статьи к статье. Отчасти это связано с тем,
что взгляды американского лингвиста заметно эволюционировали со
временем, и он оставлял своих последователей и критиков на различных ступенях этой эволюции. Тем не менее, несмотря на существенные
изменения в конкретных моделях, Хомский сохранял базовые мировоззренческие и методологические установки, шлифуя их формулировки в полемике с многочисленными оппонентами5. На описании
этих установок мы и сосредоточимся в данной главе. Дальнейшее из-
�14
Часть I. Модели языка как автономной системы
ложение будет построено по следующей схеме: а) базовые положения
теории генеративной грамматики; б) их эмпирические и методологические основания; в) критика позиции Хомского другими исследователями и его ответ на критику.
1.1. Базовые положения теории генеративной грамматики
Ниже приводятся базовые постулаты генеративной грамматики, начиная с общих представлений о языке и заканчивая конкретными
моделями реализации этих представлений.
α) Язык возник в результате качественного скачка (Great Leap
Forward) в эволюции и представляет собой атрибут исключительно человека. Способностью к овладению языком не обладают даже высшие
виды приматов, не говоря уже о других животных. При этом язык отличает человека от разнообразных автоматов, искусственных интеллектуальных систем, функционирование которых определяется алгоритмами, опирающимися на математические модели. Никакой из алгоритмов
такого рода не выражает сущности человеческого языка, равно как и
соображения алгоритмической простоты и подобные им (Chomsky 1995,
p. 151, 162; Chomsky 1998 (1977), p. 124–125; Chomsky 2000, p. 3, 12;
Chomsky 2006, p. 9–12, 61, 90, 161, 168, 183–184)6.
β) Язык (под которым Хомский понимает, в первую очередь,
I-language, т. е. internal, individual, intensional language) является реализацией особой языковой способности (language faculty), важнейшей из
когнитивных способностей, локализованной в мозге; он может быть назван ментальным органом человека. Языковая способность проявляется в
умении порождать самостоятельные высказывания, неосознанно руководствуясь определенными правилами, а также понимать высказывания
других, интуитивно оценивая их соответствие этим правилам (Chomsky
1995, p. 6, 17, 22; Chomsky 1998 (1977), p. 180–181; Chomsky 2000,
p. 26–27, 70–73, 77–78; Chomsky 2006, p. VIII).
β1) Языковая система существует обособленно от других систем человеческого организма (концептуальная система, система прагматической компетенции, сенсомоторная система и т. д.), взаимодействуя с
ними лишь в рамках особых поверхностных интерфейсов (Chomsky 1965,
p. 58; Chomsky 1995, p.15, 221; Chomsky 1998 (1977), p. 46; Chomsky
1998a (1975), p. 36; Chomsky 2000, p. 3).
β 2) Лингвистику как науку о понимаемом таким образом языке
следует рассматривать как область психологии, описывающую структуру присущей человеку языковой компетентности (Chomsky 1998
(1977), p. 43; Chomsky 1998a (1975), p. 160; Chomsky 2006, p. 24–25,
78, 87, 90).
γ) Человек не осваивает язык путем научения, он обладает врожденным знанием языка, которое актуализируется в раннем детстве.
Глава I. Мировоззренческие основания и методология генеративной грамматики
15
Умение ребенка говорить столь же органично ему, как способность
дышать, и характеризует его так же, как наличие двух рук при рождении (Chomsky 1965, p. 30, 59; Chomsky 1998 (1977), p. 63, 98, 140;
Chomsky 1998a (1975), p. 12–13, 118; Chomsky 2000, p. 4; Chomsky 2006,
p. 76, 152).
γ1) Процесс актуализации языковой способности предполагает наличие
генетически определенной начальной стадии, общей для всех людей, и последовательную эволюцию через несколько промежуточных ступеней,
завершающуюся относительно устойчивым состоянием, не претерпевающим в дальнейшем существенных изменений за исключением лексикона
(Chomsky 1995, p. 6; Chomsky 1998a (1975), p. 119–121; Chomsky 2000,
p. 7, 53).
δ) Теория языка – генеративная грамматика – строится, исходя из
двух независимых базовых элементов: генеративной системы и лексикона.
Первая представляет собой систему правил, описывающих объединение
первичных элементов в более сложные структуры, а также последующую
трансформацию этих структур, последний – наполняющие эти структуры лексические элементы. Лексикон может быть охарактеризован как
список «исключений» (list of «exceptions»), хранящий информацию о специфических свойствах частных лексических единиц, дополнительных к
правилам генеративной системы и внешним лексическим характеристикам, связанным с конкретными языками (английский, русский и т. д.)
(Chomsky 1995, p. 20, 30, 52, 130–132, 186–187, 225–226, 235–242;
Chomsky 1998 (1977), p. 188–190; Chomsky 1998a (1975), p. 28–29, 80–81,
102; Chomsky 2000, p. 10; Chomsky 2002 (1957), p. 13–17; Chomsky 2006,
p. 24–25, 78–79, 103).
δ1) Преобразование порожденного генеративной системой высказывания в предложение конкретного языка осуществляется на уровне поверхностных интерфейсов, где языковая система вступает во взаимодействие
с другими базовыми системами: сенсомоторной и отвечающими за осуществление разнообразных когнитивных операций (Chomsky 1995, p. 21,
219–221, 224; Chomsky 1998 (1977), p. 142–144, 147–148; Chomsky 1998a
(1975), p. 43, 105; Chomsky 2000, p. 9–10).
Некоторые из приведенных выше утверждений требуют отдельного
комментария.
β) Хомский, на первый взгляд, весьма неожиданно, но с годами
все более и более последовательно отрицает корректность использования понятий «язык» и «диалект» как научных категорий. Он неоднократно цитирует фразу Макса Вейнрейха «Язык – это диалект с
армией и флотом», подчеркивая идеологическую заданность категории языка7. Однако и понятие диалекта кажется ему не менее проблематичным. В одной из поздних работ он подробно анализирует
взгляд М. Даммита на соотношение индивидуальных языков (идио-
�16
Часть I. Модели языка как автономной системы
лектов) и языка в привычном понимании (общего для определенной
группы людей). Даммит говорит о том, что общий язык нельзя рассматривать как пересечение идиолектов, – связь, с его точки зрения,
обратная. Индивидуальный язык нужно понимать как несовершенный, неполный образ языка, который существует независимо от говорящего и предшествует формированию его идиолекта 8. Хомский
отрицает корректность изложенной позиции, приводя ряд весьма
любопытных аргументов. Так, он утверждает, что различия между
языками сильно преувеличены, и если бы марсианин стал наблюдать
за жизнью на Земле, он решил бы, что языки, на которых говорят
люди, не имеют существенных различий9. Далее, в рамках традиционного подхода считается, что Ганс и Мария говорят на одном языке,
даже если они используют столь сильно различающиеся диалекты
немецкого, что не понимают друг друга. С другой стороны, тот же
Ганс, живущий на границе с Голландией и не говорящий поголландски, вполне адекватно понимает не говорящего по-немецки
голландца, находящегося по другую сторону границы. Понятие общего языка и в том и в другом случае противоречит здравому смыслу. В
целом рассуждения подобного рода, по Хомскому, напоминают оценки типа «Джон живет рядом с Марией, но далеко от Билла». Разговоры об общем языке связаны с традицией или идеологией, но в
целом далеки от настоящей науки. Представление об общности людей
как носителей индивидуальных языков (I-languages), по-разному воплощающих общую для всех людей языковую способность, не предполагающее проведения в этой общности принудительных границ,
является гораздо более корректной научной гипотезой, чем традиционный взгляд (Chomsky 2000, p. 99–100).
β1) Хомский всегда подчеркивал обособленность системы языковой компетенции в человеке, однако его взгляд на уникальность ее
структуры допускает разные толкования. В поздних работах он пишет,
что базовые принципы генеративной грамматики, такие как свойство
дискретной бесконечности (discrete infinity), т. е. способность порождать неограниченное число как угодно сложных структур на
основании ограниченного набора последовательно или совместно
применяемых простых правил10, или «неизбыточность», т. е. отсутствие излишних, дублирующих друг друга характеристик в определении частных феноменов средствами языка, нехарактерны для сложных биологических систем и скорее имеют аналоги в неорганическом
мире (Chomsky 1995, p. 168; Chomsky 2006, p. 183). В более ранних
работах он предполагает, однако, что базовые принципы генеративной
грамматики могли бы быть использованы для понимания принципов
организации других систем человеческого организма, в частности,
визуальной11. Указанное несоответствие можно трактовать как опре-
Глава I. Мировоззренческие основания и методология генеративной грамматики
17
деленную эволюцию его взглядов или как признание того, что некоторые системы, определяющие жизнедеятельность человека, организованы по принципам, не характерным для сложных биологических
систем.
β2) Кажется, что предлагаемый Хомским взгляд на традиционную
теоретическую лингвистику выходит за рамки базовых подходов и
помещает предлагаемую им модель в междисциплинарное поле. Подобное представление стало уже общим местом: пожалуй, никакая
обзорная монография по когнитивной науке (cognitive science) не
обходится без ссылок на его работы12. Однако более внимательный
анализ позволяет усомниться в такой интерпретации. Говоря о языке
как врожденной человеку способности, при этом не связанной с другими системами в организме, Хомский фактически убирает из языка
психологическую составляющую и рассматривает его как функционирующую по собственным законам систему, в этом отношении не
отличаясь от «чистых» лингвистов. Человек случайно оказывается
носителем такой системы, вполне, подчеркну, самодостаточной и допускающей моделирование на компьютере13. Помещение этой системы в человеческий мозг не меняет принципов ее анализа, у Хомского
принципиально антипсихологичных и сближающих его с традиционной лингвистикой.
γ) Хомский противопоставляет процесс освоения языка или системы здравого смысла, с одной стороны, и изучения физики, с другой.
Первые два представляют собой биологические процессы, аналогичные
строительству птицами гнезд или воспроизводству ими характерных
звуков, третий имеет иную природу (человека как биологический вид
нельзя считать изначально предрасположенным к освоению физики)
(Chomsky 1998a (1975), p. 155). Хотя процесс освоения языка реализуется в несколько последовательных стадий, они характеризуют лишь
все более и более полную экспликацию латентного содержания, а не
обучение чему-то новому. Хомский выражает это различие, противопоставляя естественный рост (growth) процессу обучения (learning)
(Chomsky 2000, p.120)14.
δ) Здесь взгляды Хомского проделали существенную эволюцию, в
которой обычно выделяется несколько этапов: Стандартная теория (the
Standard Theory), Расширенная стандартная теория (the Extended
Standard Theory), Теория принципов и параметров (The Theory of
Principles and Parameters) и Минималистская программа (the Minimalists
Program). Каждая из этих теоретических моделей представляет собой
конкретную реализацию базовых принципов, сформулированных
выше.
Стандартная теория может быть представлена в виде схемы, изображенной на рис. 1.
�18
Часть I. Модели языка как автономной системы
Рис.1. Структурная схема Стандартной теории
(Chomsky 1998 (1977), p. 137).
Единицы лексикона, соединенные по определенным правилам,
образуют высказывание на уровне глубинной структуры, получающее там семантическую интерпретацию, и затем, также по определенным правилам, трансформируются в высказывание на уровне
поверхностной структуры, получая там уже фонологическую интерпретацию15.
Одной из основных проблем, с которой столкнулась стандартная
теория, стала проблема моделирования процесса семантической интерпретации на глубинном уровне. Попытку ее решения в рамках генеративной семантики следует обсудить подробнее.
Пожалуй, базовыми работами, задавшими проблемное поле генеративной семантики, стали «Общая теория лингвистических описаний»
Катца и Постала (Katz, Postal 1964) и «Аспекты теории синтаксиса»
Хомского (Chomsky 1965), а основой для конкретных исследований
утверждение, известное в дальнейшем как гипотеза Катца–Постала.
Смысл его состоит в том, что значение предложения полностью детерминировано глубинной структурой и сохраняется в процессе трансформаций от глубинной структуры к поверхностной. При этом в механизме, формирующем конкретное высказывание на глубинном
уровне, можно выделить словарь, содержащий атомарные лексические
единицы (lexical items), и конечный набор порождающих правил
(projection rules). Значение предложения представляет собой функцию
значений входящих в него элементарных лексических единиц16. При
этом каждая лексическая единица в словаре должна быть представлена в своей нормальной форме, предполагающей сведение ее значения
к значению элементарных компонент и отношений между ними17 (Katz,
Postal 1964, p. 14–15).
Дальнейшие исследования были направлены на конкретизацию,
дополнение или пересмотр сформулированных выше положений 18,
однако их пафос, составляющий сердцевину гернеративной семантики,
остался неизменным19. Такая установка, превращающая язык в герме-
Глава I. Мировоззренческие основания и методология генеративной грамматики
19
тичную структуру, исключенную из любых процессов коммуникации,
была изначально крайне уязвимой и обреченной на недолгую жизнь.
Проект генеративной семантики исчерпал себя к началу 70-х под воздействием как жесткой внешней критики, так и глубинных внутренних
проблем.
Осознание этого факта выразилось у Хомского в создании Расширенной стандартной теории, в которой он связал семантическую интерпретацию уже с поверхностными структурами, предположив влияние других когнитивных систем, формирующих представление о мире
(systems of belief about the nature of the world), на наделение предложения значением (Chomsky 1998 (1977), p. 142–148; Chomsky 1998a (1975),
p. 105)20.
Рис.2. Структурная схема Расширенной стандартной теории
(Chomsky 1998 (1977), p. 173).
Частным, но весьма показательным моментом является также и то,
что Хомский в ряде работ этого периода отказывается от понятия deep
structure, утверждая, что оно порождает множество фоновых обертонов
как следствие неверных интерпретаций его идей, и заменяет его на
initial phrase marker, т. е. некоторую начальную структуру, являющуюся
объектом для последующих трансформаций (Chomsky 1998 (1977),
p. 172–173; Chomsky 1998a (1975), p. 80–82).
Следующим этапом развития генеративной теории, предлагающим
существенно иные инструменты описания, но не несущим принципиально новых методологических идей, стала теория принципов и параметров21. Оказавшись весьма продуктивной для решения конкретных синтаксических проблем, она, тем не менее, обладала громоздкой структурой
и была лишена легкости и изящества, характерных, например, для теории
тяготения или теория относительности. Методологические пристрастия
�20
Часть I. Модели языка как автономной системы
Хомского позволяют предположить, что именно этот фактор стал решающим стимулом для появления Минималистской программы.
В рамках данной программы язык состоит из лексикона и «вычислительной» системы СHL «собирающей» из элементов лексикона пары
(π, λ), которые относятся соответственно к фонологическому и логическому компонентам и интерпретируются в рамках сенсорного
(articulatory-perceptual) и концептуального (conceptual-intentional) интерфейсов. При этом структура интерфейсов связана с особенностями
структуры человека как биологического вида. Так, если бы люди могли общаться посредством телепатии, они не нуждались бы в фонологическом компоненте, по крайней мере, для целей коммуникации.
Система СHL осуществляет преобразования, последовательно используя две базовые операции: Merge (объединение двух независимых
объектов Х и Y в единое целое) и Attract/Move (объединение объекта
Х и объекта Y, являющегося частью Х). Первая из них характерна и для
других сопоставимых с языком систем, вторая составляет особенность
человеческого языка. Осуществляемые СHL преобразования удовлетворяют принципам экономичности (таким, как отсутствие лишних
шагов в преобразованиях, например) и ведут к единственному решению
при заданных граничных условиях (Chomsky 1995, p. 219–221, 378).
1.2. Эмпирические и методологические основания теории
генеративной грамматики
Обратимся теперь к системе обоснований Хомским сформулированных
выше утверждений, к экспликации их доказательной базы. В ней есть
две составляющие: мировоззренческие основания базовых методологических постулатов и обоснование конкретных лингвистических
моделей, описаний, наблюдений. Мы остановимся на первой составляющей, наиболее важной для нас в контексте данной работы. В целом
аргументация Хомского распадается на два блока: первый касается
специфики порождения и понимания человеком и, прежде всего, ребенком раннего возраста разнообразных языковых выражений и конструкций, второй обращается к рационалистической традиции XVII–
XVIII веков, выступающей для американского лингвиста как главный
методологический авторитет.
Аргументация первого блока Хомского выглядит следующим образом: отталкиваясь от принципа «остранения», предложенного
Шкловским, он предлагает своему потенциальному собеседнику удивиться той легкости, с которой человек усваивает громадное число
фонологических и синтаксических моделей, являющихся частью нашей
языковой компетентности. Создание новых выражений кажется повсеместной практикой нормального человеческого поведения. Точное
Глава I. Мировоззренческие основания и методология генеративной грамматики
21
повторение высказывания представляет собой скорее исключение, чем
правило, и проявляется лишь в ряде ритуальных формул (приветствие,
прощание и т. д.)22. Особенно поражает способность к языку ребенка:
количество предложений, которые он уже в раннем детстве оказывается в состоянии понимать, больше, чем число секунд, которые он
прожил23. По Хомскому, полноценное осознание приведенных выше
наблюдений делает абсурдной гипотезу эмпирического овладения
языком по аналогии и ведет к однозначному выводу о наличии априорных структур, отвечающих за языковую компетенцию. При этом
следует отметить, что он почти не ссылается на какие-либо психолингвистические эксперименты24, и некоторые интуитивно очевидные для
него факты кажутся, по крайней мере, неочевидными для других25.
Место экспериментов занимают активно используемые сравнения,
которые Хомский обрушивает на читателя (некоторые из них уже приводились выше): способность ребенка говорить аналогична его способности дышать или иметь две руки, различие языковых способностей у
людей можно сопоставить с различием форм и характеристик сердца,
способность ребенка к языку аналогична способности птиц к строительству гнезд или к производству характерных звуков и т. д.26. Не
доказывая ничего по сути, они выступают как важное средство убеждения читателя.
Перейдем ко второму блоку. В обращении Хомского к рационалистической традиции XVII–XVIII веков можно выделить три составляющие. Первая (и наиболее важная для нас) связана с проходящими
сквозь все его работы и во многом определяющими их структуру и
эволюцию взглядами о том, что представляет собой подлинно научная
теория. Так, он отказывается считать подлинными науками описательные дисциплины, к которым относит, например, социологию или
естественную историю. Эти дисциплины, по его мнению, включают в
себя массу интересных наблюдений, определенное число генерализаций, но не предлагают универсальных объяснительных принципов.
Американский лингвист демонстрирует различие между подлинными
и неподлинными науками, предлагая два различных понимания слова
«интересное» (interesting). Факты и наблюдения социологии и естественной истории интересны сами по себе, как интересна новелла,
например; факты физики, часто не содержа в себе ничего любопытного для стороннего наблюдателя, интересны как возможность подтвердить или опровергнуть фундаментальные теоретические предсказания
(Chomsky 1998 (1977), p. 56–59, ср. р. 78–79, 179). Физика Ньютона,
сводящая громадное разнообразие не имеющих, на первый взгляд,
между собой ничего общего явлений (таких, как падение яблока на
землю и движение планет вокруг Солнца) к одной охватывающей их
закономерности (закону всемирного тяготения) воспринимается Хом-
�22
Часть I. Модели языка как автономной системы
ским как идеальный прототип подлинно научной теории. Способность
к языку, по Хомскому, является столь же универсальным свойством
человека, как способность притягиваться к другим телам – свойством
природных объектов, и поэтому лингвистика, если она претендует на
статус подлинной науки, должна опираться на простые и универсальные закономерности, аналогичные открытым Ньютоном 27.
Еще одним фундаментальным методологическим утверждением
Хомского, которое, однако, не лежит в основании его взглядов на язык,
а, скорее, представляет собой универсальное обобщение этих взглядов,
является представление об ограниченности теоретических моделей,
которые может создавать человек, и о предопределенности возможного спектра моделей его антропологическими особенностями. Американский лингвист опирается здесь на представление Декарта о врожденных человеку идеях и на предложенное Пирсом понятие абдукции
(Chomsky 2006, p. 79–80). В целом за позицией Хомского стоит вырастающее из его понимания языка представление о конструируемых
человеком моделях реальности как результате неограниченного использования ограниченного набора ресурсов28.
С данной установкой связано и предложенное Хомским противопоставление проблем (problems) и мистерий (mysteries). Под проблемами он понимает возникающие в процессе познания вопросы, которые
допускают корректные и верифицируемые ответы, подтверждающиеся
всем ходом развития науки (например, по каким законам тела притягиваются друг к другу); под мистериями – вопросы, ответы на которые все еще так же темны, как и много лет назад, несмотря на кипы
бумаги, переведенные для их разрешения (например, проблема существования и внутренней организации иных, отличных от человеческого, типов сознания). Мистерии характеризуют ограничения человеческого познания, и в этом смысле мистерии для людей отличаются от
мистерий для крыс или для условных марсиан, например29.
Вторая и третья составляющие в обращении Хомского к рационалистической традиции XVII–XVIII веков связаны соответственно с
утверждениями о врожденном характере языка и уникальности присущей людям языковой способности30 и с непосредственным грамматическим и логическим анализом, с попытками выявления глубинных
грамматических структур, предпринятыми в различных трактатах
XVII–XVIII веков31.
Если же говорить об обосновании Хомским конкретных лингвистических наблюдений, то ключевой здесь оказывается процедура
интроспекции, которую мы обсудим чуть ниже.
Глава I. Мировоззренческие основания и методология генеративной грамматики
23
1.3. Критика методологических установок Хомского
и его ответы оппонентам
Постоянно ведущаяся полемика с разнообразными оппонентами составляет важную черту научного портрета Хомского. В разные периоды его активными критиками были Дж. Сёрль, У. Куайн, Х. Патнэм,
Дж. Лакофф и М. Джонсон 32. Важными интеллектуальными событиями 70-х стали диспуты Хомского, в частности, с Ж. Пиаже и М. Фуко 33.
Опуская критику Хомского в советский период, имеющую мало отношения к науке, среди отечественных авторов, критически анализирующих подход Хомского, можно назвать Я. Тестельца, А. Кравченко,
Е. Кубрякову 34. При этом исходный аргумент американского лингвиста в этих спорах сводился к тому, что его неправильно интерпретировали, что его теории придали существенно иной, иногда прямо противоположный ей смысл35. Это утверждение можно считать справедливым
лишь отчасти. Во-первых, как уже отмечалось, Хомский последовательно менял свою позицию, что приводило к проблемам в интерпретации. Во-вторых, неопределенность введенных базовых категорий
всегда оставляла ему возможность для маневра, и теория генеративной
грамматики чем-то напоминает Протея, при необходимости резко изменяющего свой облик.
Опуская частности и неизбежные в полемике эмоциональные высказывания, основные методологические замечания к программе
Хомского можно сформулировать следующим образом:
1. Несмотря на огромный массив сделанных в рамках генеративной
грамматики частных наблюдений и выявленных закономерностей,
носящих более или менее универсальный характер, научная программа Хомского в целом напоминает скорее идеологическую или квазирелигиозную систему, чем научную теорию. Необходимым условием
научности теории является ее опровержимость, неопровержимая теория
(все происходит согласно судьбе, например) не может считаться научной.
Здесь уместно вспомнить один фрагмент из работы К. Поппера
«Предположения и опровержения», который достаточно точно характеризует положение дел. Иллюстрируя необходимость проведения
демаркационной черты между наукой и псевдонаукой, Поппер пишет
о своих юношеских сомнениях в научном статусе марксистской теории
истории, психоанализа и индивидуальной психологии А. Адлера. С его
точки зрения, научная слабость этих теорий состояла в легкости, с
которой они интерпретировали в свою пользу любой новый факт, в их
поистине неограниченной объяснительной силе. Так, общая теория
относительности Эйнштейна делала кажущиеся невероятными предсказания (например, предсказала красное смещение), и Эйнштейн
�24
Часть I. Модели языка как автономной системы
предлагал крайне рискованные для созданной им теории эксперименты, которые, в случае отрицательного результата, наносили бы по ней
сокрушительный удар. В противоположность этому любые факты в
рамках указанных выше теорий с легкостью интерпретировались в их
пользу, придавая основаниям этих теорий характер религиозных догматов36. В изложении оппонентов позиция Хомского близка установкам
Маркса, Фрейда и Адлера: он болезненно относится к контрпримерам
и предпочитает не замечать их или скрываться от них за неопределенностью и неверифицируемостью базовых категорий.
Характерную иллюстрацию приводят Лакофф и Джонсон. Хомский
различает понятия «допустимый» (acceptable) и «грамматически корректный» (grammatical). Первое из них характеризует допустимость предложения с точки зрения обычного носителя языка, второе свидетельствует о том, что оно построено по моделям генеративной грамматики. Это
дает ему возможность трактовать приводимые его оппонентами примеры, нарушающие универсальность открытых закономерностей, как
допустимые, но не корректные грамматически (например, связанные с
поверхностными эффектами, но не затрагивающие структуру Универсальной грамматики как системы). Таким образом, теория оказывается
неопровержимой, но при этом теряет свой научный статус37.
Нельзя сказать, что Хомский не реагирует на подобные обвинения
генеративной грамматики в неверифицируемости. Он постоянно подчеркивает, что все базовые постулаты его теории – лишь эмпирические
гипотезы, и он готов поменять их, если на то появятся серьезные основания. С другой стороны, он утверждает, ссылаясь на подробно описанные историками науки сюжеты, что никакая теория не должна
объяснять все. Ее эмпирическая сила определяется масштабом и широтой обобщений, но при этом всегда остаются факты, на первый
взгляд, противоречащие ей или не объяснимые в ее рамках. Они не
отменяют теорию, но могут относиться к реальностям иного рода,
интерпретируемым иными системами, или даже к мистериям, показывающим ограничения человеческого познания в целом. Так, обретение словом значения связано с работой поверхностных интерфейсов,
которая характеризуется весьма сложным взаимодействием с другими
когнитивными системами, и на объяснение этого процесса Хомский
не претендует38.
Пытаясь описать позицию Хомского «без гнева и пристрастия»,
следует признать, что она имеет двойственный характер. С одной стороны, американский лингвист прекрасно осознает отличия науки от
псевдонауки и важность принципа фальсифицируемости для научной
теории39. Более того, нельзя не признать, что его взгляды претерпевают существенную эволюцию (Минималистскую программу отделяет
от Стандартной теории огромная дистанция), поэтому обращенные к
Глава I. Мировоззренческие основания и методология генеративной грамматики
25
нему обвинения в косности и догматизме не совсем уместны. Однако
эта эволюция происходит по особым, сложно соотносящимся с внешней реальностью законам, определяющим вектором для которых является стремление создать лингвистическую теорию, аналогичную по
фундаментальности и простоте базовых принципов теории тяготения
Ньютона. Всякие сомнения в том, что такая задача в принципе выполнима, что законы организации языка столь же просты и универсальны, сколь универсален закон всемирного тяготения, безжалостно
отбрасываются им, и он защищается от такого рода нападок своих
коллег приемами, аналогичными описанным Лакоффом и Джонсоном.
Факторы, размывающие базовые установки Хомского (социокультурная природа языка, язык как средство коммуникации и т. д.), воспринимаются как не имеющие отношения к делу, и здесь Хомский использует в полной мере свой дар полемиста, сокрушающего оппонентов неожиданными и яркими примерами (пусть даже они после
тщательного рассмотрения оказываются сомнительными или просто
некорректными). Более подробное обсуждение метода Хомского ведет
нас к следующему пункту полемики – вопросу о критериях истинности
сделанных в рамках генеративной грамматики утверждений.
2. Оппоненты американского лингвиста указывают на то, что ключевым критерием истинности в его методологии является его собственная лингвистическая интуиция, которую он никак не объективирует и
не проверяет внешними средствами, т. е. критерий интроспекции. В
этом Хомский проявляет себя как убежденный последователь Декарта.
Он прямо говорит о том, что лингвистика работает с идеальным носителем языка, свободным от таких ограничений, как несовершенство
памяти, переключение внимания и интереса, возможные языковые
ошибки, и оставляет в стороне массу других «фоновых характеристик»,
которые присущи ученому-лингвисту: собственные методологические
пристрастия, привязанность к создаваемым им теориям, включенность
в конкретный профессиональный и социкультурный контекст и т. д.
(Chomsky 1965, p. 3–4). Необходимость (и принципиальная возможность) отделения универсальной интуиции от искажающего идеальную
картину фона в работах Хомского не обсуждается40.
Постулаты, на которые опирается Хомский, говоря о верификации
и фальсификации теории, можно проиллюстрировать на следующем
примере. Обосновывая верифицирумость утверждения о врожденном
характере языковой способности у человека, Хомский приводит характерную цитату из Декарта: необходимым условием восприятия
ребенком треугольной фигуры, нарисованной на бумаге, является наличие в его сознании идеи истинного треугольника, с которой он соотносит эту фигуру, когда смотрит на нее. По мнению Хомского, этот
тезис можно проверить, фиксируя с помощью компьютера нейронные
�26
Часть I. Модели языка как автономной системы
схемы, возбуждающиеся при считывании глазом информации с линий,
образующих этот треугольник (Chomsky 2006, p. 73–74).
Нельзя сказать, что приведенное обоснование выглядит убедительно. Непонятно, с чем будет соотносить Хомский зафиксированные
компьютером нейронные схемы, что будет выступать в качестве образца, как эксплицировать это знание идеального треугольника, которым обладает его носитель – ведь истинный треугольник не дан нам в
опыте. Здесь у Хомского происходит ключевое для его методологии
смешение идеального языкового субъекта (или идеального картезианца) и реального человека, который ничего не знает об идеальных
схемах, которым он должен удовлетворять. Американский лингвист
ничего не говорит о том, как «вычистить» пласт эмпирической реальности у обычного человека, как превратить его в идеального «носителя языка», чьей интроспекции можно доверять. Создается впечатление,
что Хомский считает этот переход самоочевидным и в исследованиях
отождествляет себя с таким идеальным субъектом.
При этом неверно было бы утверждать, что Хомский не обсуждает
других критериев верификации разрабатываемой им модели. Однако
отсылки к ним носят случайный и во многом вынужденный характер.
Если лингвистика трактуется как область психологии, можно говорить
о двух типах экспериментальной проверки предлагаемых в ее рамках
теорий.
Во-первых, это психолингвистические эксперименты. Когнитивистами и когнитивными лингвистами собран богатый экспериментальный
материал, описывающий формирование и эволюцию системы языковой
компетенции и ее взаимодействие с другими системами человеческого
организма. Американский лингвист, как уже отмечалось, крайне неохотно обращается к собранной в этой области экспериментальной базе, и
его интерпретация отдельных экспериментов носит идеологический
характер (выбираются только те данные, которые наглядно подтверждают, по Хомскому, базовые положения генеративной грамматики). Мне
неизвестны описания экспериментальных исследований, осуществленных непосредственно под руководством Хомского.
Во-вторых, таким материалом являются лингвистические наблюдения над различными языками, дающие возможность проверить
универсальность сделанных утверждений. Проблема здесь состоит в
том, что правила генеративной грамматики не должны знать исключений, поэтому любые контрпримеры разрушают базовые теоретические конструкции, что ведет к необходимости избавляться от них
(например, путем различения «допустимых» и «грамматически корректных» предложений). Статистика, свидетельствующая о большей
или меньшей универсальности синтаксических моделей, не несет полезной информации для генеративной грамматики как идеального
Глава I. Мировоззренческие основания и методология генеративной грамматики
27
проекта, что фактически закрывает для нее возможность экспериментальной проверки, опирающейся на компаративные исследования41.
Резюмируя, можно сказать, что базовым критерием истинности для
Хомского является интроспекция, определяющая описанные выше и
некоторые другие особенности его научной программы, вокруг которых
ведется полемика.
3. Одной из таких особенностей является утверждение о врожденности присущей человеку языковой способности. Критики Хомского
обращают внимание на принципиальную неверифицируемость этого
тезиса: непонятно, как терминологически описывать подобную «врожденность», какие конкретно биологические механизмы за ней стоят.
Хомский отстаивает свой тезис тремя способами. Основной из
них – хорошо известное утверждение о «бедности стимула», т. е. уже
подробно описанный выше аргумент, отсылающий к невероятной
интенсивности освоения ребенком языка на крайне ограниченном
фактическом материале42. Замечу еще раз, что данное утверждение
выглядит для Хомского самоочевидным. Многочисленные экспериментальные исследования процессов овладения ребенком языка в
раннем детстве почти не используются им в качестве аргументации.
Второй способ – использование разнообразных метафор, подчеркивающих физиологический базис языковой способности, формирующих представление о языке как ментальном органе человека. Так,
полемизируя с интеракционистами, для которых главным фактором
при освоении языка является взаимодействие с внешней природной и
социокультурной средой, Хомский находит в их позиции прямую аналогию абсурдному утверждению, что развитие эмбриона определяется
его взаимодействием c внешним окружением (Chomsky 2000, p. 101).
Третий аргумент звучит весьма неожиданно и обращает нас к обсуждаемому в предыдущем пункте высказыванию Декарта. Хомский
утверждает, что можно сделать компьютерную программу, которая выстраивала бы подробный путь от глубинных структур к заданным поверхностным структурам в соответствии с принципами генеративной
грамматики, эксплицировав таким образом в каждом конкретном
случае работу языкового модуля в человеке. Однако, даже если предположить наличие соответствующей компьютерной программы (возможность конкретной реализации данной идеи вызывает большие
сомнения), восстановление указанной цепочки не будет означать описания процесса реального развития языка43. Мы снова сталкиваемся с
ситуацией подмены живого человека созданным в рамках определенной
теории идеальным конструктом.
4. С такого рода подменой связан и еще один часто адресуемый
Хомскому упрек в том, что он выстраивает естественный язык по модели формального, создавая его из «пустых», не наполненных никаким
�28
Часть I. Модели языка как автономной системы
содержанием элементов, преобразующихся по формальным законам.
Отметим, что и здесь ситуация оказывается двойственной. С одной
стороны, Хомский неоднократно подчеркивает, что естественный язык
представляет собой уникальную структуру и не имеет никаких аналогов среди формальных языков. Так, важнейшим элементом «языкового модуля» человека наряду с вычислительной системой является
лексикон, несущий определенную семантическую информацию, так
что базовые элементы естественного языка нельзя считать пустыми.
Тем не менее, приведенные выше отсылки американского лингвиста
к компьютерным программам, адекватно моделирующим языковую
способность, равно как и сам используемый им инструментарий, дают
возможность трактовать естественный язык в его модели как особую
формальную систему, пусть и отличающуюся кардинально от других
формальных систем.
5. В заключение следует акцентировать внимание на еще одном
элементе полемики, объединив при этом два сюжета: автономию языковой системы как когнитивного модуля человека и автономию синтаксиса в рамках языковой системы. Оставляя в стороне вопрос о
широко обсуждаемой в рамках когнитивной грамматики семантической
нагрузке синтаксических конструкций и ключевую в данном контексте
реплику Хомского о поверхностных эффектах, которые находятся вне
поля его интересов44, я бы хотел остановиться на крайне показательной
дискуссии Хомского и Пиаже, касающейся автономии языковой системы. Частично соглашаясь с утверждением Хомского о независимости синтаксиса, Пиаже говорит, что использование гипотезы врожденности для его обоснования является слишком сильным и плохо верифицируемым тезисом и что существуют более простые способы
объяснения, отсылающие к социальному опыту ребенка в раннем
детстве. Так, ребенок оказывается в состоянии разделять содержание
и структуру, т. е. «семантику» и «синтаксис» в ежедневно осуществляемых действиях (например, осознавать, что открывание коробки и
открывание рта или раскрытие сжатой в кулак ладони обладают структурной общностью45). Подобные примеры показывают, что важным
элементом в осознании относительной автономии синтаксиса и отделении синтаксических конструкций от их наполнения является
перцептивный и проприоцептивный опыт человека. Хомский возражает на это следующим образом. В такой ситуации, по его мнению,
одним из путей проверки гипотезы Пиаже о влиянии сенсомоторного
интеллекта на освоение языка становится экспериментальное исследование процесса овладения языком детьми с остро выраженными
формами моторной и перцептивной недостаточности (больными церебральным параличом, например). Он не знаком с такими исследованиями, но, насколько он знает, слепые дети осваивают язык при
Глава I. Мировоззренческие основания и методология генеративной грамматики
29
прочих равных условиях даже быстрее, чем зрячие (Lust, Foley 2004,
p. 95). Следовало бы ожидать, что в силу важности такого рода исследований для подтверждения его теории Хомский обратится в своих
работах к подробному их анализу, но ничего подобного не происходит.
Более того, экспериментальные исследования освоения языка слепыми
детьми показывают, что реальная картина крайне сложна, что такие дети
испытывают изначальные трудности в освоении языка по сравнению со
зрячими сверстниками, которые преодолеваются затем за счет различных
компенсаторных механизмов (Mills 1983; Pérez–Pereira, Conti–Ramsden
1999). Результатом становится присущий им особый тип языкового сознания, характеризующегося целостным, образным (т. е. предполагающим большую эмоциональную окраску и менее четкую логическую
структуру) восприятием в отличие от аналитического владения языком,
более характерного для зрячих детей (Pérez–Pereira, Conti–Ramsden 1999,
p. 134). Такая образность вполне укладывается в гипотезу Пиаже и
противоречит базовым установкам теории Хомского.
Приведенный пример наглядно демонстрирует методологические
установки Хомского и специфику его взаимоотношений с экспериментальной традицией.
Завершая данную главу, хотелось бы еще раз отметить, что, хотя
Хомский и не занимался семантикой вплотную, влияние его базовых
методологических установок и мировоззренческих постулатов (обращение к рационалистической традиции XVII–XVIII веков, формальное
описание языка, сводящее его к небольшому набору универсальных
правил, независимость языковой системы от социокультурного контекста и т. д.) на дальнейшее развитие семантики огромно. Тому, как
конкретно оно проявляется в претендующих на универсальность семантических теориях и что нового появляется в них, посвящена вторая
глава.
Примечания
Я опускаю здесь анализ ряда влиятельных работ, например, исследований Дж. Фодора (Fodor 1975; Fodor 1983), выполненных в рамках изоляционистской парадигмы,
поскольку такой анализ не привнес бы ничего принципиально нового в теоретическом
плане. Критические замечания, обращенные в данной главе к методологии Н. Хомского
или А. Вежбицкой, могут быть высказаны и в их адрес.
2
Сочетание «научно-исследовательская программа» понимается здесь в терминологическом смысле, так, как оно было введено в работе И. Лакатоса (Лакатос 1995 (1970)).
3
См.: Тестелец 2001, с. 502–504; Величковский 2006, т. 1, с. 64–67; Harris 1993, p. 37,
47; Кубрякова 2004, p. 49; Lakoff, Johnson 1999, p. 469–470; Lycan 2003, p. 11; Wierzbicka
1996, p. 6. Однако анализ генеративной грамматики будет существенно неполным, если
не учитывать также и исследований коллег Хомского, в частности, работ Дж. Катца
и П. Постала, Дж. Маккоули, Х. Росса и других по генеративной семантике, а также
Г. Ласника и других в рамках минималистской программы.
4
См.: Chomsky Is Citation Champ // MIT Tech Talk. v. 36, № 27, April 15, 1992.
1
�30
Часть I. Модели языка как автономной системы
Об эволюции проекта генеративной грамматики в 50–70-е годы см., например, монографии Дж. Ньюмейера ([Newmeier 1996, базовая схема, лежащая в основе исследования, описана на стр. 42–43) и Р. Харриса (Harris 1993).
6
C другой стороны, Хомский говорит о происхождении математической способности
как абстракции лингвистических операций, устанавливая тем самым прямую связь между лингвистикой и математикой (Chomsky 2006, p. 184–185).
7
См.: Chomsky 1998 (1977), p. 190–191, где Хомский прямо пишет, что вопрос языка –
это, в первую очередь, вопрос власти, а также Chomsky 2000, p. 31.
8
Даммит иллюстрирует это утверждение типичной для него метафорой игры: знание
(часто неполное) правил игры кем-либо из игроков еще не свидетельствует о том, что
игрок создает эти правила. См.: Dummett 1991, p. 86–87.
9
«…a rational Martian scientist studying humans might not find the difference between English
and Navajo very impressive» (Chomsky 2000, p. 27).
10
Хомский неоднократно цитирует высказывание Гумбольдта о том, что система языка
строится благодаря неограниченному использованию ограниченных средств (Chomsky
1965, p. V; Chomsky 2000, p. 6, 73; Chomsky 2006, p. 15).
11
См., напр.: Chomsky 1998 (1977), p. 49–52. Здесь Хомский проводит, в частности,
любопытную параллель между генеративной грамматикой и системой распознавания
лиц. Предлагая задуматься над тем, как сложно устроено каждое подобное действие,
осуществляемое нами интуитивно (мы идентифицируем лица в движении, правильно идентифицируем лицо человека, которого мы не видели несколько лет и т. д.), он
утверждает далее: «It is possible that the theory of face perception resembles a generative
grammar. Just as in language, if you suppose that there are base structures and transformed
structures, then one might imagine a model which would generate the possible human faces,
and the transformations which would tell you what each face would look like from all angles»
(ibid., p. 52).
12
См., напр.: Thagard 2005, p. 6, 34, 50–51, 59; Величковский 2006, т. 1, с. 64–67; Bermúdez
2010, p. 16, 17, 24, 27, 31.
13
Хомский прямо говорит о такой возможности (см.: Chomsky 2006, p. 170).
14
Впрочем, в другом месте Хомский выражает данное различие противопоставлением
teach и learn. Мы научаемся (learn) грамматике, но не учимся (are taught) ей как учимся,
например, решать задачи на уроках физики (Chomsky 1998a (1975), p. 161).
15
Конкретные примеры см. в: Chomsky 1965, особ. р. 64–75; Chomsky 2006, p. 21–56,
134–136. В качестве простейшей приводимой Хомским иллюстрации различия между
глубинной и поверхностной структурами можно сослаться на высказывание A wise man
is honest, которая на уровне глубинной структуры сводится к высказыванию A man who is
wise is honest, выраженному в виде графа (Chomsky 2006, p. 25–26). Другой иллюстрацией
может быть сопоставление предложений I persuaded the doctor to examine John и I expected
the doctor to examine John, имеющих почти совпадающую поверхностную структуру, но
существенно различающихся на глубинном уровне. Это проявляется при трансформации данных предложений в пассивную форму: I persuaded John to be examined by the doctor
и I expected John to be examined by the doctor. Второе предложение имеет ту же область
истинности, что и его активная форма, первое – нет и непосредственно не связано с высказыванием в активной форме. Хомский объясняет это различие, приводя следующие
глубинные структуры для данных предложений: I past persuade the doctor of that the doctor
AUX examine John и I past expect it that the doctor AUX examine John (рast обозначает прошедшее время, AUX – вспомогательный глагол) (Chomsky 2006, p. 134–136).
16
«Thus, the semantic component, if formulated correctly, provides an explanation of the
speaker»s ability to determine the meaning of any sentence, including ones wholly novel to him,
as a compositional function of the antecedently known meanings of the lexical items in it» (Katz,
Postal 1964, p. 14–15).
17
Следует заметить, что эта установка, впрочем, как и общие методологические
основания подхода, имеет прямые аналогии в модели «семантических примитивов»
5
Глава I. Мировоззренческие основания и методология генеративной грамматики
31
Вежбицкой–Годдарда. См. об этом во второй главе данной монографии. О влиянии гипотезы Катца – Постала на модель «Смысл–Текст» см.: Тестелец 2001, с. 605.
18
Здесь необходимо отметить работы Х. Росса, Дж. Маккоули, Дж. и Р. Лакоффов. Как
иллюстрацию характера полемики и предлагаемых подходов см., напр.: McCawley 1968.
История сюжета изложена в Harris 1993; Huck, Goldsmith 1995; Newmeyer 1996.
19
См. об этом: Newmeyer 1996, p. 120–121. Ср. Green 1974, p. 6–7.
20
Интересно, что, иллюстрируя зависимость значения от внешних факторов, Хомский
в определенных ситуациях использует идеи философов и лингвистов, стоящих на иных
методологических позициях. В частности он приводит любопытный пример, заимствованный у Дж. Остина: предложение Нью Йорк отстоит от Бостона на 200 миль будет
истинным, если связано с вопросом, как долго (четыре часа или четыре дня) ехать из
Бостона в Нью Йорк на машине, и ложным, если при расчете бензина на дорогу вы исходите ровно из этой цифры, а реальное расстояние составляет 210 миль (Chomsky 1998
(1977), p. 173).
21
См. о ней: Chomsky 1995, p. 13–128; Тестелец 2001, с. 554–613.
22
Chomsky 2006, p. 21, 88. Ср.: Chomsky 1998 (1977), p. 98.
23
Chomsky 2006, p. 100. Ср.: Chomsky 1998 (1977), p. 63; Chomsky 1998a (1975), p. 4, 161,
173; Chomsky 2000, p. 61–62, 120.
24
В тех редких случаях, когда Хомский ссылается на данные экспериментов, бросается
в глаза явная предзаданность интерпретаций, допускающих прямо противоположные
толкования. Так, он упоминает исследование Л. Глейтман (Gleitman 1990; см. также:
Fisher et al. 1994), где утверждается, что, по интерпретации Хомского (и отчасти автора статьи), маленькие дети осваивают значение придуманных экспериментатором слов,
опираясь на синтаксические конструкции, в которые эти слова помещаются (Chomsky
2000, p. 122). Однако при этом упускается из виду, что каждая такая конструкция сопровождается наглядной демонстрацией синтаксически заданного действия, и гораздо
более убедительным в данном случае кажется утверждение, что ребенок реагирует не на
универсальные синтаксические закономерности, а на конкретную ситуацию.
Пожалуй, наиболее интересным из экспериментальных «доказательств» модели
Хомского, кажется исследование Н. Смита и коллег, в котором они описывают некоего Кристофера, получившего в младенчестве мозговую травму и испытывающего серьезные проблемы в координации, в осуществлении повседневных бытовых действий,
трудности в выполнении ряда простейших интеллектуальных тестов, но одновременно обладающего способностью переводить с 16 языков на английский (Smith, Tsimpli
1995; ср. Chomsky 2000, p. 121). Однако и в этом исследовании теоретическая рамка,
в которую оно помещалось, определялась конкретной теорией (Теорией принципов и
параметров), что до известной степени предопределило интерпретацию. Исследование
похожих по ряду внешних характеристик психологических феноменов, в котором перед
испытуемым ставятся иные вопросы и задается иная проблемная рамка, показывают,
что результаты исследования могут эксплицировать психологические механизмы, весьма далекие от интерпретации Хомского. См.: Лурия 1994.
25
Так, например, крайне сомнительным выглядит утверждение Хомского, что, строя
вопрос к фразе «The man who is tall is in the room», ребенок безошибочно произносит «Is
the man who is tall in the room?» вместо «Is the man who tall is in the room?» (Chomsky 1998a
(1975), p. 173–174). Сложно представить себе ребенка, который произносит подобные
фразы в устной речи.
26
См.: Chomsky 2006, p. 152; Chomsky 1998a (1975), p. 38, 155.
27
См.: Chomsky 1995a, p. 3–4; Chomsky 1998 (1977), p. 78; Chomsky 2000, p. 83–84, 108–
109, 166; Chomsky 2006, p. IX, 174, 180. Важно отметить, что, подчеркивая корректность
проведенной параллели, Хомский настаивает на природном характере языка, принципиально не отличающем его от физических объектов, и устанавливает прямые соответствия между лингвистическими и физическими теориями, а также между «наивной
лингвистикой» и «наивной физикой» (Chomsky 2000, p. 106–133).
�32
Часть I. Модели языка как автономной системы
Хомский иллюстрирует соединение в человеческом познании ограниченности и бесконечности образом целых и действительных чисел: ряд целых чисел бесконечен, но
целые числа составляют ничтожную часть более обширного класса – класса действительных чисел (Chomsky 1998a (1975), p. 124).
29
См.: Chomsky 1998a (1975), p. 137–138; Chomsky 2000, p. 83, 107; Lycan 2003, p. 22–23;
Chomsky 2003, p. 262.
30
См.: Хомский 2005 (1966), с. 23–28; Chomsky 2006, p. 9–12.
31
См.: Хомский 2005 (1966), с. 74–110; Chomsky 2006, p. 13–17. Хорошей иллюстрацией
интерпретации Хомского является приведенный в его работах анализ авторами «Грамматики Пор-Рояля» высказывания «Невидимый Бог сотворил видимый мир», в котором
ими выделяется уровень слов («невидимый Бог» «сотворил», «видимый мир») и уровень
смыслов (суть предложения здесь сводится к трем утверждениям: «Бог невидим», «Мир
является видимым», «Бог сотворил мир»).
32
См.: Quine 1969; Searl 1972; Putnam 1988, p. 4–7; Lakoff, Johnson 1999, p. 469–512.
33
См.: Lust, Foley 2004, p. 64–97; Chomsky, Foucault 2006.
34
См.: Тестелец 2001, с. 654–663; Кравченко 2001, с. 24–27; Кубрякова 2004, с. 33–34.
35
См., напр.: Chomsky 1998a (1975), p. 55–58; Chomsky 2000, p. 184–187. Замечу, что я не
встретил ни одного текста, в котором Хомский явно признал бы возражения оппонентов
справедливыми, согласившись с их доводами.
36
Cм.: Popper 1962, p. 33–39 (русский пер.: Поппер 1983, с. 240–244).
37
См.: Lakoff, Johnson 1999, p. 493. Здесь уместно вспомнить историю Лакатоса о ньютонианце, объяснявшем расхождение между результатами теории и данными эксперимента
неучтенностью некоторых граничных условий (таких, как новая планета, например, или
облако космической пыли). См.: Лакатос 1998, c. 24–28. Лакофф упоминает в данном контексте о тезисе Дюгема–Куайна, который представляет собой универсальное обобщение
подобной стратегии. Как показывает Лакатос, данная стратегия иногда оказывается вполне позитивной в научном плане, защищая теорию от чрезмерного радикализма.
38
Так, из предложения «John have lived in Princeton» мы можем заключить, что Джон –
человек (а не собака, например), что Принстон – место, обладающее определенными
физическими и социокультурными характеристиками, что Джон сейчас жив и т. д. Однако закономерности, ведущие к подобным утверждениям, столь сложны и запутанны,
что их корректное научное описание пока невозможно (Chomsky 2006, p. 52–53).
39
См., напр.: Chomsky 2006, p. 73.
40
В книгах и статьях 60–70-х годов Хомский говорил о достаточности подробного изучения одного языка (например, английского) для выявления структуры языковой способности человека, так как человечество едино и итоговые выводы не должны зависеть
от того, на каком материале они делаются. Это утверждение служит опорой и для его обращения к критерию интроспекции: language faculty одинакова для всех людей, поэтому
не имеет значения, кого конкретно взять за образец.
41
Ср.: Тестелец 2001, c. 657–658.
42
Хомский дополняет этот тезис утверждением о творческом характере нашей языковой компетенции, т. е. способности носителя языка создавать в обычной речи новые
лексические конструкции на основании уже имеющихся.
43
Предложенная программа может быть формальной моделью, не имеющей ничего общего с процессом освоения языка человеком. Так, одни и те же физические факты могут
быть объяснены в рамках классической и квантовой механики, теорий, опирающихся
на принципиально различные базовые постулаты и использующих несопоставимый математический аппарат.
44
См., напр.: Lakoff, Johnson 1999, p. 480–486; Langacker 2000, p. 1–44.
45
Я привожу пример Пиаже полностью, ввиду его методологической важности: «I was
able to observe a beginning of this symbolic function in two of my children. First, in one of my
daughters: I showed her a half-opened box of matches, and while she watched I put an object in
it (a thimble; I must specify that it was not something to eat, and we shall see why). The child
28
Глава I. Мировоззренческие основания и методология генеративной грамматики
33
tried to open the box to reach the object that was inside. She pulled on all sides, but nothing
happened; finally she stopped, looked at the box, and opened and closed her mouth. This was
the symbolization of what she had to do (since there was nothing good to eat inside). A new
fact confirmed this interpretation: I repeated the experiment four years later with my son, at
the same age, and he, instead of opening and closing his mouth when he did not succeed in
opening the box, looked at the slit and at his hand, and then opened and closed his hand. It was,
therefore, the same symbolization. This time, the hand was used instead of the mouth, but one
immediately sees that it is again the representation of the goal to be reached (besides, once this
evocation was over, he stuck his finger in the slit and started to pull). The two children, four years
apart, resolved the problem only after this symbolic evocation» (Lust, Foley 2004, p. 97). Ср.
описание В.Н. Романовым «конъюнктивных» и «дизьюнктивных» действий как ключевого элемента связи повседневных бытовых операций (выметание сора из избы, печение
хлебов) и обрядовых действий в культуре русского крестьянства (Романов 1991, с. 23–63;
Романов 2003, с. 68–181). Кажется, что такое наполнение «синтаксических» конструкций новым содержанием является одним из универсальных способов порождения новых культурных текстов (см. об этом: Глебкин 1998, с. 73–109, 121–140).
�Глава 2. Мировоззренческие основания и методология...
Глава 2. Мировоззренческие основания
и методология изоляционистских теорий
в области лингвистической семантики
В данной главе речь пойдет о теориях, которые условно можно назвать
фундаментальными1. В лексической семантике, как, впрочем, и в любой
другой области науки, существует значительное число моделей ad hoc,
более или менее успешно обслуживающих практические нужды исследователей в определенной локальной ситуации. Эти модели не претендуют на фундаментальность, их цель состоит в решении конкретных
практических задач. Наряду с этим в областях знания, вышедших на
уровень «нормальной науки» (Т. Кун), есть теоретические алгоритмы,
задающие базовую парадигму для описания всех явлений в данной области, выступающие в ее рамках как универсальные объяснительные
модели. В классической механике, например, эту функцию выполняют
законы Ньютона, включая закон всемирного тяготения, в классической
электродинамике – уравнения Максвелла. Мы остановимся в данной
главе на теориях в области лингвистической семантики, которые претендуют на фундаментальность, исходя при этом из модели языка как
автономной системы. В качестве таких теорий мы рассмотрим две: NSM
(natural semantic metalanguage)-концепцию Анны Вежбицкой и модель
«Смысл⇔Текст» Мельчука–Апресяна–Жолковского 2.
Идея естественного семантического метаязыка как основы для
универсального семантического описания была предложена Вежбицкой
в начале 70-х (в 90-е годы к разработке теории активно подключился
Кл. Годдард). В это время основные работы, в которых описывался
мировоззренческий базис и методология генеративной грамматики,
были уже опубликованы, и, несмотря на критику Вежбицкой позиции
Хомского 3, ее онтологические постулаты оказываются весьма близкими его установкам4.
Для снятия возможных недоразумений нужно сразу подчеркнуть,
что Вежбицкая как автор NSM-теории и как практически работающий
лингвист производят впечатление двух разных людей. Лейтмотивом ее
35
статей и монографий, посвященных работе с конкретным материалом,
является утверждение о культуроспецифичности анализируемых понятий, которое часто обосновывается тщательным социокультурным
анализом, а в ряде случаев дополняется выявлением определяющего
влияния социокультурных факторов на семантическую эволюцию5.
Более того, иногда, ощущая невозможность описания семантических
процессов в рамках NSM-теории, Вежбицкая создает ряд теорий ad
hoc, решающих локальные задачи6. В целом, можно сказать, что в непосредственном анализе она неявно исходит из антропоцентричной и
культуроцентричной модели языка, кардинально противоречащей по
своим мировоззренческим установкам концепции семантических примитивов. Этой составляющей ее исследований мы коснемся в следующих разделах книги. В данной главе речь пойдет о Вежбицкой исключительно как авторе NSM-теории.
Обсуждение модели «Смысл⇔Текст» также требует ряда предварительных замечаний. Во-первых, взгляды авторов заметно эволюционировали с середины 1960-х до конца 2000-х, и Ю.Д. Апресян, например,
выделяет свои работы 1990-х – 2000-х годов в отдельный проект, генетически связанный с моделью «Смысл⇔Текст», но обладающий и рядом
принципиальных особенностей. Этот проект обозначается им как «Московская семантическая школа интегрального описания языка и системной лексикографии» (Апресян 2006, с. 25). Однако, несмотря на все
различия, базовые онтологические и методологические постулаты авторов сохранялись, что дает нам право работать, в первую очередь, с моделью «Смысл⇔Текст», отдельно остановившись на поздних работах
Ю.Д. Апресяна и его группы. Во-вторых, в данной главе акцент будет
сделан на семантической составляющей модели. Ее синтаксическая составляющая строится на постулатах, близких постулатам Хомского,
проанализированным в предыдущей главе (ср.: Апресян 1990, с. 124).
Переходя к непосредственному обсуждению, рискну начать с одного «наивного» утверждения. Я думаю, не-лингвист не сможет понять,
что значит «Олег претендует на этот кусок сыра» или «“Спартак” в этом
году претендует на золотые медали» из толкования «Z претендует на
Y» = «Z требует, чтобы Х предоставил Z-у Y, потому что Z считает, что
имеет право получить Y» (Апресян 1995, с. 109) или осознать, каков
смысл выражений «душа болит», «большой души человек», «душа ушла
в пятки», прочитав следующее описание:
душа:
one of two parts of a person
people can»t see this part
because of this part, people are not like other living things
because of this part, a person can feel many things when this person thinks
about something
�36
Часть I. Модели языка как автономной системы
because of this part, a person can be a good person
(because of this part, a person can live with God)
because of this part, good things can happen inside a person
other people can»t know what happens in this part if this person doesn’t
want them to know it
it is good if other people can know it
it is good if a person wants other people to know it (Wierzbicka 2005,
p. 273–274).
Кажется, что следовать подобным описаниям при освоении языка –
все равно, что учиться плавать по инструкции («примите в воде горизонтальное положение», «поднимите левую руку», «погрузите ее в воду
под углом 130–150°», «одновременно совершайте вертикальные движения прямыми ногами» и т. д.).
Обычно на подобную реакцию, в которой я далеко не оригинален,
следует ответ: приведенные описания не предназначены для нелингвистов, они составляют один из элементов лингвистки как строгой
науки (cр., напр., замечание о Толково-комбинаторном словаре в: Мельчук 1995, с. 5–6). Об этой научной строгости в дальнейшем и хотелось
бы поговорить. Строгая наука в ее классическом понимании должна
опираться на непротиворечивую систему методологических принципов,
имеющих характер интуитивной очевидности, и предлагать объективную, т. е. независимую от конкретного исследователя, процедуру верификации получаемых результатов, другими словами, обладать определенными объективными критериями истинности. Попробуем посмотреть, какие методологические принципы лежат в основании моделей
Мельчука–Апресяна–Жолковского и А. Вежбицкой и какие процедуры
верификации сделанных утверждений предлагаются авторами.
2.1. «Естественный семантический метаязык» А. Вежбицкой
Мы начнем анализ с модели А. Вежбицкой, в которой ответы на поставленные вопросы даны более отчетливо. Основные положения NSMконцепции Вежбицкой можно сформулировать следующим образом:
α) В рамках любого языка может быть выделено базовое ядро, состоящее из так называемых «семантических примитивов» – простых,
интуитивно ясных слов, не подлежащих определению. Значение каждого слова данного языка может быть выражено в виде определенной
конфигурации семантических примитивов (Wierzbicka 1972, p. 10–16;
Wierzbicka 1980, p. 2–33; Wierzbicka 1985, p. 336–338; Wierzbicka 1996,
p. 9–12; Goddard 2002, p. 5, 16)7.
α1) На значение слова не влияют значения других слов в лексиконе.
Более того, чтобы сравнивать различные слова или описывать эволюцию семантики какого-либо слова, надо сначала определить сравниваемые значения через семантические примитивы8.
Глава 2. Мировоззренческие основания и методология...
37
β) Между базовыми ядрами различных языков можно установить
взаимнооднозначное соответствие, т. к. все они выражают базовый
набор врожденных ментальных концептов, видимо, характерный для
человека как биологического вида и составляющий часть генетического наследия человека. Данным концептам присуща и определенная
синтаксическая упорядоченность, что позволяет в отношении них
говорить об особом lingua mentalis (Wierzbicka 1972, p. 25–26; Wierzbicka
1980, p. 2–33; Wierzbicka 1996, p. 14–15, 17–21, 28–29, 112–113; Goddard
2002, p. 5,16).
γ) Предложенная модель позволяет сравнивать различные языки
между собой, сводя их к общему основанию, показывать семантическое
богатство и национальную специфику концептов, трактуемых словарями как языковые эквиваленты (Wierzbicka 1980, p. 40–42; Wierzbicka
1996, p. 15–16; Wierzbicka 2005, p. 258–260).
Изложенный выше подход дает, по мнению автора, возможность
решить ряд значимых для семантики проблем: проблему построения
корректного метаязыка описания, проблему «логического круга» в
толкованиях (Wierzbicka 1980, p. 11–14; Wierzbicka 1996, p. 48–49,
274–286), – а также наглядно демонстрирует пути преодоления «семантического агностицизма», сформулированного, как часто утверждается, в работах позднего Витгенштейна и его последователей
(Wierzbicka 1996, p. 237–257, 335).
Прежде чем переходить к обсуждению концепции, следует еще раз
отметить методологическую близость изложенного подхода базовым
постулатам генеративной теории. И утверждение о врожденном характере языковой способности, оформленной в виде некоторого lingua
mentalis, и сама модель семантического описания, отсылающая к базовым постулатам Каца и Постала, описанным в предыдущей главе,
наглядно демонстрируют генетическую связь мировоззренческих установок, лежащих в их основе.
Мы начнем обсуждение концепции Вежбицкой с вопроса о процедуре верификации сформулированных в ней утверждений, среди которых
для нас интересны, в первую очередь, конкретные толкования отдельных
лексем и фразем. Кажется, что такой процедурой должны быть либо
объективные данные, аналогичные показаниям стрелки прибора в физике, либо (т. к. толкование представляет собой выражение значения
слова через врожденные концепты, интуитивно ясные каждому человеку) реакция обычного носителя языка, который интуитивно должен
воспринимать толкование Вежбицкой как истинное. Однако в работах
Вежбицкой мы не найдем ни того, ни другого9. Следует заметить, что
автор NSM-теории не придает описанию процедур верификации большого значения, но из замечаний, которые встречаются в ее работах,
становится понятным, что в качестве критерия истинности толкования
�38
Часть I. Модели языка как автономной системы
выступают сама Вежбицкая и круг людей, профессионально занимающихся лингвистикой, т. е. обычный носитель языка редуцируется до
члена профессионального сообщества. В тех редких фрагментах, где
ставится вопрос о критерии, Вежбицкая прямо называет интроспекцию
главным методологическим основанием для получения результатов.
Иногда (например, при обсуждении folk biological concepts) она говорит
о необходимости проверки результатов опросами информантов, но
конкретных алгоритмов такой проверки, которая сама по себе представляет методологически сложную процедуру, ей не предлагается10.
Можно заметить, что и в этом аспекте позиция Вежбицкой тесно
соприкасается с позицией Хомского. Представление об «идеальном
носителе языка», выступающем в качестве главного критерия истинности сделанных утверждений, и неявное отождествление себя с
таким носителем задают общую для данных исследователей методологическую рамку. Соответственно, и приведенные в предыдущей
главе критические замечания Поппера, отказывающегося признавать
подлинно научными концепциями марксистскую теорию истории,
психоанализ и индивидуальную психологию А. Адлера из-за той легкости, с которой они могли проинтерпретировать в свою пользу
любой экспериментальный факт, могут быть также распространены
и на NSM-теорию. Обладая развитой языковой интуицией, профессиональный лингвист является еще и носителем определенной профессиональной идеологии, и его нельзя считать непредвзятым судьей
созданной им же теории. При отсутствии независимых критериев проверки он всегда будет склонен скорее находить аргументы в ее защиту,
чем ставить ее основания под сомнение. Пока критерием истинности
теории, критерием соответствия экспериментальных фактов ее положениям выступает сам автор и его единомышленники, теория обречена на
квазирелигиозный статус и ее объективная проверка невозможна11.
Перейдем теперь к вопросу о мировоззренческих основаниях теории
естественного семантического метаязыка. А. Вежбицкая отводит заметное место историческим истокам, теоретическому и эмпирическому
обоснованию своей концепции, но в целом приводимая ей аргументация
не снимает, а лишь усиливает высказанные выше сомнения. Опять же,
в полном соответствии с позицией Хомского, мировоззренческие и
методологические основания идеи семантических примитивов Вежбицкая находит в работах философов XVII века, однако, в отличие от американского лингвиста, делает акцент на работах Лейбница. Как она
отмечает, мысль о проведении границы между определяемыми и неопределяемыми понятиями была крайне значима для многих мыслителей
XVII века, и основной вопрос состоял в том, где проводить эту границу,
каковы критерии неопределяемости, семантической простоты (Wierzbicka
1980, p. 4). Если для Декарта и Локка проблема выявления простых по-
Глава 2. Мировоззренческие основания и методология...
39
нятий снималась соображениями интуитивной очевидности, а Дж. Уилкинс настаивал на произвольности выбора «трансцендентальных частиц», лежащих в основе оптимального для коммуникации между
людьми разных национальностей философского языка, то Лейбниц в
поисках «алфавита человеческих мыслей» воспринимал задачу выявления таких понятий как крайне сложную проблему, но считал, что их
выбор не может быть произвольным. Он полагал, что естественный
язык – лучший ключ к языку мыслей и точный анализ значений слов
лучше, чем что-либо другое, демонстрирует нам механизмы понимания.
Вежбицкая называет Лейбница структуралистом par excellence и утверждает, что его идея минимального «ментального алфавита» – не только
операциональный принцип, но и гипотеза о глубинной структуре человеческого мышления (Wierzbicka 1980, p. 4–7, 9–10, а также Wierzbicka
1972, p. 3–7; Wierzbicka 1996, p. 9–10, 11–13, 28, 48, 70–71, 212–213).
Следует отметить, что для мыслителей XVII века – философов, эксплицирующих онтологические основания своих лингвистических описаний, – представления о языке вытекают из представлений о мироздании и человеке в целом, и за описанным Вежбицкой «структуралистским»
образом языка стоят вполне определенные онтологические и гносеологические основания, определенные парадигмы научности, образы космоса и человека. Прежде всего, это механистическое представление о
человеке, характерное как для эпохи в целом, так и для Лейбница, прямым продолжателем семантических идей которого она неоднократно
себя называет (напр., Wierzbicka 1980, p. 9–10; Wierzbicka 1996, p. 13).
Остановимся на мировоззрении Лейбница чуть более подробно.
Одним из ключевых положений немецкого философа является концепция предустановленной гармонии, смысл которой состоит в следующем. Бог, создав наилучший из всех возможных миров, сотворил
его таким образом, что различные природные объекты, сущность которых выражается различными монадами, не воздействуя друг на
друга физически, тем не менее изменяются согласованно, чем порождают эффект непосредственного взаимодействия: «Но в простых субстанциях бывает только идеальное влияние одной монады на другую,
которое может происходить лишь через посредство Бога, поскольку в
идеях Божьих одна монада с основанием требует, чтобы Бог, устанавливая в начале вещей порядок между другими монадами, принял в
соображение и ее. Ибо, так как одна сотворенная монада и не может
иметь физического влияния на внутреннее бытие другой, то лишь
указанным способом одна монада может находиться от другой в зависимости» (Лейбниц 1982 (1710), с. 421–422; пер. Е.Н. Боброва).
Аналогично душа и тело человека, обладая принципиально различной природой, что делает невозможным их реальное взаимодействие, влияют друг на друга идеально, действуя согласно закону
�40
Часть I. Модели языка как автономной системы
предустановленной гармонии12. Как душу, так и тело Лейбниц неоднократно называет автоматами13, т. е. машинами, которые содержат
причину своего движения в самих себе14. Изложенные представления
(душа и тело – сконструированные Богом автоматы, не взаимодействующие между собой) определяют созданную Лейбницем модель
мышления, а также модель языка15. Так он пишет в набросках, озаглавленных в русском издании «Что такое идея?»: «… наличие в нас
идей вещей не предполагает ничего другого, кроме того, что Бог, творец равно и вещей и ума, вложил в этот ум такую мыслительную способность, благодаря которой он мог бы, исходя из своих собственных
операций, выводить то, что совершенно соответствовало бы выводимому из вещей. И если поэтому идея окружности и не будет похожа на
окружность, все же из нее могут быть выведены истины, которые, без
сомнения, будут подтверждать опыт обращения с реальной окружностью» (Лейбниц 1984 (1678), с. 109; пер. Г.Г. Майорова). Представляя
мысли, точнее, набор идей, как полностью оторванную от практического опыта систему, Лейбниц не проводил различия между реальным
и искусственным языком (напр.: Лейбниц 1984а) и опирался в качестве
парадигмы научности на математические тексты, классическим образцом которых являются «Начала» Евклида. Отсюда его стремление
к «алфавиту человеческих мыслей», к выявлению базовых постулатов,
определяющих деятельность мышления: оно абсолютно органично
вытекает из его общих мировоззренческих представлений.
А каковы общие представления о человеке самой А. Вежбицкой?
Разделяет ли она утверждения Лейбница о предустановленной гармонии, о независимом существовании души и тела, об отсутствии качественных различий между искусственным и естественным языком?
Или ссылки на Лейбница не носят принципиального характера, имея
смысл лишь обращения к традиции, обозначения ее истоков? Но тогда какой образ мира и человека стоит за NSM-теорией? В отличие от
Хомского, довольно отчетливо эксплицирующего в подобной ситуации
свои онтологические ориентиры, прямых высказываний Вежбицкой
на эту тему мне найти не удалось. Тем не менее, некоторые косвенные
выводы можно сделать, анализируя предложенную ей интерпретацию
другого массива текстов – работ по детской речи и по традициональным культурам (культурам архаических, или примитивных народов).
Этот массив может служить, с ее точки зрения, экспериментальным
подтверждением ее концепции. Обратимся к каждому из данных блоков, начав с работ детских психологов и лингвистов.
Сразу замечу, что ни исследования, на которые ссылается Вежбицкая, ни другие исследования детской речи не дают оснований утверждать существование врожденных базовых концептов в смысле Лейбница или Вежбицкой. Скорее, наоборот – весь собранный экспери-
Глава 2. Мировоззренческие основания и методология...
41
ментальный материал показывает определяющую роль контекста и
социкультурной коммуникации в формировании навыка использования языка и, в первую очередь, овладения семантикой.
Обращусь к конкретным примерам. А. Вежбицкая использует в
качестве подтверждения своего постулата о врожденных базовых концептах работы Д. Слобина, в частности, его статью Slobin 1985. Судя
по тексту статьи, Д. Слобин испытал в плане методологии заметное
влияние идей порождающей грамматики Н. Хомского, что задало
жесткую рамку для собранных его группой экспериментальных данных16. Слобин вводит понятие опорной детской грамматики (Basic Child
Grammar), состоящей из набора операционных принципов (Operating
Principles), характеризующих систему организации языковой деятельности ребенка (Language-Making Capacity) и утверждает, что эта грамматика носит универсальный характер для всех детей, и лишь позднее
ребенок, отказываясь от нее, осваивает грамматику конкретного языка (Slobin 1985, p. 1158–1160).
Заданная схема определяет характер регистрации экспериментальных данных: в экспериментальных описаниях фиксируется, главным
образом, речевая деятельность ребенка, на жесты ребенка, которыми
сопровождается его речь, обращается меньше внимания, и лишь как
слабый периферийный фон в описаниях присутствует ситуационный
контекст и действия взрослого, регулирующего речевые усилия ребенка. Однако, даже при такой ограниченности экспериментального материала и искусственности теоретических построений, заметно, что
определяющую роль в освоении ребенком языка играет опыт, который
он обретает в процессе социокультурной коммуникации, т. е. его повседневная практика17. При этом в предложенной автором схеме (даже
закрывая глаза на ее теоретическую некорректность), лишь при большом усилии можно найти какие-либо аналоги семантическим примитивам в понимании А. Вежбицкой18.
Крайне показательна также отсылка к работам Дж. Брунера, которого автор NSM-теории трактует как своего сторонника. Вежбицкая
приводит фрагмент из Брунера, в котором тот говорит о долингвистической способности к восприятию значения (readiness for meaning)
утверждая, что существуют определенные классы значений, «настроенность» на которые заложена в человеке еще до рождения и которые до
формирования языка существуют как протолингвистические реперезентации мира19. На первый взгляд, в данном фрагменте можно увидеть
нечто подобное семантическим примитивам в смысле Вежбицкой,
однако, через несколько страниц Брунер отчетливо показывает, что он
говорит здесь совсем о другом, а именно, о способности человека к
социальному общению, о его социальной природе, основания которой
имеют врожденный характер20.
�42
Часть I. Модели языка как автономной системы
Отмечая заметную произвольность в толковании экспериментальных
данных, следует обратить внимание и на одну логическую процедуру,
используемую Вежбицкой при интерпретации материалов наблюдений.
Иногда, приводя результаты экспериментов, она отмечает, что трактовка статьи ее автором не является единственно возможной, что они могут
быть проинтерпретированы и иным, когерентным с NSM-концепцией
способом. Так, доказывая, что because является семантическим примитивом и его понимание присуще человеку с рождения, Вежбицкая, с
одной стороны, ссылается на Канта, для которого способность к каузированию является априорной способностью человека, а с другой – приводит материалы Л. Блума, который исследовал каузацию в речи американских детей двухлетнего возраста. Излагая затем интерпретацию
автора исследования, который отрицает врожденный характер because
для ребенка и связывает его со стремлением зафиксировать регулярности в его повседневной социальной практике, она отмечает, что приводимые данные полностью согласуются и с утверждением о казуальности как врожденной форме восприятия человеком мира21. Однако при
таком понимании идея семантических примитивов становится практически неопровержимой (понятие врожденности превращается в нечто
аналогичное понятию судьбы в античности), но одновременно теряет
научный статус – как мы уже отмечали, возможность опровержения
является в современной методологии науки одним из ключевых признаков научности теории. Если следовать указанной логике, то отсутствие слова because в речи детей не опровергает утверждения о врожденности этого концепта: можно сказать, что в раннем возрасте отсутствуют условия для актуализации врожденной способности. Однако,
становясь неопровержимой, такая теория теряет свою предсказательную
силу, тогда как утверждение о связи because с социальным опытом ребенка дает возможность предсказывать, в каких контекстах происходит
фиксация причинно-следственной связи, а в каких нет, например, объяснить, почему все приводимые Блумом примеры относятся непосредственно к самому ребенку как субъекту высказывания, и среди них нет
ни одного случая выявления объективных, не центрированных на ребенке закономерностей (например, высказываний вида «на улицах лужи,
потому что идет дождь»).
В целом, похожим образом обстоит дело и с работами по традициональным культурам, на которые ссылается Вежбицкая. Основной
ее аргумент здесь звучит следующим образом: набор семантических
примитивов одинаков для всех языков, как бы далеко они друг от
друга ни отстояли, как бы ни различались говорящие на этих языках
культуры по мировоззрению и типам деятельности. Как известно,
существует значительное число антропологов, которые не признают
такого единства, утверждая, что в языках традициональных культур
Глава 2. Мировоззренческие основания и методология...
43
отсутствуют понятия, выражающие причинно-следственную связь,
базовые ментальные понятия и т. д. Вежбицкая и Годдард опровергают
подобные утверждения, указывая, что их авторы не учитывают полисемии и аллолексии, с учетом которых изоморфизм между базовыми
наборами становится гораздо более явным (Wierzbicka 1996, p. 185–210;
Goddard 2002, p. 20–30). Однако корректного описания когнитивных
процедур, стоящих за восприятием того или иного слова, ни Вежбицкая, ни Годдард не проводят, так как для этого требуется не лингвистический, а психолингвистический анализ. Более того, даже в работах
психологов, которые отчетливо фиксируют особенности мышления
представителей традициональных культур, Вежбицкая не обнаруживает этих особенностей и, используя описанный Поппером метод, интерпретирует приводимые данные в свою пользу.
Приведу лишь один пример. Вежбицкая ссылается на английский
текст знаменитой работы А. Лурии, опирающейся на его исследования
30-х годов, но опубликованной в СССР лишь в 1974 г. (Лурия 1974;
Luria 1976). В этой работе, и, в частности, в тех ее фрагментах, которые
она упоминает, Лурия отчетливо показывает, что мышление и мировосприятие человека традициональной культуры связаны с контекстом
его повседневной деятельности и абстрагироваться от этого контекста,
решать задачи, не опирающиеся на его повседневный опыт, он не
может. Не возражая против наблюдений Лурии, Вежбицкая отмечает,
что его информанты используют, тем не менее, слова all, if, т. е. эти
понятия присутствуют в их языке, что позволяет выделить их как семантические примитивы (Wierzbicka 1996, p. 209–210). Однако когнитивные процедуры, стоящие за all, if в текстах Лурии, так же, как и в
детских высказываниях, воспроизводящих упомянутое выше because,
существенно отличаются от подобных процедур в понимании Канта и
Лейбница. Здесь основой суждения является личный опыт, а не абстрактная безличная необходимость, и за внешним семантическим
сходством в указанных ситуациях стоят различные типы мышления,
которые можно условно назвать симпрактическим и теоретическим22.
Если рассматривать язык как формальную систему, оторванную от
человека, такое отличие невозможно увидеть, но как только исследователь включает человека в процесс формирования и развития языка,
оно сразу становится заметным.
Аналогичное замечание можно сделать и на утверждение Боаса (с
которым солидаризируется Вежбицкая и многие другие лингвисты),
что в языке примитивных народов, хотя он и отражает, в первую очередь, их непосредственный опыт, достаточно средств для того, чтобы
выражать абстрактные идеи. Рассматривая язык как формальную систему, данное утверждение справедливо, однако если учитывать говорящего на нем человека, данное высказывание нужно переформули-
�44
Часть I. Модели языка как автономной системы
ровать следующим образом: в любом языке потенциально достаточно
средств для выражения любых, сколь угодно абстрактных понятий, но
для того, чтобы такая возможность стала актуальной языковой практикой, нужен отчетливо формулируемый культурный запрос и долгий
промежуточный этап формирования ответа на этот запрос23.
Завершая обсуждение NSM-концепции, необходимо сделать два
замечания. Возвращаясь к вопросу об образе мира и человека, составляющем основу данной концепции, следует признать ее автора «наивным механицистом», т. е. исследователем, который, не обозначая
отчетливо своих онтологических оснований, неявно разделяет представления мыслителей XVII века. Важно также еще раз подчеркнуть,
что обсуждение работ А. Вежбицкой в рамках данной главы ограничивается NSM-концепцией. В целом же спектр осуществленных ей исследований заметно шире, и другие составляющие этого спектра будут
упомянуты в последующих главах.
2.2. Модель «Смысл⇔Текст»
Следует отметить, что редкие размышления о способах верификации
теории в рамках модели «Смысл⇔Текст» обычно отсылают к критерию
интроспекции со ссылками на А. Вежбицкую24, поэтому приведенные
выше соображения о квазирелигиозности можно перенести и на эту
модель25.
Онтологические основания теории, образы мира и человека, стоящие за ней, заключены в рамки компьютерной парадигмы, ядром
которой является понятие информации. Такая установка задается уже
первыми словами монографии И.А. Мельчука, посвященной изложению модели «Смысл⇔Текст»:
«В этой книге мы исходим из следующего тезиса:
Естественный язык – это особого рода
преобразователь, выполняющий переработку
заданных смыслов в соответствующие им
тексты и заданных текстов в соответствующ и е и м с м ы с л ы » (Мельчук 1999, с. 9).
И приведенное определение, и следующие затем комментарии автора к нему не дают возможности усомниться в ключевом для модели
образе человека-компьютера, вся жизнедеятельность которого строится вокруг сообщения, получения и переработки информации26. Не
обсуждая здесь работы психологов, в которых показана несостоятельность подобного подхода27, остановлюсь лишь на вопросах, имеющих
прямое отношение к анализируемой теории. Каково происхождение
пространства смыслов, его онтологический статус? Кто выступает в
качестве критерия правильности толкования смыслов, корректности
устанавливаемых соответствий? Если следовать критерию интроспек-
Глава 2. Мировоззренческие основания и методология...
45
ции, то сам лингвист, что ведет к замыканию теории на себя и лишает
ее объективных критериев проверки. Могут ли смыслы эволюционировать со временем и как в модели заложена возможность описания
этой эволюции? Судя по всему, такая возможность не рассматривается,
и язык предстает в ней как замершая, статичная система, существующая
вне потока времени, в стороне от социокультурных процессов. Вообще,
следует заметить, что вопрос о формировании пространства смыслов –
базовый для понимания ограниченности методологии данной модели.
Попытка аккуратно продумать его сразу обратила бы исследователя к
необходимости анализа социокультурного контекста и привела бы в
итоге к совсем иной методологической системе координат.
Необходимо остановиться еще на одном моменте. Мельчук замечает, что предложенная им модель не претендует на описание реальных процессов, происходящих в сознании человека (Мельчук 1999,
с. 13), но в работах Ю.Д. Апресяна с описанными механизмами уже
начинает связываться реальная работа человеческого мышления. Так,
обратимся к ставшему уже классическим примеру Апресяна про хорошего кондитера и газовую плиту: «Рассмотрим, например, предложение Хороший кондитер не жарит хворост на газовой плите. Его
значение непосредственно очевидно всякому человеку, владеющему
русским языком, хотя можно сомневаться в том, что рядовой носитель
языка сумеет теоретически удовлетворительно объяснить существо
закона, который он интуитивно использует при понимании данного
предложения (подчеркнуто мной. – В.Г.). Однако модель не может
апеллировать к интуиции, которой у нее нет, и если мы хотим, чтобы
она выполняла доступные человеку операции с текстами, мы должны
заложить в нее необходимую информацию в явном виде. Эта информация складывается, прежде всего, из знания фонетических, морфологических и синтаксических единиц и правил и знания словаря, но,
конечно, не исчерпывается этим. Существуют еще некие семантические правила интерпретации текстов; ниже мы эксплицируем одно
из них, допустив, что синтаксическая структура предложения и значения входящих в него слов уже известны» (Апресян 1995 (1974),
с. 13). Затем автор выписывает последовательно значения слов «кондитер» («тот, кто изготовляет сласти», «торговец сластями», «владелец
кондитерской»), «жарить» («изготовлять пищу нагреванием на/в
масле», «обдавать зноем») и формулирует «основной семантический
закон, регулирующий правильное понимание текстов слушающим:
выбирается такое осмысление данного предложения, при котором
повторяемость семантических элементов достигает максимума» (там
же, с. 14), т. е. из множества значений выбираются те, в которых
синтаксически связанные слова дают максимальное семантическое
пересечение.
�46
Часть I. Модели языка как автономной системы
Заметим, что в начальных установках автора есть показательная недоговоренность. Он предполагает, что значения входящих слов уже известны, но не раскрывает источник этого знания. Если такой источник –
значения более простых, базовых слов, то, додумывая схему до конца,
мы приходим к некоторому аналогу уже обсужденной схемы Вежбицкой
с ее lingua mentalis. Другие работы автора (напр.: Апресян 1995а, с. 476–
482) дают основание предположить, что имеет место именно этот вариант. Однако более естественной кажется другая позиция. Если речь идет
о реальных алгоритмах, интуитивно воспроизводимых носителем языка,
естественно заключить, что таким источником является повседневный
опыт, и тогда эта интуиция должна быть организована совсем подругому: понимание не атомарно, а целостно, и нельзя утверждать, что
понимание отдельного слова предшествует пониманию предложения в
целом28. Опуская возможные различия, связанные с различным жизненным опытом, можно предположить, что в норме процесс понимания
данной фразы происходит так: сочетание «газовая плита» сразу воспринимается как целостная синтагма, порождающая вполне конкретный
образ, не допускающий толкований и выступающий в качестве ядра для
понимания всего предложения. К ней присоединяется понятие «жарить»,
опять же, отсылающее к непосредственному жизненному опыту, процессу приготовления пищи на плите. Но процесс жарки предполагает
того, кто жарит, и то, что он жарит, и отсюда происходит выбор менее
очевидных правильных значений слов «кондитер» и «хворост».
Еще более отчетливо это различие между человеком как социальным
существом и человеком как «носителем языка»29, знание которого сводится к знанию соответствующих словарных статей и грамматических
правил соединения слов в предложения, становится заметным, если
обратиться к еще одному приведенному в книге примеру. Поясняя умения, которые он включает в понятие «владение языком», автор подчеркивает, что «здесь имеются в виду умения, основанные на владении
чисто языковой (словарной и грамматической), а не энциклопедической
информацией. Текст Он проплыл 100 метров кролем за 45 секунд для всякого носителя русского языка значит: «Плывя стилем “кроль”, он покрыл
расстояние в 100 метров и затратил на это 45 секунд». Для тех, кто знает не только русский язык, но и таблицу мировых достижений в плавании (элемент энциклопедической, а не языковой информации), то же
самое предложение может оказаться гораздо содержательнее. Оно может
быть воспринято как сенсационное сообщение о феноменальном мировом рекорде, как напоминание о безграничных физических возможностях человека и т. п.» (там же, с. 12).
Однако можно выразить сомнение, что текст Он проплыл 100 метров
кролем за 45 секунд для всякого носителя русского языка, если понимать
его «по Апресяну» как человека, который знает словарные значения слов
Глава 2. Мировоззренческие основания и методология...
47
и правила их связи в предложения, значит: «Плывя стилем “кроль”, он
покрыл расстояние в 100 метров и затратил на это 45 секунд». Понимание
этого предложения будет принципиально разным для человека, который
умеет плавать или неоднократно видел, как плавают другие (в частности,
стилем «кроль»), и человека, который усвоил значения слов «плавать» и
«кроль», но сам никогда не плавал, никогда не испытывал воздействия
силы Архимеда. Тогда плавание кролем связывается у него с иным сенсомоторным опытом, и его восприятие процесса будет заметно отличаться от восприятия, привычного нам. Это пример показывает, что условием одинакового понимания конкретного предложения оказывается не
знание конкретных словарных значений, а общая социальная практика,
и вне нее словарные статьи становятся бессильными.
В заключение имеет смысл обратиться к поздним работам Ю.Д. Апресяна и его коллег, выполненным в рамках Московской семантической
школы интегрального описания языка и системной лексикографии. Как
уже отмечалось во введении, базовый методологический императив,
которому следуют авторы, состоит в проведении исследований исключительно на материале языка, без привлечения каких-либо иных (социокультурных, психологических и т. д.) данных. Другими словами,
методология модели «Смысл⇔Текст», исходящая из образа языка как
автономной системы, сохраняется и в них30. Не проводя подробного
анализа базовых понятий и постулатов, положенных в основу теории
(принцип интегральности, семантический метаязык31, интегральное
лексикографическое представление лексемы, лексикографический тип
и т. д. (Апресян 2006а; Апресян 2009)), я обращусь к одному конкретному примеру, который является, по замыслу автора, образцом, подводящим «теоретический фундамент под системную лексикографию и, более
конкретно, под новый объяснительный словарь синонимов русского
языка» (Апресян 1995б, с. 37–38) – лексикографическому описанию
человека. Хотя речь пойдет о нескольких фрагментах в начале статьи,
высказанные соображения будут справедливы и для статьи в целом, и
для других исследований, выполненных в рамках данного проекта.
В начале анализа Ю.Д. Апресян выделяет в человеке несколько
систем и действующих независимо от них сил, или способностей,
уточняя, что «таких сил может быть несколько, но в обязательном порядке должны быть представлены, по крайней мере, две: одна приводит какую-то систему в действие, другая останавливает ее» (там же,
с. 40) и затем уточняет: «Стимулом к активному функционированию
человека являются желания. Человек реализует их с помощью силы,
которая называется волей; воля, собственно, и есть способность приводить в исполнение свои желания. Воля в русской языковой картине
ассоциируется с твердостью, натиском, непреклонностью, может быть,
даже агрессивностью32…
�48
Часть I. Модели языка как автономной системы
Желания могут быть как разумными и моральными, так и неразумными и аморальными: воля сама по себе вне морали, она может быть доброй
и злой. Поэтому действие воли уравновешивается в человеке действием
другой силы, которая называется совестью. Если желания и воля являются инициаторами деятельности человека, то совесть в русской языковой картине мира мыслится как нравственный тормоз, блокирующий
реализацию его аморальных желаний или побуждений…
Вообще говоря, совесть, в отличие от воли, мыслится не только в
образе силы, пусть и потенциальной (т. е. способности). Она одновременно представляется как некое существо внутри человека. Это –
строгий внутренний судья (ср.: отвечать за что-то перед своей совестью, быть чистым перед собственной совестью), всегда нацеленный
на добро, обладающий безошибочным врожденным чувством высшей
справедливости и дающий человеку предписания (ср.: голос совести,
веление совести), непосредственно опирающиеся на представление о
том, что в данной ситуации есть подлинное добро» (там же).
Еще раз подчеркну, что все эти утверждения сделаны, по утверждению автора, исключительно на основе данных русского языка 33 и,
следовательно, должны однозначно реконструироваться человеком,
обладающим полным знанием русской грамматики и словаря, но не
знающим ничего о русской культуре.
Переходя к анализу приведенного фрагмента, замечу, что, вопервых, сами по себе приведенные утверждения вызывают серьезные
возражения, во-вторых, крайне сомнительно то, что они сделаны исключительно на основе данных языка, и, в-третьих, совершенно непонятен способ, которым они были получены. Рассмотрим каждое из
возражений более подробно.
1. Воля далеко не всегда приводит желания в исполнение; часто она
заставляет человека действовать наперекор желаниям (А вокруг колодца мокрая земля была размешана в грязь множеством сапог и кое-где в
следах блестела вода. На нее-то, на эту мокрую землю, смотрели сотни
глаз пленных стоящих на жаре. Бровальский усилием воли заставлял себя
не смотреть туда. (Г.Я. Бакланов. Июль 41 года34); В течение ночи я
трижды снимала трубку и только усилием воли заставляла себя не звонить вам (Э. Радзинский. Она, в отсутствие любви и смерти)). Точно
также совесть далеко не всегда выступает как «нравственный тормоз»,
останавливающий систему, иногда она оказывается силой, приводящей
систему в движение (Совесть каждого артиста должна заставить его
делать это (Б.А. Покровский. Федор Шаляпин); А все-таки пошел,
потому что тебя твоя совесть рабочая заставила (Н.А. Островский.
Как закалялась сталь)). Далее, силами, как «приводящими систему в
действие», так и «останавливающими ее» в «наивной картине мира,
воплощенной в русском языке», являются различные по характеру и
Глава 2. Мировоззренческие основания и методология...
49
онтологическому статусу чувства (страх, стыд, долг, честь)35, и это никак не отражено автором, о долге и чести не говорящим вообще, а страх
и стыд рассматривающим не как силы, а как элементы эмоциональной
системы человека. Эти примеры, число которых можно многократно
умножить, показывают, что предложенная в статье модель не отражает всего многообразия и всей сложности семантических структур,
связанных с понятием «человек» в русском языке.
1.1. Автор нигде не оговаривает, с языком какого периода он работает. По умолчанию это современный русский язык, но он приводит
примеры из текстов конца XIX – начала XX века (В.Г. Короленко,
Н.А. Бердяев), что предполагает неизменность «наивной картины
человека» в русском языке на протяжении XX столетия. Однако, это с
очевидностью не так: уже упомянутая выше «рабочая совесть», а тем
более «партийная совесть» почти невозможны в языке конца XIX века.
Идеологические модели советской культуры заметно трансформируют
семантические образы человека в языке советского времени.
2. Чтобы выявление внеязыковых предпосылок проведенного Апресяном анализа было более наглядным и образ идеального носителя
русского языка, не знающего ничего о русской культуре, получил хотя
бы условное образное воплощение, я хотел бы обратиться к рассказу
Л. Андреева «Правила добра» (Андреев 1988 (1911)), предлагающего,
кажется, подходящую для данного случая модель. В рассказе «некий
здоровенный пожилой черт» по прозвищу Носач неожиданно возлюбил
добро и возлюбил настолько сильно, что пришел к приходскому священнику с требованием научить его делать добрые дела. К этому моменту он уже знал в совершенстве Библию; позднее, наставляемый священником, он прочитал в подлиннике сочинения отцов церкви и сам начал
создавать весьма остроумные богословские схемы. Однако это не приблизило его к пониманию того, что такое добро. Смущаемый его вопросами наставник, сообщив ему два главных правила («если кто попросит
у тебя рубашку, то ты и последнюю отдай» и «если кто тебя по одной
щеке ударит, то ты и другую подставь»), отправил его в мир. Результаты
этого путешествия оказались плачевными. Черт, не уразумев, что «святые
слова сии имеют распространительное толкование», натворил много бед,
приобрел шишку на темени, кровоподтеки и ссадины на лице, но делать
добро так и не научился. Отчаявшийся священник написал черту подробный распорядок на каждый день, которому тот жестко следовал
после смерти наставника. Однако часть страниц оказалась утерянной,
и в дни, которые не были описаны в рукописи, Носач «удалялся в свой
темный чердачный угол и там застывал в бездействии».
Кажется, что герой рассказа Андреева (при «распространительном
толковании») дает определенное представление об «идеальном носителе языка», лишенном какой-либо связи с культурной традицией.
�50
Часть I. Модели языка как автономной системы
Попробуем взглянуть на предложенное Апресяном описание его глазами.
Один из первых вопросов, который возникает при взгляде с такой
позиции – почему совесть как объект, которым обладает человек (ну
совесть-то у тебя есть? (ср. ну тетрадь-то у тебя есть?); совсем совесть
потерял; имей совесть!; ни стыда, ни совести и др.) и совесть как субъект, как «некое существо внутри человека» – не омонимы (совесть1 и
совесть2), а две разные стороны одного и того же явления. Различие в
их семантических и синтаксических свойствах делает предположение
об омонимах более правдоподобным. Далее, если обратиться к совести2,
то как мы должны понимать это «некое существо внутри человека» –
буквально или метафорически? Как «идеальный носитель языка» может
понять различия в конструкциях его давно мучила совесть и его давно
мучили глисты, например? А если он при этом никогда не испытывал
физической боли (ведь физическая боль выводит нас за рамки языковых фактов, обращая к психосоматической реальности)?
Еще один пример, обращающий к реалиям советского периода. Как
этот «идеальный носитель», не имеющий опыта жизни в советской
культуре, может понять смысл выражения «партия – ум, честь и совесть
нашей эпохи»? Что здесь имеется в виду: что партия – некое существо
внутри эпохи, судящий эпоху судья? Или что эпоха имеет совесть (как
некоторый объект) и эта совесть – партия? Или что-то еще?
Подобные примеры, число которых можно значительно умножить,
отчетливо показывают, что утверждение Ю.Д. Апресяна об использовании им исключительно фактов языка – иллюзия, что он неявно
опирается в своем анализе на психологический и социокультурный
материал, и именно отсутствие осознанности, отсутствие должной
степени рефлексии приводит к тому, что внеязыковой материал присутствует в этих исследованиях в действительно «наивной», донаучной
форме, придавая «наивность» всей предложенной модели.
3. Неясно, как автор приходит к приводимым им результатам, как
проверить их корректность. Если в простых случаях можно говорить
об интуиции обычного носителя языка, то для таких сложноорганизованных категорий, как человек, этой интуиции оказывается явно недостаточно (человек выступает здесь как социокультурное существо, и
социокультурный фактор становится в данной ситуации, по крайней
мере, не менее значимым, чем языковой). В подобных случаях особенно важно эксплицировать и объективировать (с помощью статистического анализа контекстов, например) методологию получения
результатов и критерии их проверки.
Еще раз подчеркну, что проведенный анализ можно распространить и на другие работы Московской семантической школы (см.,
напр.: Левонтина 2006; Крылова 2006). Ограниченность и неотреф-
Глава 2. Мировоззренческие основания и методология...
51
лексированность методологии проявляется в них еще более отчетливо36.
Подводя итоги данной главы, важно подчеркнуть следующее:
• В проанализированных нами теоретических конструкциях язык
предстает статичной, замкнутой на себя системой, возвышающейся над культурным контекстом. Ни в модели Вежбицкой,
ни в модели Мельчука–Апресяна–Жолковского не заложена
идея динамики, идея изменения языка и отсутствуют механизмы описания такого изменения.
• Вызывают существенные вопросы критерии верификации
утверждений NSM-теории и модели «Смысл⇔Текст». Главным
критерием становится языковая интуиция самого лингвиста,
которого сложно считать беспристрастным судьей созданных
им или его коллегами конструкций. Особенно это бросается в
глаза, когда лингвист начинает работать с понятиями, глубоко
укорененными в психологическом, философском, социокультурном контексте (такими, как человек, например). «Замыкание
на себя» придает семантическим теориям квазирелигиозный,
«марксистско-фрейдистский» (по Попперу) оттенок.
• За обсуждаемыми моделями стоит представление о человеке как
автомате, в котором ум (душа) и тело либо функционируют независимо друг от друга, либо тело доставляет уму внешние
сигналы, которые затем перерабатываются в сознании, действующем подобно компьютеру. Тело непосредственно не участвует в процессе такой переработки. Наиболее отчетливое и
бескомпромиссное описание моделей данного типа содержатся
в трудах рационалистов XVII века, но в целом указанное представление соответствует позитивистскому в широком смысле
слова направлению в философии XX века, за которым стоят
имена Рассела, раннего Витгенштейна, Карнапа, Шлика и др.
Еще одним теоретическим постулатом, на который неявно опираются авторы обсуждаемых моделей, служит представление о математической теории как образце структурной организации для языка. Это
представление ведет к моделированию естественного языка по образцу искусственного, в основе которого лежит сведенный к предельному
минимуму набор базовых операций, а разнообразие достигается путем
их повторения, чередования и объединения.
Примечания
Данная глава представляет собой переработанный и дополненный вариант работы:
Глебкин 2007б.
2
В приведенной выше последовательности имен я следую за установившейся традицией (cм., напр.: Кронгауз 2005, с. 259).
3
Критику идей Хомского см., напр., в работе: Wierzbicka 1996, p. 6–8, 17–19.
1
�52
Часть I. Модели языка как автономной системы
Методологически близкую подходу Вежбицкой теорию, в которой связь с идеями Хомского явно обозначается автором, представляет собой концептуальная семантика Р. Джакендоффа (Jackendoff 1983, p. 77–127; Jackendoff 1990; Jackendoff 2002, p. 123–131, 152–
195; Jackendoff 2010 p. 6–14). Анализ этих влиятельных для современной теоретической
лингвистики работ остается за рамками данной книги, потому что в методологическом
отношении они не содержат ничего принципиально нового по сравнению с работами
Вежбицкой и Хомского.
5
См., напр., работу, посвященную семантической эволюции понятия Angst и влиянию работ Лютера на эту эволюцию (Вежбицкая 2001, с. 44–125), или исследование
лингвоспецифичности понятия fair и культурных причин такой лингвоспецифичности (Wierzbicka 2006, с. 141–170). См. также общие установки Вежбицкой в работе:
Wierzbicka 2010, p. 90–93, 144–150. Нужно отметить, что Вежбицкая активно использует
NSM-толкования в своем анализе, однако они не добавляют почти ничего к следующим
за ними и/или предшествующим им комментариям и, осмелюсь сказать, вполне могли
бы быть опущены без ущерба для конечного результата.
6
В качестве иллюстрации можно сослаться на разработанную А. Вежбицкой концепцию «cultural scripts», несмотря на утверждения ее автора, методологически не связанную с NSM-теорией (см., напр.: Wierzbicka 2002), или предложенную ей модель описания концептов «народной биологии» (см., напр.: Wierzbicka 1985, с. 212–217).
7
Авторы постоянно отмечают, что данная операция требует большой семантической
чуткости, в частности, учета аллолексии и полисемии (см. Wierzbicka 1996, p. 185–210;
Goddard 2002, p. 20–32).
8
«…since the meaning of a word is, as I have been arguing all along, a configuration of semantic
primitives for each word, its meaning can (and must) be defined positively, regardless of the
meanings of any “neighbouring” words in the lexicon. The meanings of different words can
overlap (as abc overlaps with bed), but both the similarities and the differences can be stated only
after the meaning of each word has been identified» (Wierzbicka 1996, p. 170).
9
Более того, «обычные носители языка», к которым я обращался с просьбой оценить
предложенные А. Вежбицкой толкования, выразили сомнения в их ясности и продуктивности. В этом смысле гораздо более информативными, точными и глубокими являются, как уже отмечалось, комментарии Вежбицкой к приводимым толкованиям, но
они находятся уже за рамками NSM-концепции.
10
См.: Wierzbicka 1985, p. 212, 332–333.
11
Ср. критику идей Вежбицкой в работе: Соловьев 2005, с. 93–95.
12
Подробнее см. об этом в шестой главе.
13
Ср.: «И подобно тому, как зародыш образуется в животном, как тысячи других чудес природы совершаются вследствие известного, Богом данного инстинкта, т. е. в силу
божественной преформации, сделавшей эти удивительные автоматы способными механически производить столь прекрасные явления, – подобно этому можно думать, что и
душа есть духовный автомат, еще более удивительный, и что вследствие божественной
преформации она производит эти прекрасные идеи, в которых наша воля не принимает
участия и которым наше искусство не может подражать. Действия духовных автоматов,
т. е. душ, совсем не механические, но они в превосходной степени содержат то, что есть
прекрасного в механике» (Лейбниц 1989 (1710), с. 392; пер. К. Истомина). См. также:
Лейбниц 1982 (1710), с. 416, 424–425; Лейбниц 1989 (1710), с. 138, 161, 167–170.
14
В «Словаре французской академии» издания 1694 г. предлагается следующее определение «автомата»: «AUTOMATE. Machine qui a en soy les principes de son mouvement. Une horloge
est un automate. Quelques рhilosophes pretendent que les animaux ne sont que des automates».
15
О соотношении языка и мышления, слова и идеи у Лейбница см., напр.: Лейбниц
1983 (1703–1704), с. 274–362.
16
Влияние идей Хомского и, в частности, реализуемых им на практике установок на соотношение теории и эксперимента характерно для значительного массива западных работ,
посвященных исследованию детской речи. См., напр.: Bloom etc. 1975, p. 4, 30–33. Это влия4
Глава 2. Мировоззренческие основания и методология...
53
ние ведет к тому, что теория обретает предельно жесткий каркас, при котором не она трансформируется на основе экспериментальных данных, принимая наиболее адекватную эксперименту форму, а, наоборот, экспериментальные данные деформируются таким образом,
чтобы соответствовать теоретическому каркасу. Критику такого подхода см. в: Bloom etc.
1975, p. 87–89; Bowerman 1985, p. 1265–1282. Об исследованиях детской речи в соотнесении
с базовыми теоретическими моделями в целом см.: Фрумкина 2001, с. 34–36.
17
См., напр., операциональные принципы, в которых подчеркивается значимость типовой для ребенка деятельности, отсутствие различий между одушевленными и неодушевленными объектами и т. д. (Slobin 1985, p. 1170–1171, 1186–1187). Об иной психологической традиции, в которой исследование ситуационного контекста становится
определяющим для понимания процессов овладения ребенком языка, см., напр.: Лурия
1979, с. 32–36, 58–60. Ср.: Keller–Cohen 1978. Для построения теоретической модели
детской речи важными являются замечания Р. Фрумкиной о параллелизме между детской и разговорной речью (Фрумкина 2001, с. 35–39).
18
Так, «basic notions», о которых пишет Слобин и под которыми по контексту имеются в
виду как раз опорные операциональные принципы, трансформируются в тексте Вежбицкой
в «innate “basic concepts”» (см.: Wierzbicka 1996, p. 17). При этом в интерпретации Вежбицкой
объединяются два далеко отстоящих фрагмента статьи Слобина, в которых речь, кажется,
идет о разных вещах и ни одни из которых не предполагает, по-видимому, ничего подобного
«innate “basic concepts”» в смысле Вежбицкой (см. Slobin 1985, p. 1161, 1171–1172).
19
См.: Wierzbicka 1996, p. 18; Bruner 1990, p. 72.
20
См.: Bruner 1990, p. 73–74, а также p. 64–65. Вообще, отсылка к Брунеру в данной работе Вежбицкой крайне любопытна. Весь пафос книги Брунера – отчетливо антилейбницианский, направленный против формальных, компьютерных моделей мышления.
В частности, автор критикует «информационный» подход к описанию значения, сводящий процесс понимания к отысканию в сознании ячейки с соответствующей информацией (Bruner 1990, p. 4–7). Но именно такую трактовку значения предлагает Вежбицкая
(см. цитированный выше фрагмент: Wierzbicka 1996, p. 170).
21
См.: Wierzbicka 1996, p. 70–71. См. также аналогичный ход с М. Бауэрмэн: Wierzbicka
1996, p. 18.
22
См. об этом: Романов 1991, с. 11–67; Романов 2003, с. 57–300.
23
В качестве иллюстрации можно вспомнить слова Пушкина о современном ему русском
языке: «Исключая тех, которые занимаются стихами, русский язык ни для кого не может
быть довольно привлекателен — у нас еще нет ни словесности, ни книг, все наши знания,
все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли
мыслить на чужом языке; просвещение века требует важных предметов размышления для
пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и
гармонии, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись — метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже
в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий
самых обыкновенных; и леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы уже давно готовы и всем известны» (Пушкин 1949 (1824), c. 21).
24
См., напр.: Мельчук 1997, с. 21–22. Ср.: Апресян 1995 (1974), с. 113, где говорится о
речевой практике носителей языка, но фактически в качестве таких носителей выступают сами лингвисты.
25
В поздних работах Ю.Д. Апресян уточняет критерии верификации предложенной им модели, однако это не ведет к принципиальному изменению картины. Подробнее см. прим. 80.
26
«Попробуем проанализировать содержание утверждения “Язык – орудие общения”.
Что значит “быть орудием общения”? Видимо, это означает «представлять собой систему
средств передачи информации, составляющей цель общения». Дело обстоит, грубо говоря,
следующим образом: (1) Информация передается посредством (2) последовательностей
речевых сигналов, акустических или визуальных. Последовательность сигналов, несущая
информацию, направляется от (3) говорящего (или пишущего) к (4) слушающему (или чи-
�54
Часть I. Модели языка как автономной системы
тающему) через определенный (5) канал связи (воздух, в котором распространяется звук;
телефонный провод; бумага книги и т. п.). Слушающий извлекает из сигналов, посланных
говорящим, ту (или почти ту) информацию, которую этот последний имел в виду, благодаря тому что оба владеют одним и тем же (6) кодом – правилами соответствий между
(речевыми) сигналами и (речевой) информацией» (Мельчук 1999, с. 12).
27
См., напр., уже упомянутую работу Дж. Брунера: Bruner 1990. Другие работы этого
направления будут проанализированы в третьей главе.
28
Ср. экспериментальные исследования Р. Фрумкиной и ее выводы о целостности восприятия объекта испытуемыми: Фрумкина 1985, c. 25–26; Фрумкина 1991, с. 128–130.
29
Т. е. существом, которое только носит некоторую не связанную с ним сущностно реальность как носят пальто, ботинки и т. д.
30
В указанных работах высказывается ряд идей, которые могут быть проинтерпретированы как уточнение критериев верификации, лежащих в основе модели «Смысл⇔Текст».
Одна из таких идей связана с понятием лингвистического эксперимента, предполагающего две стадии: а) «обращение к непосредственной языковой интуиции говорящих»;
б) «объяснение полученных оценок с точки зрения современной лингвистической теории» (Апресян 2010, с. 38). Другими словами, основным критерием здесь объявляется
интроспекция, получающая свою теоретическую интерпретацию. Отмечу, что в предложенной формулировке речь идет именно о л и н г в и с т и ч е с к о й т е о р и и , а не
о л и н г в и с т и ч е с к и х т е о р и я х . В действительности, один и тот же факт может
быть прямо противоположным образом проинтерпретирован в рамках различных лингвистических теорий. Предложенная формулировка неявно предполагает, что речь идет о теории, развиваемой (или разделяемой) автором. При таком подходе мы имеем дело с описанным выше «замыканием» теории на себя, придающем ей квазирелигиозный статус.
31
Интересно обратить внимание на следующее замечание Ю.Д. Апресяна, описывающего методологическую эволюцию от модели «Смысл⇔Текст» к более поздним работам: «В результате… используемый нами метаязык существенно сблизился с метаязыком
А. Вежбицкой» (Апресян 1994, с. 29).
32
Я опускаю в цитате исключительно языковые примеры, сохраняя все содержательные утверждения.
33
Автор специально подчеркивает это: «Предложенная нами реконструкция, дающая
целостный образ совести, основана исключительно на данных языка» (там же, с. 41).
34
Если это специально не оговорено, приводимые в данной и следующих главах примеры, характеризующие семантические особенности русского языка, взяты из Национального корпуса русского языка (НКРЯ, www.ruscorpora.ru).
35
Проиллюстрирую обе возможности на примере слова «долг»: «И не боязнь расстаться
с комсомольским билетом, а вошедшее в кровь и плоть чувство долга заставило Сашу Маринеско, не долго раздумывая, сказать себе это “надо”» (Александр Крон. Капитан дальнего
плавания); «Тысячами нитей он был связан с жизнью евреев страны, с драмами тех, кто,
возвращаясь из эвакуации на родные пепелища, оказывались изгоями: чувство долга и совесть не позволяли ему отворачиваться от чужих бед и страданий – и он погружался в эту
боль» (Александр Борщаговский. Несыгранный «Гамлет»).
36
Следует отметить, что в рамках Московской семантической школы осуществлено значительное число интересных исследований, несмотря на заявленные постулаты, фактически
исходящих из социокультурной парадигмы при описании языка. Речь идет, в первую очередь, о целом ряде статей из Нового объяснительного словаря синонимов русского языка
(НОССРЯ 1997; НОССРЯ 2000; НОССРЯ 2003). Интересно, что во введении к словарю
Ю.Д. Апресян отмечает антропоцентричность как одну из важнейших характеристик языка (напр., НОССРЯ 2003, с. VII, XX). Однако, такая антропоцентричность оказывается
случайным, никак не объяснимым фактом, если исходить из модели языка как самодостаточной структуры, не требующей для своего описания выхода за свои пределы. Напротив,
для антропоцентричной и социокультурной парадигм она становится базовым постулатом, задающим методологический каркас возникающих в их рамках теорий.
Часть II. Антропоцентричные
семантические модели
�В
о второй части книги речь пойдет о семантических теориях,
исходящих из представлений о языке как открытой системе,
создаваемой человеком и отражающей его антропологическую
специфику, понимающих язык как функциональный орган
человека, сформировавшийся в процессе эволюции. Как уже
отмечалось, такое понимание языка было предложено Хомским, считающим лингвистику частью психологии, однако в его концепции эта
связь с человеком осталась чисто формальной и не нашла содержательного воплощения. В данном разделе будут рассмотрены теории, в которых антропологическая составляющая несет содержательную нагрузку: теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона (4 глава), теория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и
М. Тернера (5 глава), а также теория лексических концептов и когнитивных моделей (LCCM Theory) В. Эванса и семантика фреймов
Ч. Филлмора (6 глава). Специфической особенностью этих теорий
является взгляд на человека как на универсальный антропологический
тип и отказ от подробного анализа социокультурного контекста его
существования. Ключевым для понимания структуры и функций языка в этом случае оказывается перцептивный и проприоцептивный опыт
человека. Идея выявления в языке и когнитивных процессах соматической основы, выраженной в понятии embodiment, становится методологически определяющей для данного направления. Эта константность организации человека ведет к статичности моделей языка, к
отсутствию в них динамической составляющей. Указанная черта сближает данные модели с моделями, описанными в первой части монографии.
�Глава 3. Философские и психологические основания...
Глава 3. Философские и психологические
основания антропоцентричных
семантических моделей
Как уже неоднократно отмечалось, лингвистические теории осознанно или неосознанно опираются на определенную мировоззренческую
базу. Эти мировоззренческие постулаты обращают нас к фундаментальным представлениям о человеке и его природном и социокультурном окружении, выраженным в определенной группе базовых для
культуры текстов. Мы видели, что авторы концепций, рассматривающих язык как автономную систему, исходят из философии европейского рационализма XVII века. Следует добавить, что эта философия
вырастает из представлений об устройстве человека и способах познания им мира, сформированных в античности и трансформированных под христианским влиянием. Антропоцентричные семантические
модели строятся на иных основаниях. Можно показать, что за двумя
обозначенными выше парадигмами (изоляционистской и антропоцентричной) стоят фундаментальные различия в образах человека и структуре когнитивных процессов, отсылающие к классической философской и психологической традициям, последняя из которых также
имеет свои философские параллели. Не останавливаясь здесь на этом
подробно, обозначу основную идею1.
Философские взгляды на процессы мышления вырастают из определяющего для Античности бинарного образа человека, разделенного
на тело и душу (ум). Тело человека не участвует в процессе мышления,
когнитивные операции осуществляются умом в особом идеальном
пространстве, и сам процесс мышления представляет собой идеальный
акт. Мышление является исключительно человеческой способностью,
животные не могут мыслить.
Наиболее отчетливо эти взгляды выражены в философии Платона и
неоплатоников, но в целом они воспроизводятся и рядом других значимых авторов (Парменидом, в значительной степени, Аристотелем, выступающим в своих представлениях о мировом Уме (νο) вполне
ортодоксальным платоником, и др.). Непосредственный анализ показывает, что за описанной моделью стоят не экспериментальные наблюдения и исследования, а вполне конкретные социокультурные установки, связанные с оппозицией «свободный» – «раб». Рабы в этой модели
полагаются рожденными для выполнения грубой физической работы,
59
свободные – для управления, политической деятельности и интеллектуального созерцания. Заданная оппозиция явно формулируется в ряде
значимых текстов и проявляется в широком спектре характерных для
античной культуры черт, в частности, в признании безусловного превосходства интеллектуальной деятельности над физическим трудом и восприятии ее как замкнутого на себя процесса2. Позднее, в Средневековье
и в Новое время, связь с социокультурным контекстом теряется, но,
освященные именами Платона и Аристотеля (и позднее, Августина,
Фомы Аквинского и др.), эти представления становятся атрибутом
философского взгляда на мир. В целом, именно так их воспринимает и
переосмысляет в рамках иной социокультурной ситуации XVII век.
Психологическая традиция вырастает из иных оснований, чаще
неявно, но иногда и вполне осознанно соотносясь с новыми философскими течениями, появившимися во второй половине XIX–XX
веке. Мышление понимается в ней как решение различных по уровню
сложности и по типу деятельности задач, от попадания мячом в баскетбольное кольцо до доказательства геометрических теорем или
создания абстрактных математических моделей природных и социальных процессов. Тело активно участвует в когнитивных актах; способностью к решению отдельных классов задач, т. е. мышлением в психологическом смысле, обладают и животные.
Сформулированные выше особенности описания когнитивных
процессов задают и два типа понимания языка: как замкнутой на себя
идеальной структуры и как реальности, аккумулирующей в себе перцептивный и проприоцептивный опыт.
Сделанные замечания определяют структуру главы. В первом ее
разделе мы кратко остановимся на основных философских течениях и
работах отдельных философов, сформулировавших качественно отличные от рационалистической философии XVII века представления
о мире и человеке (экзистенциализм, философия жизни, герменевтика, прагматизм, труды позднего Л. Витгенштейна); во втором – рассмотрим мировоззренчески связанные с ними исследования, выполненные в рамках гештальт-психологии, культурно-истори ческой
психологии Л.С. Выготского и генетической психологии Ж. Пиаже 3;
в третьем – проанализируем, как эти идеи реализуются в современной
психологии и когнитивной науке.
3.1. Философские основания психологической
когнитивной парадигмы
Хотя рационализм, доминирующий в период раннего Нового времени
и в эпоху Просвещения, и позднее остается одним из определяющих
векторов развития европейской философии, со второй половины XIX
�60
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
века он сталкивается с серьезным сопротивлением ряда новых философских направлений, предлагающих существенно иной образ мира и
человека. Этот образ оказывает самое непосредственное влияние на
формирование психологической модели мышления и открывает новые
возможности для описания языка в целом и отдельных языковых
структур в частности. Одни из этих возможностей реализуются в семантических теориях, рассматриваемых в 4, 5 и 6 главах, другие оказываются актуальными для третьей части книги.
Разумеется, сколько-нибудь подробный анализ указанных направлений избыточен в заданном проблемном поле, поэтому акцент в
дальнейшем обсуждении будет сделан на присущих им общих чертах,
важных для рассматриваемых позднее лингвистических теорий.
А) Первая из таких черт – признание ограниченности рационального взгляда на человека и понимание человека как целостного существа, для которого разум является лишь одной из характеристик, не
допускающей обособленного описания. Разработка категориального
аппарата, адекватно отражающего эту целостность, составляет ключевую проблему для целого ряда философских течений во второй половине XIX–XX веке.
Истоки указанных представлений коренятся в раннесредневековой
культуре. Тезис об ущербности разума, о его неспособности адекватно
описывать трансцендентную реальность проявляется в своеобразной
«логике парадокса», лежащей в основе двух базовых постулатов христианства (о единстве Троицы и о богочеловеческой природе Христа),
формирующих поле обсуждения на первых шести Вселенских Соборах4.
Эта позиция переносится и на человека, для которого вера оказывается более фундаментальной характеристикой, чем рациональное размышление5. Однако в дальнейшем такое сдержанное отношение к
рациональному началу в человеке сохраняется, с определенными уточнениями, в византийской культуре, одним из определяющих философских итогов которой можно считать исихазм; но в западном
Средневековье оно постепенно трансформируется в утверждение об
изоморфизме между разумом и верой, которые различными путями
приводят к одной цели6. На практике приведенный тезис выражается
во все более и более тотальном использовании рациональных механизмов описания мира и человека, достигшем своего пика в механицизме
XVII–XVIII веков7. Представления об ограниченности рационального
конструирования реальности, попытки разглядеть в ней иные, не допускающие рационального описания черты оказываются в этот период на далекой периферии мировоззренческого поля. Их реанимация
начинается в XIX веке: в мировоззрении романтиков, философских
системах Фихте, Шеллинга, в целом, однако, говорящих еще на традиционном философском языке. Иррациональная мировая воля объ-
Глава 3. Философские и психологические основания...
61
является главным элементом философии Шопенгауэра, хотя и у него
рациональное конструирование реальности играет, при внимательном
анализе, определяющую роль. Пожалуй, наиболее целостно среди
философов первой половины XIX века антирационалистический взгляд
на природу человека выразил Сёрен Кьеркегор. Ключевая для датского философа максима, определившая как его философские размышления, так и жизненный путь, была сформулирована им в одной из
последних работ: «Истину нельзя знать, в истине можно быть или не
быть» (Kierkegaard 2004 (1850), р. 184)8. Здесь выражено принципиальное для Кьеркегора противопоставление рациональной истины, носящей всеобщий характер, индивидуальной истине каждого конкретного человека, отвечающей на вопрос о его месте и предназначении.
Соотнесенный с такой истиной человек не может быть рационально
действующей машиной, его экзистенциальная сущность не улавливается рационально, не выражается в общих формулах, которые по
определению анонимны как анонимен формулирующий их язык. Неразрешимое по сути противоречие между всеобщностью языка, на
котором мы должны говорить, чтобы сделаться понятными, и уникальностью индивидуального опыта, предполагающей столь же уникальные
способы выражения, остро осознавалось Кьеркегором. В отличие от
Шопенгауэра, пытавшегося выражать новое мироощущение в традиционной форме философского трактата, он постоянно искал адекватную своим целям языковую форму. Создаваемые им произведения,
написанные от лица различных псевдонимов, не развертывали перед
читателем логическую цепочку вытекающих один из другого тезисов,
но порождали поле диалогического напряжения, провоцирующее собеседника на осмысление собственного опыта.
Начатый в первой половине XIX века пересмотр глубинных оснований человеческого бытия и поиск языка, который мог бы эти основания выразить, продолжается в конце XIX–XX веке, в первую очередь,
в таких философских течениях, как философия жизни и экзистенциализм. Вильгельм Дильтей использует в качестве инструмента для такого пересмотра категорию жизни: «Основной корень мировоззрения –
жизнь. Распространенная по земному шару в бесчисленном множестве
отдельных замкнутых кругов жизни, вновь переживаемая в каждом
индивидууме, недоступная наблюдению, как одно лишь мгновение
современности, а потому и сохраняемая в следующих за этим мгновением воспоминаниях, полнее постигаемая во всей глубине в своих
объективированных проявлениях, нежели в форме субъективного
переживания – жизнь нам знакома в бесчисленных формах и тем не
менее обнаруживает всегда одни и те же общие черты» (Дильтей 1995
(1912), с. 216, пер. Г. Котляра и С. Гессена). В установке на всеобщность,
тотальность описания можно увидеть следы просвещенческого уни-
�62
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
версализма, но в отличие от кантовских трансцендентальных единств,
за которыми стоит рациональная схема понимания человека, жизнь
вводится Дильтеем как более фундаментальная структура, включающая
в себя рациональное, но не сводящаяся к нему. «Мировоззрения не
являются созданием мышления. Они не возникают в результате одной
лишь воли познания. Постижение действительности есть важный момент в их образовании, но только один из моментов. Они – результат
занятия в жизни позиции, жизненного опыта всей структуры нашего
психического целого» – уточняет он (там же, с. 225).
Близкий, по сути к позиции Дильтея, хотя и выраженный иными
философскими средствами взгляд мы находим в философии Бергсона.
Приведу одну цитату из его работы «Творческая эволюция»: «Отвергая…
внушаемое рассудком искусственное внешнее единство природы, мы
отыщем, быть может, ее истинное единство, внутреннее и живое. Ибо
усилие, которое мы совершаем, чтобы превзойти чистый рассудок,
вводит нас в нечто более обширное, из чего выкраивается сам рассудок
и от чего он должен был отделиться…
Итак, сосредоточимся на том, что в нас одновременно и наиболее
отдалено от внешнего и наименее проникнуто интеллектуальностью.
Поищем в глубине самих себя такой пункт, где мы более всего чувствуем, что находимся внутри нашей собственной жизни. Мы погрузимся
тогда в чистую длительность (la pure durée), в которой непрерывно
действующее прошлое без конца набухает абсолютно новым настоящим
(le passé, toujours en marche, se grossit sans cesse d'un présent absolument
nouveau). Но в то же время мы почувствуем, что наша воля напряжена
до предела. Резким усилием наша личность должна сжать саму себя,
чтобы мы собрали ускользающее от нас прошлое и толкнули его, плотное и неделимое, в настоящее, которое оно создает, проникая в него.
Моменты, когда мы до такой степени овладеваем собой, очень редки,
они составляют одно целое с нашими подлинно свободными действиями. Но даже и тогда мы не можем удержать себя целиком. Наше
ощущение длительности, то есть совпадение нашего я с самим собою,
допускает степени. Но чем глубже чувство и полнее совпадение, тем
больше та жизнь, в которую они нас уводят, поглощает интеллектуальность, превосходя ее (la vie où ils nous replacent absorbe l’intellectualité
en la dépassant)» (Бергсон 2001 (1907), с. 204, пер. В. Флеровой; ср.:
Marrati 2005, p. 1099–1107).
В философии экзистенциализма новый взгляд на мир и человека
выразился в новом понимании бытия. Если у творца этой категории
Парменида бытие представляло собой вечный, неизменный, бездрожный Сфайрос, а у Платона носителями бытия были столь же вечные и
неизменные эйдосы9, то у Хайдеггера бытие оказывается прочно связанным с категорией времени (Хайдеггер 2003 (1927); Хайдеггер 2007
Глава 3. Философские и психологические основания...
63
(1962)). За этой связью стоит признание конечности человека конституирующим элементом философского размышления. То, что раньше
воспринималось как ущербность, изъян, теперь становится отправной
точкой, лежащей в основе последующих выводов. Центр координат из
вечности перемещается в конкретного человека, погруженного во
временной поток. В частности, это проявляется в изменении соотношения между сущностью и существованием. Как утверждает Сартр, в
предшествующей философской традиции сущность предшествует существованию. «Человек обладает некой человеческой природой. Эта
человеческая природа, являющаяся “человеческим” понятием, имеется у всех людей. А это означает, что каждый отдельный человек – лишь
частный случай общего понятия “человек”. У Канта из этой всеобщности вытекает, что и житель лесов – естественный человек, и буржуа
подводятся под одно определение, обладают одними и теми же основными качествами. Следовательно, и здесь сущность человека предшествует его историческому существованию, которое мы находим в
природе…
Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению,
что первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится впоследствии, причем таким человеком, каким он сделал себя
сам. Таким образом, нет никакой природы человека, как нет и бога,
который бы ее задумал. Человек просто существует, и он не только
такой, каким себя представляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он представляет себя уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже после того, как начинает существовать, и
после этого порыва к существованию, то он есть лишь то, что сам из
себя делает» (Сартр 1989 (1946), с. 322–323, пер. А. Санина; ср.: Ясперс
1991 (1948), с. 431–442).
Другой вектор изменения представлений о сущности человека связан с философией прагматизма. Прагматизм отходит от доминирующего в предшествующей философии образа человека-теоретика, проявляющего себя, в первую очередь, в выполнении различных логических операций, и делает акцент на обычном человеке, погруженном в
стихию повседневности. Люди и вещи, которые изо дня в день окружают человека, одежда, которую он носит, совершаемые им повседневные практики формируют систему координат, определяющую для
него значение того или иного фрагмента окружающего его мира, а
также его самого (Джемс 1991 (1890), с. 80–119; Дьюи 1999 (1910),
с. 7–48)10.
Б) С новым взглядом на природу мира и природу человека непосредственно связано новое представление об исходных методах познания этой природы. Постижение существующих в вечности идеальных объектов достигается благодаря рациональному размышлению, но
�64
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
для восприятия экзистенциальных основ мира и человека такое размышление уже бесполезно, оно не решает своей задачи, бьет мимо
цели. Здесь требуются особые формы познания, связанные с понятием
интуиции. Хотя противопоставление интуитивного постижения истины и ее рационального «вычисления» имеет прочные корни в ранней
философской традиции (νο и δινοια у греков, intellectus и ratio у
римлян и в западном Средневековье), оно оказывается невостребованным в философском рационализме XVII–XVIII веков. Идея инсайта
вновь актуализируется в ряде философских течений конца XIX – начала XX века, становясь важной основой для построения новых когнитивных моделей.
Можно говорить о связи интуитивного постижения истины с мистическим (симультанным и целостным) улавливанием воли божества,
выраженным в понятии мантиса в Античности, а также с мистическими идеями средневекового христианства (см.: Глебкин 2010, с. 86–87).
Однако если в ранней философской традиции интуиция была средством для постижения высшей истины, имеющей трансцендентный
характер или приближающей человека к трансцендентному, в философии конца XIX – начала XX века она характеризует наряду с этим
взаимоотношения между людьми. У Дильтея идея интуиции связана с
описанной выше категорией жизни. Люди могут понимать внутренние
переживания друг друга, обладая общностью внутреннего опыта. Связь
с категорией жизни (Leben) выражается у Дильтея в понятии переживания (Erlebnis), за которым стоит погружение в стихию жизни и
ощущение себя частью этой стихии. Здесь философия при описании
процесса познания обращается от рациональных конструкций к иным,
более глубоким основаниям, которые в значительной степени опираются на иррациональный пласт. Идея интуитивного постижения истины оказывается крайне актуальной и для философии Бергсона,
выражаясь, в частности, в характерном для него противопоставлении
инстинкта и интеллекта. Интуиция описывается Бергсоном как рефлексирующий инстинкт: «Внутрь же самой жизни нас могла бы ввести
интуиция – то есть инстинкт, ставший бескорыстным, осознающим
самого себя, способным размышлять о своем предмете и расширять
его бесконечно» (Бергсон 2001 (1907), с. 185, пер. В. Флеровой; ср.
Bennett 1916; Cunningham 1924).
В) Как уже отмечалось выше, кардинальная трансформация традиционного для философии проблемного поля потребовала и принципиально нового языка описания, что привело также к принципиально
новому взгляду на язык, на его структуру и стоящие перед ним онтологические задачи. Этот взгляд был представлен, прежде всего, в работах по философской герменевтике, в первую очередь, в текстах
позднего Хайдеггера и Гадамера. Гадамер подчеркивает непосредствен-
Глава 3. Философские и психологические основания...
65
ную связь между герменевтикой и философией жизни, обращаясь к
идеям Дильтея: «Жизнь истолковывает саму себя. Она сама имеет герменевтическую структуру. Следовательно, жизнь составляет истинную
основу наук о духе» (Гадамер 1988, с. 275, пер. С. Земляного)11. Инструментом, с помощью которого осуществляется подобное истолковывание, становится язык, да и сама жизнь может быть понята при таком
подходе как сложно организованный текст. Ключевым средством интерпретации и жизни, и отдельного текста оказывается идея герменевтического круга: «Подобно взаимосвязи текста, структурная взаимосвязь жизни определена соотношением целого и частей. Каждая часть
выражает некоторую сторону жизни, т. е. имеет значение для целого,
а собственное значение части определяется на основе целого» (там же,
с. 273).
Важной составляющей позиции Гадамера является отчетливо сформулированный им принцип историзма: «Подлинно историческое
мышление должно мыслить и свою историчность. Тогда оно уже не
будет гнаться за призраком исторического объекта, предметом прогрессирующего научного исследования, но сумеет распознать в объекте иное своего собственного, а тем самым научиться познавать и
одно, и иное»12 (Гадамер 1991а, с. 81–82, пер. Ал. Михайлова). Эти идеи
Гадамера окажутся актуальными для нас в третьей части книги.
Г) Особое место по их значимости для современной лингвистики
занимают философские работы позднего Л. Витгенштейна, автора
«Философских исследований», трактата «О достоверности» и др. В
целом, его позиция тесно коррелирует с мировоззренческими установками, описанными выше, но при этом она формулируется непосредственно на материале языка. Потребность в языке, с точки
зрения Витгенштейна, определяется запросами, возникающими в
процессе практического общения, в процессе коммуникации13. Разнообразие коммуникационных ситуаций ведет к появлению различных, весьма причудливым образом связанных между собой языковых
игр, вся совокупность которых и образует наш повседневный язык14.
Важной чертой таких игр, не акцентируемой Витгенштейном, но
отчетливо заметной в конкретном анализе, является их связь с историческим контекстом, их эволюция со временем: от спонтанности
и подчиненности непосредственному окружению до формализованной абстрактности и регулярности. Эта идея выражена у Витгенштейна в образе города: «Наш язык можно рассматривать как старинный
город: лабиринт маленьких улочек и площадей, старых и новых домов, домов с пристройками разных эпох; и все это окружено множеством новых районов с прямыми улицами регулярной постройки
и стандартными домами» (Витгенштейн 1994 (1953), с. 86, пер.
М. Козловой и Ю. Асеева).
�66
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
Позиция Витгенштейна плохо укладывается в целостную систему,
наоборот, весь ее пафос направлен скорее на то, чтобы расшатывать
любую систему, бежать от систематичности. Австрийский философ
подчеркивает, что формальная логика, которая считалась необходимым
основанием языка, не выполняет своей дескриптивной функции,
определяющий для описания языка элемент – повседневная жизнь,
практические потребности человека15. Важным для дальнейшего анализа является отмеченная им комплексная природа языка, сближающая
его описание с обсуждаемым в следующем параграфе механизмом
«мышления в комплексах»: «Вместо того чтобы выявлять то общее, что
свойственно всему, называемому языком, я говорю: во всех этих явлениях нет какой-то одной общей черты, из-за которой мы применяли
к ним всем одинаковое слово. – Но они родственны друг другу многообразными способами. Именно в силу этого родства или же этих родственных связей мы и называем всех их “языками”» (там же, с.110).
Далее австрийский философ иллюстрирует это утверждение, обращаясь к слову игра: мы знаем громадное количество игр, для которых
сложно найти единый, объединяющий их всех признак: карты, игры
на доске, игры в мяч, прятки, игра в куклы, в «дочки-матери» и т. д.
Далеко не во всех играх есть победа и поражение, далеко не во всех
присутствует элемент соревновательности между игроками. Итог проведенного анализа таков: «Мы видим сложную сеть подобий, накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с другом, сходств
в большом и малом» (там же, с. 111).
Не создав целостной модели языка, Витгенштейн обозначил ряд
крайне важных с точки зрения методологии представлений о формировании языка и общих подходов к его описанию. Многие из его идей
будут актуальны для нас в следующих главах.
Подводя итог проделанному в данном разделе обзору, важно еще
раз обозначить его цели. Описанная здесь трансформация традиционного философского поля, представлений о бытии, о сущности человека, о языке создавала питательную среду для появления новых семантических теорий, в базовых постулатах и методологии которых более
или менее отчетливо узнаются ее следы. В отдельных случаях философский контекст распознается непосредственно, но чаще посредником между ним и конкретными моделями оказываются идеи из области когнитивной науки, имеющие свой исток в фундаментальных
работах по когнитивной психологии, появившихся в первой половине
XX века.
Глава 3. Философские и психологические основания...
67
3.2. Представления о мышлении и языке в генетической
психологии, гештальт-психологии
и культурно-исторической психологии
В базовом для данного исследования проблемном поле следует выделить три психологические школы, влияние которых на дальнейшее
развитие когнитивной науки можно считать определяющим: гештальтпсихологию, генетическую психологию Ж. Пиаже и культурноисторическую психологию Л.С. Выготского. Наш анализ мы начнем с
гештальт-психологии.
Ключевым для гештальт-психологов становится обсуждаемое в
предыдущем разделе понятие интуитивного озарения, инсайта. Один из
основателей гештальт-психологии М. Вертгеймер в своей итоговой
монографии противопоставил формально-логической дедукции и операции индуктивного обобщения особый тип мышления, ведущий к
глубинному пониманию объекта или явления, тип, который он назвал
продуктивным мышлением (Вертгеймер 1987 (1943), с. 34–35). Это форма
мышления, по его утверждению, направлена на постижение инвариантной структуры соответствующего предмету или явлению целого, сохраняющейся при различных трансформациях частей. Такая форма мышления представляет собой когнитивный акт, который опирается на совокупный опыт человека, включающий его перцепцию и проприоцепцию
(подробнее см.: Глебкин 2010, с. 60–61). В. Келер использовал эти идеи
в исследованиях интеллекта человекообразных обезьян, показав, что
способность к инсайту, к выходящему за рамки метода «проб и ошибок»
интуитивному решению задачи при определенных условиях (присутствие
всех необходимых для решения задачи элементов в одном с шимпанзе
оптическом поле) присуща не только людям, и установив связь между
когнитивными процессами у людей и у животных (Келер 1998 (1917)).
В контексте данного исследования необходимо упомянуть также
работы К. Левина по теории поля в психологии и социальных науках,
генетически связанные с традицией гештальт-психологии (Левин 2000
(1940–1947)). Распространив физическую теорию поля на психологическое и социальное пространства, Левин предложил интерпретировать
поведение индивида как результат различных сил, действующих на
него. Наряду с физическими силами он говорил также о психологических и социальных, на более привычном языке выражаемых понятиями мотивов, стимулов, потребностей, препятствий. Возможно, излишне формализованная в первоначальном варианте и опирающаяся на
слишком непосредственные аналогии с математикой и физикой, теория Левина оказала при этом заметное влияние на других психологов,
в частности, на Л.С. Выготского.
�68
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
В отличие от работ гештальт-психологов, для которых проблемы
языка и речи носили, в целом, вторичный характер, в культурноисторической психологии вопрос о соотношении мышления и речи
был одним из определяющих. Для целей данной книги важны несколько аспектов психологического учения Л.С. Выготского.
1. Мышление и речь имеют различные генетические корни. Инструментальное мышление, предполагающее простейшее использование орудий, не связано с речью и встречается уже у обезьян и детей
9–12 мес., а голосовая реакция изначально выполняет функции выражения эмоций и социального контакта (Выготский 1982 (1934),
с. 110; Выготский 1983 (1931), c. 166–167).
2. Мышление, связанное с речью и словом, не является статичной
структурой, оно эволюционирует со временем. Специфика создаваемых
человеком речевых конструкций, специфика языка, на котором он говорит, определяется особенностями используемых им когнитивных
моделей. Речь ребенка в возрасте 1–2 лет Выготский называет автономной речью. Автономный язык аграмматичен, в нем отсутствуют законы
объединения отдельных слов в связную речь. «Здесь господствуют совсем
другие законы связывания и объединения слов – законы объединения
междометий, переходящих друг в друга, напоминающих ряд бессвязных
восклицаний, которые мы издаем иногда в сильном аффекте и волнении»
(Выготский 1984 (1933/34), с. 328). Слова автономной речи отличаются
от слов обычного языка фонетически («пу-фу», «бо-бо»), и, что более
важно, по значению (Выготский 1984 (1933/34), с. 326). В качестве иллюстрации Выготский обращается к автономному слову «пу-фу». «Оно
означает бутылку с йодом, сам йод, бутылку, в которую дуют, чтобы получить свист, папиросу, из которой пускают дым, табак, процесс тушения, потому что там тоже надо дуть, и т. д. Слово, его значение охватывает целый комплекс вещей, которые у нас никак не обозначаются одним
словом. Эти слова со стороны значений не совпадают с нашими словами, ни одно из них не может быть полностью переведено на наш язык»
(там же, с. 326–327). Более того, оказывается, что это значение носит
не предметный, а ситуационный характер, оно, неустойчиво, изменчиво, зависит от конкретной ситуации, в значительной степени определяясь субъективным опытом ребенка (там же, с. 333). Далее, как отмечает
Выготский, «слова автономной речи имеют индикативную и номинативную функцию, но не имеют сигнификативной функции. Они не
обладают еще возможностью замещать отсутствующие предметы, но
могут в наглядной ситуации указывать на ее отдельные стороны или
части и давать этим частям название. Поэтому с помощью автономной
речи ребенок может разговаривать только о том, что он видит, в отличие
от использования развитой речи, когда мы можем разговаривать о предметах, не находящихся перед глазами» (там же, с. 332).
Глава 3. Философские и психологические основания...
69
Этим особенностям языка соответствует особый тип мышления,
который Выготский называет «мышлением в комплексах»16. Если не
вдаваться в детали, можно сказать, что под комплексами Выготский
понимал структуры, в которых отсутствует «дальний порядок», задающий универсальные принципы их внутренней организации, но присутствует «ближний порядок» связей между элементами, определяющийся повседневным опытом человека. Другими словами, существует
определенный принцип, связывающий соседние элементы (появление
в определенном контексте, форма, цвет, функция и т. д.), но этот принцип меняется при переходе от области к области и не выдерживается
на протяжении всей структуры. «Самое существенное для построения
комплекса то, что в основе его лежит не абстрактная и логическая, но
конкретная и фактическая связь между отдельными элементами, входящими в его состав. Так, мы никогда не можем решить, относится ли
данное лицо к фамилии Петровых и может ли оно быть так названо,
основываясь лишь на логическом отношении его к другим носителям
той же фамилии. Этот вопрос решается на основании фактической
принадлежности или фактического родства между людьми» (Выготский
1982 (1934), с. 148)17. С развитием изменяется структура комплекса, в
нем все заметнее становятся объективные связи. Наиболее развитую
форму комплекса Выготский называет псевдопонятием, отмечая, что
внешне эта структура напоминает понятие, но за ней стоят принципиально иные, чем в случае понятия, когнитивные операции (Выготский 1982 (1934), с. 148)18.
Важным для дальнейшего является замечание Выготского, что
эволюция значений слов в повседневном языке подчиняется принципам «мышления в комплексах»:
«Возьмем для примера историю русского слова “сутки”. Первоначально оно означало “шов”, “место соединения двух кусков ткани”,
“нечто сотканное вместе”. Затем оно стало обозначать всякий стык,
угол в избе, место схождения двух стен. Далее в переносном смысле
оно стало обозначать сумерки – место стыка дня и ночи, а затем уже,
охватывая время от сумерек до сумерек, или период времени, включающий утренние и вечерние сумерки, оно стало означать “день и
ночь”, т. е. сутки в настоящем смысле этого слова.
Мы видим, таким образом, что такие разнородные явления, как
шов, угол в избе, сумерки, сутки, объединяются в историческом развитии этого слова в один комплекс по тому же самому образному признаку, по которому объединяет в комплекс различные предметы ребенок» (Выготский 1982 (1934), с. 164)19.
3. Еще одним принципиальным положением Выготского является
утверждение об аффективно-волевой природе мышления, выраженное
в его поздних работах в идее связности с полем. Структура психологи-
�70
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
ческого поля, по Выготскому, определяется сложным взаимодействием внешней ситуации и внутренних установок человека, и одни и те
же обстоятельства могут вести к принципиально различным аффективно-мотивационным схемам. «Например, ряд людей ждет трамвая,
для всех как бы одинаковая ситуация ожидания, однако для того, кто
из-за отсутствия трамвая может опоздать к поезду, это поле получит
другой психологический смысл, чем у человека, который никуда не
торопится. У большинства ожидающих будет в зависимости от цели их
поездки разное психологическое поле. Психологическое поле определяется поэтому теми потребностями, аффективными побуждениями,
которые в данный момент имеются у личности, в зависимости от них
разные моменты внешней ситуации займут то или иное место в психологическом поле и получат различное побудительное значение»
(Самухин и др., 1981 (1934), с. 126). Аффективно-волевая составляющая, по Выготскому, формирует когнитивные доминанты, направляя
когнитивные процессы по более или менее жестко заданным каналам
и не позволяя им отклоняться в сторону. В ситуации простого по структуре психологического поля с ярко выраженной аффективной составляющей когнитивные процессы вводятся в строго определенные
рамки, и созданный для них жесткий структурный каркас разрушает
возможность «мышления о мышлении», т. е. возможность рефлексии,
оценки собственных действий и стоящих за ними когнитивных процедур. С другой стороны, в заданных границах когнитивная деятельность резко активизируется, подпитываемая аффективной составляющей. Выготский использует понятие связности с полем, по крайней
мере, в двух конкретных случаях, удовлетворяющих указанному выше
условию: при исследовании психологических механизмов деменции,
возникающей при болезни Пика, и при анализе развития мышления
в раннем детстве. В первом из них ему и коллегам, опираясь на описанный инструментарий, удается показать, что «деменция представляется… не простым, хаотически построенным конгломератом отдельных
исковерканных и утраченных функций, но определенной структурой,
целостной, закономерно построенной картиной психической жизни,
подчиненной общим психологическим закономерностям, приобретающим качественно-своеобразное выражение при данных конкретных
патологических условиях» (там же, с. 148–149). Во втором случае он
обращает внимание на связанность мышления ребенка с ситуационным
полем, говоря об аффективной заряженности каждой попадающей в
поле его зрения вещи (Выготский 1984а (1933/34), с. 345), и исследует
способы преодоления этой связанности, операции, выводящие ребенка за рамки привычного для него повседневного контекста. Выготский
находит такие механизмы в игре, рассматриваемой им в качестве ключевого для ребенка способа формирования произвольной позиции, как
Глава 3. Философские и психологические основания...
71
в эмоциональном, так и в рациональном плане (Выготский 2004
(1933)).
4. Любопытной и, несмотря на всю полемичность, важной в методологическом отношении является предложенная отечественным
исследователем концепция формирования письменной речи. Выготский утверждает, что рисунок, письменный знак на ранних стадиях
оказывается у ребенка закрепленным, зафиксированным жестом.
Ребенок изначально не рисует, изображая окружающую его реальность,
а указывает, и его рисунок фиксирует этот указательный жест. Неважно, какой предмет изображается ребенком, для него важны не
форма и структура предмета, а способ взаимодействия с ним. Именно
поэтому он легко принимает в игре, что карандаш – это извозчик,
часы – аптека, и сам достраивает эту условную ситуацию (цифра на
циферблате – лекарство и т. д.) (Выготский 2004а (1928/9), с. 425–430).
Позднее рисунки превращаются в своеобразную форму речи, в графическую речь, рисунок содержит в себе рассказ, а затем ребенок
переходит от рисования вещей (символизм первого порядка) к рисованию слов (символизм второго порядка). Письмо для ребенка, осознающего суть письменной речи – это рисование не вещей, а слов
(там же, с. 433–440).
Для нас в приведенной картине интересно представление о языке
как свернутой форме реального действия, как вырастающей из него и
являющейся его символическим продолжением и одновременно символическим хранилищем структуре. Сама методология здесь, как мы
видим, кардинально противоречит представлениям Хомского о языковой способности как автономной системе в человеке.
Еще одним направлением, существенно повлиявшем на концептуальный каркас современных психологических представлений о когнитивных процессах, является генетическая психология Жана Пиаже.
Основной пафос его исследований состоит в преодолении изоляционистского взгляда на мышление, при котором оно рассматривается как
процедура, осуществляемая в особой реальности по особым, описываемым формальной логикой законам. Пиаже настаивает на обратном
соотношении между логикой и мышлением: «логика является зеркалом
мышления, а не наоборот» (Пиаже 1994, с. 81). Можно сказать, что
логика – это идеальная модель, идеальный каркас для описания реальных когнитивных процессов, никогда полностью не воплощающийся в реальность. С другой стороны, само мышление и связанная с ним
речь (вербальное поведение) представляют собой интериоризацию
действия, т. е. действие, которое замещает вещи знаками (ср. с Выготским). Все базовые законы мышления являются результатом интериоризации действий человека как физического тела и как социокультурного существа (подробнее см.: Глебкин 2010, с. 63–65).
�72
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
Пиаже специально не занимался проблемами языка, но в первой
главе мы обсуждали сформулированный им в полемике с Хомским
взгляд на язык, который чрезвычайно важен для нас в методологическом отношении. В полном соответствии с представлениями о мышлении как интериоризованном действии и логике как идеальной модели мышления, он рассматривает синтаксис языка как интериоризацию понимаемого в широком смысле «синтаксиса» повседневных
бытовых действий, таких как открывание рта или открывание коробки.
Относительная автономия синтаксиса в языке является прямым отражением такой автономии в повседневной практике человека.
3.3. Базовые направления развития идей классической
когнитивной психологии в современной
психологии и когнитивной науке
Пожалуй, наиболее существенным для данной монографии направлением развития сформулированных выше концепций в современной
психологии и когнитивной науке можно считать комплекс идей, связанных с понятием grounded cognition (возможный перевод этого сочетания на русский язык – укорененное в природном и социокультурном окружении познание). Важнейшим элементом grounded cognition,
часто используемым как его синоним, является embodied cognition или
embodiment («отелесненное», вырастающее из перцептивного и проприоцептивного опыта познание). Другими словами, название подчеркивает прямое влияние перцепции и проприоцепции на осуществление ментальных актов20.
О значимости телесных проекций для осуществления когнитивных
процессов говорили гештальт-психологи. Крайне показательными
являются также опросы Адамара, в которых некоторые ведущие математики и физики-теоретики первой половины ХХ века указывали на
значимость психосоматических факторов в процессе совершаемых ими
научных открытий (Глебкин 2010, с. 61–62). Цитируемое А. Пуанкаре
высказывание Э. Оже «Ноги – колеса мысли» образно характеризует
идею embodiment. В последние три десятилетия эти наблюдения дополнились весомым массивом разнообразных экспериментальных
подтверждений.
Первая группа экспериментов связана с сопоставлением реальной
перцепции или движения и их воспроизведением в процессе зрительного наблюдения, мысленного представления или вербального выражения.
Эксперименты выявляют отчетливый параллелизм между возбуждением
нейронных сетей, соответствующих ситуациям указанных типов. Число
таких экспериментов измеряется сотнями, если не тысячами; ниже я
приведу лишь несколько описаний, характеризующих основную идею.
Глава 3. Философские и психологические основания...
73
Первые исследования в данной области были осуществлены в начале ХХ века. Одной из наиболее ранних иллюстраций можно назвать
открытие Перки-эффекта (Perky 1910)21. Эксперимент проходил следующим образом: испытуемого помещали перед экраном и просили вообразить определенный предмет (банан или лист), а потом, не говоря ему
об этом, проецировали данный предмет на экран, сначала очень слабо,
за порогом восприятия, но затем все более и более отчетливо. Исследователи обнаружили, что выполнявшие задание участники эксперимента не могли четко зафиксировать момент появления реальной проекции
на экране, хотя это легко делали испытуемые из контрольной группы,
просто смотревшие на экран без всяких предварительных установок. На
языке современной нейропсихологии этот результат обычно интерпретируется как близкое соответствие между нейронными сетями, возбуждающимися в процессе мысленного представления банана и его созерцания. Многочисленные исследования, осуществленные в последние
десятилетия, дали разнообразные подтверждения Перки-эффекта и
свидетельства теснейшей связи между воображением и непосредственным восприятием, осуществляющимся не только в зрительных, но и в
слуховых, обонятельных и других образах (воображение запахов, звуков
и др.)22 (см., напр.: Farah 1988; Hubbard, Stoeckig 1988; Farah 1989; Kosslyn
et al. 1993; Zatorre, Halpern 1993; Djordjevic et al. 2004).
Параллелизму между актуальным действием и зрительным восприятием также посвящено значительное число работ, среди которых
необходимо выделить открытие зеркальных нейронов, осуществленное
в начале 1990-х Дж. Ризолатти с коллегами. Наблюдая за обезьянами,
получающими еду от экспериментатора, исследователи обнаружили,
что группы нейронов, ответственных за моторные операции с пищей
(захват и удержание), возбуждаются не тогда, когда обезьяны видят
пищу, а тогда, когда они видят, как экспериментатор берет ее. Результаты эксперимента привели к предположению, что при наблюдении
за каким-либо действием это действие как в зеркале отражается в восприятии наблюдающего и бессознательно воспринимается им как
нечто близкое ситуации, в которой он сам совершает его. Позднее,
сделанное открытие было подтверждено многочисленными исследованиями нейронных процессов, как у обезьян, так и у людей23. Не
обсуждая всего разнообразия интерпретаций приведенных экспериментальных данных, хотелось бы обратить внимание на два очевидных
момента, использованных как методологическая основа в целом ряде
актуальных для данной книги лингвистических моделей: во-первых,
действие и зрительное восприятие существуют в человеке не как два
отдельных модуля, две независимые системы, а тесно коррелируют
между собой; во-вторых, человеческое сознание и человеческий мозг,
будучи самым непосредственным образом включенными в процессы
�74
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
коммуникации, обладают гораздо меньшей степенью автономии, чем
это было принято считать в классических философских теориях. В
каком-то смысле полученные результаты дают основания и указывают
направление для конкретной интерпретации предложенной Дильтеем
концепции интуитивного понимания. Опорой для такого понимания
является общий для людей опыт, репрезентирующийся в общности
возбуждаемых нейронных сетей.
Следующая группа экспериментальных исследований, на которую
следует обратить внимание, связана с влиянием перцепции на мышление, с выявлением перцептивного компонента в когнитивных процессах. Эта группа соотносится с упомянутыми выше наблюдениями
Адамара. Остановимся в качестве иллюстрации на двух экспериментах.
В исследованиях Д. Лэнди и Р. Голдстоуна показано, что при предъявлении испытуемым линейных уравнений вида 3х+2=8, сопровождаемых фоновым движением, либо сонаправленным с направлением
осуществления преобразований (в данном случае, слева направо;
3x=8–2, x=(8–2)/3), либо направленным в противоположную сторону24,
число ошибок в решении и время, затраченное на него, возрастали при
противонаправленном движении, причем этот фактор оказался заметнее для более успешных и опытных в решении таких задач испытуемых
(см.: Landy, Goldstone 2009)25.
В экспериментах И. Ванкова и Б. Кокинова участникам предлагались изображения предметов, образующих или не образующих
осмысленные пары (утюг – гладильная доска, топор – полено, или,
соответственно, утюг – полено) и вместе с этим на правую и левую
руки по отдельности, и затем на обе руки одновременно надевались
полукилограммовые браслеты26. В эксперименте измерялось время
реакции, т. е. время, необходимое для того, чтобы определить, соответствуют или не соответствуют предметы друг другу. Оказывалось,
что наличие браслетов на обеих руках не изменяет время реакции по
сравнению с ситуацией их отсутствия, наличие только на правой –
немного увеличивает это время, только на левой – заметно увеличивает его (см. Vankov, Kokinov 2011). Если в предыдущем эксперименте был установлен факт непосредственной корреляции зрительного
движения с ментальным движением, то здесь мы можем наблюдать,
как нарушение перцептивного баланса ведет к осложнениям в когнитивных операциях.
Следующая группа экспериментов обращается уже непосредственно
к языку. Полученные здесь результаты показывают, что слова и предложения прямо связаны с перцептивными структурами, и семантическая информация «цепляет», по крайней мере, часть нейронных сетей,
активирующихся при обычной перцепции. Так, в серии экспериментов
был выявлен аналог Перки-эффекта для языка (обзор см. в работе:
Глава 3. Философские и психологические основания...
75
Bergen 2007, c. 286–289). Испытуемые слышали предложение, в котором
описывалось движение вверх, вниз, к субъекту или от субъекта (например, Подводная лодка начала погружение – движение вниз; Алексей
уходил от нас все дальше и дальше – движение от субъекта) и одновременно наблюдали на экране визуальную иллюзию движения в одном
из этих направлений. Задание для участников состояло в том, чтобы
определить, является ли услышанное предложение осмысленным. Ответ на этот вопрос занимал у них больше времени в случае, если направления движения в предложении и на экране совпадали (т. е., в
традиционной интерпретации, одни и те же нейронные сети вовлекались в различные процессы, и на их обработку требовалось больше
времени). Разнообразные вариации такого рода экспериментов установили отчетливую корреляцию (проявляющуюся в возбуждении одинаковых или, по крайней мере, частично совпадающих нейронных сетей)
между семантически воспринимаемым и видимым движением.
Другая серия экспериментов выявила аналогичную корреляцию
между моторно-топологическими схемами действия и значениями отдельных глаголов (обзор см. в работе: Bergen 2007, c. 289–294). Один из
вариантов выглядел следующим образом. Сначала перед участниками
появлялась картинка с изображением некоторого действия (например,
подпрыгивания), а затем сразу вслед за ней на экране появлялись глаголы, соответствующие картинке (подпрыгивать), не соответствующие,
но описывающие действия, производимые теми же частями тела (бежать, например) и другими частями тела (например, чесаться). Требовалось определить, соответствует ли значение глагола предшествующей
картинке. Оказалось, что на отрицательный ответ для бежать уходит
больше времени, чем для чесаться. В других экспериментах, где появление глагола предшествовало появлению картинки или испытуемым
были предложены два глагола, результаты оказались аналогичными.
Так, в случае пар глаголов идти – шагать, идти – танцевать, идти –
сердиться времени на отрицательный ответ для идти – танцевать
требовалось больше, чем для идти – сердиться27.
Интересный эксперимент другого рода описан в работе Т. Мэтлока
(Matlock 2004). Участникам предлагались две идентичные текстуально
и различавшиеся лишь цифрами истории, моделирующие фиктивное
движение. В одном из вариантов эксперимента описывалось, как некая
девушка едет по шоссе 49 сквозь пустыню к дому своей родственницы,
и в одном случае подчеркивалась длительность путешествия, а в другом – его краткость (большая пустыня – небольшая пустыня; это заняло у нее целых 7 часов – это заняло у нее только 2 часа и т. д.).
После этого участникам задавался вопрос: «Соответствует ли переложение Шоссе 49 проходит сквозь пустыню рассказанной истории?» В
случае «долгого» сценария на ответ уходило больше времени, чем в
�76
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
ситуации «краткого». Когда вопрос был переформулирован в виде «Соответствует ли предложение Шоссе 49 находится в пустыне рассказанной истории?», ответ для долгого и краткого сценариев оказался
одинаковым.
Аналогичное исследование было проведено А. Гленбергом с коллегами (Glenberg et al. 1987). Участникам эксперимента предлагался
рассказ про марафонца, который в одном варианте надел спортивную
майку, чтобы бежать кросс вокруг озера, а в другом, наоборот, предварительно снял ее (оба варианта были текстуально абсолютно идентичны, различаясь лишь одним словом). Затем участники должны были
ответить на вопрос, встречается ли в рассказе слово «майка». В первом
случае времени на ответ требовалось меньше, чем во втором.
Описанные эксперименты, как и ряд других подобного рода28, показывают, что человек в процессе чтения текста создает ментальную
модель описываемых событий, задействуя (по крайней мере, частично)
нейронные сети, которые возбуждаются при реальном движении. Картина для языка в целом соотносится с описанной выше моделью «зеркальных нейронов», только теперь вместо созерцания реальной картины читатель (или слушатель) «созерцает» ее лексический образ.
Реальность, воспринимаемая нами посредством языка, не отличается
принципиально от перцептивно ощущаемой реальности.
Наряду с описанными экспериментальными исследованиями важное
место в мировоззренческом фундаменте для построения антропоцентричных семантических моделей занимают теоретические обобщения,
отчасти базирующиеся на описанных данных, отчасти опирающиеся
на иной экспериментальный материал. Эти теории предлагают как отдельные понятия, которые потом будут использоваться в «антропоцентричной семантике», так и значимые теоретические блоки29.
Обзор таких теорий хотелось бы начать с осуществленных в 1970-е
годы Э. Рош исследований по категоризации объектов (Rosch 1973,
Rosch 1975, Rosch 1975a, Rosch 1977; обзор см., напр., в Rosch 1988).
Результаты этих исследований можно сформулировать следующим
образом:
а) в отличие от формально-логических аристотелевских категорий,
для которых все элементы категории равноправны и представляют ее
в равной степени, категории, в которых человек осмысляет окружающий мир и взаимодействует с ним, обладают неоднородной структурой.
В них есть выделяющиеся элементы (прототипы), представляющие
категорию «лучше», чем другие, выполняющие функцию «якорей»
(ideal anchoring points), задающих точки опоры для построения или
восприятия неустойчивого категориального массива. Эта неоднородность выявляется в специальных психолингвистических экспериментах, но она заметна и в повседневном опыте. Так, мы можем сказать,
Глава 3. Философские и психологические основания...
77
что 996 – это почти 1000, но не наоборот, или что линия, составляющая
угол 850 с горизонталью, расположена почти вертикально, но не наоборот (Rosch 1975, p. 533–534, 544–545; Rosch 1975a, p. 193–194, 225)30;
б) структура массива и принципы категоризации различаются для
естественных категорий (таких, как цвет и форма, например) и искусственных, возникающих в процессе человеческой деятельности
(домашние животные, машины). Если в первом случае структура категории в целом близка для разных культур и определяется психофизиологическими особенностями человека как вида, то во втором случае
определяющим фактором для категоризации и выделения прототипов
становится культурный контекст. При изменении контекста структура
категории тоже может изменяться, что крайне маловероятно для категорий первого типа (Rosch 1973, p. 348–349; Rosch 1975a, p. 224);
в) наряду с «горизонтальным» структурированием категорий в восприятии можно говорить и о вертикальной иерархии. Существует три
уровня категоризации объектов: роды, виды, подвиды. Базовым для
восприятия является средний уровень (не мебель и не венский стул, а
просто стул; не животное и не пудель, а собака). Описываемые категориями базового уровня объекты имеют единый по структуре зрительный образ и предполагают общие перцептивные схемы взаимодействия
с ними. Они более естественны для ситуации повседневной жизни,
чем объекты на двух других уровнях и поэтому, в частности, в первую
очередь осваиваются детьми (Rosch 1978, c. 33–35).
Не проводя здесь подробного критического анализа идей Рош 31,
замечу лишь, что предложенный ей подход обладает определенными
сходствами с описанной выше процедурой «мышления в комплексах».
Принципиальное отличие, однако, состоит в статичности ее модели.
Непонятно, как формируется описанная ей структура, может ли она
меняться со временем и если да, то какие факторы обусловливают это
изменение. Признавая вариативность структуры определенного класса категорий в зависимости от социокультурного контекста, Рош не
использует социокультурный анализ в непосредственных исследованиях. Однако возможность такого анализа заложена в ее позиции и
реализуется другими исследователями, развивающими теорию прототипов в рамках культурно-исторического подхода (см., напр.:
Geeraerts et al. 1994; Geeraerts 1997; Geeraerts 2006). В третьей части
книги мы коснемся этого сюжета более подробно.
Пожалуй, одна из наиболее фундаментальных и заметнее всего повлиявших на «антропоцентричную семантику» моделей была предложена Лоуренсом Барсалоу. Ключевым понятием в ней является система перцептивных символов (perceptual symbol system). Теория была
сформулирована в начале 90-х ХХ века и за последующие годы испытала определенную эволюцию, тем не менее, ее базовые постулаты в
�78
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
целом остались неизменными. По Барсалоу, системы перцептивных
символов обладают следующими свойствами32.
1. Они создают мультимодальные имитации (simulations) внешних
объектов, сохраняя в долговременной памяти информацию, поступающую из внешних органов чувств, а также информацию, полученную
благодаря проприоцепции и интроспекции33 (Barsаlou 1999, p. 580–581;
Yeh, Barsаlou 2006, c. 352). Так, система перцептивных символов, соотносящихся с понятием «машина», включает в себя зрительный образ
машины, звук работающего мотора, запах бензина, определенное положение тела, тактильные ощущения от поворачиваемого руля и нажимаемой педали, возможно, чувство легкого возбуждения, испытываемого в процессе вождения и т. д. (Barsаlou 1999, p. 586; ср. Gibbs
2005, p. 65–66).
1.1. В отличие от амодальных символов, обладающих жестко организованной дискретной структурой, не зависящей от внешнего контекста, структура перцептивных символов изменчива, она чутко реагирует на контекст, перестраиваясь в зависимости от внешних воздействий; при этом, однако, перцептивные символы являются иерархически
организованными системами, а не аморфными образованиями (там
же, p. 584; ср.: Shapiro 2008, p. 63–74).
1.2. В отличие от амодальных символов, организованных по принципиально иным, чем обычные перцепции, законам, системы перцептивных символов качественно не отличаются от обычных перцепций,
обладая, в целом, той же структурой (хотя определенные отличия все
же существуют – например, более глубокая связь с долговременной
памятью) (там же, p. 587, 641).
2. Совокупность перцептивных символов, зафиксированных в
долговоременной памяти, образует фрейм (frame), т. е. рамку, определяющую восприятие объектов, принадлежащих одному классу, при
следующем столкновении с ними. При этом процесс идентификации
объекта и построения его перцептивного образа происходит путем
взаимодействия двух потоков: от восприятия к сознанию (bottom-up)
и от перцептивной символической модели к восприятию (top-down).
Перцептивная и когнитивная информация располагаются не в параллельных плоскостях, не имеющих между собой общих точек, а в едином
пространстве, дополняя и корректируя друг друга. Важное место в этом
процессе занимают связанные с ситуационным контекстом фоновые
эффекты, которые определяют специфику восприятия. Промежуточным звеном между внешней ситуацией и структурой перцепции оказывается селективное внимание, которое вводит в информационное
поле те или иные ситуационные компоненты. Так, в приводимом выше
примере с машиной категоризация для человека, наблюдающего за
машиной со стороны, слышащего звук машины, но не видящего ее, и
Глава 3. Философские и психологические основания...
79
непосредственно сидящего за рулем будет осуществляться по различным моделям: в первом случае определяющим будет визуальный, во
втором звуковой, в третьем, возможно, тактильный, проприоцептивный и интроспективный образ. Далее, ножницы в руках парикмахера
и у ребенка на уроке труда будут вызывать различные ассоциации и,
следовательно, возбуждать различные перцептивные структуры, связанные с этим понятием34 (Barsalou 1999, p. 588–590; Barsalou 2005,
p. 398–414; Barsalou, Wiemer-Hastings 2005 p. 130–131; Yeh, Barsalou
2006, p. 354–376).
3. Предложенный Барсалоу подход принципиально изменяет и
традиционный взгляд на понятия, категории и процесс категоризации.
Понятие американский исследователь определяет как способность
создавать когнитивные динамические модели (в его терминологии –
имитации (simulations)) для родов вещей, называя его имитатором
(simulator), порождающим соответствующую модель. Критерий отнесения объекта к той или иной категории носит у него вполне конкретный эмпирический характер: если имитатор дает удовлетворительную
имитацию для воспринимаемой сущности, то она принадлежит данной
категории, если нет, то не принадлежит. При этом важно, что процесс
категоризации не носит универсального характера, он контекстно задан, различаясь для различных людей и не совпадая даже у конкретного человека в различные моменты времени 35 (Barsalou 1999, p. 588,
604; Yeh, Barsalou 2006, p. 353–354).
4. Язык принципиально не отличается от других способов воздействия на перцептивную систему человека, порождая динамические
имитации. В данном случае место мультимодальной перцептивной
информации занимают слова, аккумулирующие в себе эту информацию. Понимание речи и текста может быть описано как создание
динамических имитаций, репрезентирующих значение высказывания
или совокупности высказываний. Эти имитации соответствуют тому,
что другие исследователи часто называют ситуационными моделями
или ментальными моделями36 (Barsalou 1999, p. 605; ср. Zwaan 2008).
5. В последних работах Барсалоу с коллегами развивает свои идеи,
оформляя их в виде Language and Situated Simulation (LASS) Theory
(теории языка и ситуационно заданных имитаций) (Barsalou et al., 2008).
Важное дополнение к изложенным выше положениям представляет
собой появившееся в этой теории утверждение о том, что в языке
можно выделить лингвистическую и концептуальную системы. Первая
обеспечивает поверхностные связи между понятиями, основанные
исключительно на языковой информации, которая не предполагает
взаимодействия с природным и социокультурным окружением (фонетическое сходство, таксономические связи и т. д.), вторая прочно
связана с перцепцией, проприоцепцией и интроспекцией. При вы-
�80
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
полнении различных задач, связанных с пониманием высказывания,
сначала доминирует лингвистическая система и лишь затем, если содержащаяся в этой системе информация оказывается недостаточной
для адекватной реакции, к процессу осмысления подключается концептуальная система, запускающая мультимодальные имитации.
Не имея возможности здесь анализировать теорию Барсалоу подробно, можно еще раз отметить, что она заметно эволюционирует,
сохраняя при этом базовый методологический каркас, который оказывается весьма продуктивным для построения различных теорий в
области когнитивной психологии и когнитивной лингвистики. Одним
из ключевых для нее является вопрос о статусе абстрактных понятий,
которому Барсалоу уделяет достаточно много внимания. Его позиция
выражается в тезисе, что абстрактные понятия также имеют основу в
перцепции и связаны с конкретными ситуациями, но за ними стоит
гораздо более широкий спектр разнообразных ассоциаций, и важнейшее значение в их случае имеет интроспекция, существенно менее
заметная в конкретных понятиях (Barsalou 1999, p. 647; ср. Barsalou
2005, p. 424–426; Barsalou, Wiemer-Hastings 2005 p.134-137)37.
Указанное выше выделение двух систем в языке имеет значение и
для когнитивных процессов в целом. Так, можно найти ему прямые
соответствия в когнитивных стратегиях, используемых при решении
абстрактных задач (например, математических или физических). В
данном случае есть основания говорить о не предполагающей использования телесных проекций поверхностной стратегии, при которой мы
можем находить решения ряда близких по типу задач, но у нас отсутствует чувство их интуитивного понимания, и более глубокое осознание, дающее ощущение понимания, которое связано с формированием мультимодальных имитаций, соотносящихся с непосредственным
перцептивным опытом (Goldstone et al. 2008; Goldstone et al. 2010).
В заключение хотелось бы остановиться на работах Майкла Томаселло, соединяющих в себе высокую культуру экспериментального
исследования с фундаментальностью и широтой теоретических обобщений. Его подход изложен в значительном числе статей и монографий
(Tomasello et al. 1997; Tomasello 1999; Tomasello 2000; Carpenter et al.
2002; Tomasello 2004; Tomasello et al. 2005; Moll, Tomasello 2007 и др.) и
подытожен в рассчитанной на широкую аудиторию книге Tomasello
2008 (русский пер.: Томаселло 2011). Методологически подход Томаселло имеет много точек соприкосновения с традицией культурноисторической психологии и, как мы увидим, развивает отдельные идеи,
намеченные Выготским в его поздних работах38. Основной проблемой
для него является процесс эволюции от высших приматов к человеку,
процесс формирования характеристик, отличающих человека от других
живых существ. Томаселло выделяет три ключевые особенности, при-
Глава 3. Философские и психологические основания...
81
сущие людям: а) создание и использование конвенциональных символов, включая лингвистические символы и их производные, такие как
письменный язык и математические системы; б) создание и использование комплексных орудий и других инструментальных технологий;
в) создание сложных по структуре социальных организаций и институтов и участие в их деятельности (Tomasello 1999, p. 510). Несмотря
на то, что другие приматы обладают довольно разветвленным набором
когнитивных навыков, включающих способность запоминать расположение пространственных объектов, их окружающих; предсказывать,
опираясь на определенные подсказки, в каком месте появится пища;
распределять объекты по категориям на основании их внешнего подобия; осуществлять мысленное вращение предметов в пространстве;
находить нестандартные решения разного рода задач, иногда используя
для этого вспомогательные орудия и т. д., – три выделенные выше
характеристики присущи только людям (Tomasello et al. 1997; Tomasello
1999, p. 510–511; Tomasello 2000; Tomasello 2005, p. 1–19; Tomasello 2009,
p. XIII–XIV; Tomasello 2009a; Callaghan et al. 2011, p. 2–5). Отвечая на
вопрос о причинах эволюционных процессов, которые привели к указанным отличиям, Томаселло, следуя в этом вопросе за Выготским,
видит эти причины в культуре, которая рассматривается в его работах
прежде всего как сложноорганизованное коммуникативное пространство39. Важнейшими элементами этого коммуникативного пространства
являются язык и другие связанные с ним коммуникативные системы.
Формирование естественного языка, по Томаселло, может быть представлено в следующих тезисах:
1. Решающим фактором для появления человеческой речи является не языковая коммуникация животных, а их жестовая коммуникация.
Жесты животных вариативны и могут меняться в зависимости от ситуации, «подстраиваться» под нее. Издаваемые животными звуки
жестко фиксированы и не эволюционируют. Промежуточным элементом между системами жестов, которые используют животные, и человеческой речью оказывается язык жестов, употребляемых людьми в
непосредственной коммуникации. Это подтверждается и наблюдениями в онтогенезе: ребенок осваивает устный язык, уже активно
используя жесты в социальном общении (Tomasello 2008, p. 13–34,
109–143, 165–167)40.
2. Можно говорить о трех базовых коммуникативных сюжетах: запросы (requests), информирование о чем-то (pointing), стремление
разделить с другими свои чувства или переживания (shared intentionality).
Для высших приматов характерен, в основном, первый тип, крайне
редко – второй и почти никогда – третий (там же, p. 123, 175–178).
2.1. Приматы в своих действиях исходят из собственных интересов,
они не предполагают возможности альтруистических действий и не
�82
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
понимают альтруистических действий других (например, когда кто-то
указывает им на спрятанную еду).
2.2. Приматы в состоянии понимать намерения других, но не в состоянии действовать в поле общих с другими намерений (shared
intentionality). При этом у людей дети уже после года участвуют в совместной с взрослыми деятельности и делятся с ними опытом (там же,
p. 108, 181).
3. Язык формируется как реакция на все усложняющиеся коммуникативные запросы, замещая определенные области жестовой коммуникации. Можно выделить два вида жестов: указание на объекты, находящиеся в поле зрения (pointing), и изображение отсутствующих объектов
(pantomiming). Первому типу в языке соответствуют дейктические конструкции и императивы, второму – семантически нагруженные части
речи (существительные и глаголы) (там же, с. 271–294).
3.1. Синтаксис языка формируется как отражение конкретных коммуникативных ситуаций. Жесткость синтаксических структур является отражением жесткости коммуникативных моделей, жесткости социальных норм, их регулирующих (там же, с. 290–292).
И в данном случае необходимо подчеркнуть, что в наши цели не
входит критический анализ идей Томаселло. Для нас важнее общая
мировоззренческая установка, рассматривающая язык как среду, создающую поле общих стремлений и намерений, а также выводящая
законы формирования и развития языковых структур из коммуникативных задач, возникающих в процессе социокультурного взаимодействия. Эта мировоззренческая позиция будет востребована нами в
третьей части книги.
Примечания
Подробный анализ см. в первой части работы: Глебкин 2010.
2
Подробнее см. об этом в восьмой главе монографии.
3
Ср.: Глебкин 2010, с. 57–75, где при анализе когнитивных моделей, предложенных в
рамках указанных школ, делаются несколько иные акценты.
4
Более подробно см. об этом в: Глебкин 2010, с. 26–29.
5
Два взгляда на соотношение веры и разума выражены в приписываемом Тертуллиану тезисе credo ubi absurdum est («верую ибо абсурдно»), одном из радикальных проявлений упомянутой выше «логики парадокса», и, с другой стороны, в высказывании Августина crede
ut intellegas («верь чтобы понимать») (Sermo 43, 9), уточняемом им в этом же тексте: prius
credendum quod postea intelligatur («следует сначала верить, чтобы потом уразуметь») (ibid., 4).
6
При более детальном обсуждении приведенный тезис должен быть уточнен и конкретизирован, но это не отменяет его справедливости в целом. См. об этом: Barry 1959;
Ginascol 1959; Гайденко, Смирнов 1989, с. 87–213; Колпстон 1997, с. 81–103; Жильсон
2004, с 176–190.
7
Христианские основания нововременного механицизма анализируются в восьмой
главе монографии.
8
Я использовал в качестве перевода отсылающую к данному месту цитату из книги
П.П. Гайденко «Трагедия эстетизма» (Гайденко 1970, с. 9), хотя в самой книге она не
обозначена как перевод. Анализ выраженных в данной максиме взглядов Кьеркегора
1
Глава 3. Философские и психологические основания...
83
см. в работах: Гайденко 1970, с. 9–20; Held 1957, p. 260–261; Swenson 1916, р. 574–576; а
также Collins 1957; Edwards 1971.
9
См. об этом, напр., в: Доброхотов 1986, с. 6–14, 43–84; Глебкин 1994, с. 24–32.
10
См. также: Foster 1907; Putnam 1995; Ormerod 2006; Johnson 2007, p. 59–110; о связи
прагматизма с философией Кьеркегора см., напр.: Emmanuel 1991, p. 293–299, с идеями
Бергсона – Kallen, 1914.
11
Ср.: «…“сущность” человеческого бытия заключается в его историчности (Хайдеггер), т. е. временности. “Понимание” – подвижная основа человеческого бытия, не акт
субъективности, а сам способ бытия» (Гадамер 1991, с. 22, пер. В. Максвелл 34а).
12
Ср.: «Историческое сознание уже больше не полагает предметом собственного понимания жизни традицию, в рамках которой оно стоит, продолжая таким простым и
наивным освоением унаследованного эту традицию. Напротив, оно осознает себя в рефлексивном отношении к самому себе и к традиции, в которой оно стоит. Оно понимает
само себя, исходя из своей истории. Историческое сознание есть способ самопознания»
(Гадамер 1988, с. 285, пер. С. Земляного);
«...всякое историческое бытие не ограничивается знанием себя, оно предполагает историческую пред-данность. Путь философской герменевтики обратен феноменологии
духа: от субъективности к определяющей ее субстанциальности» (Гадамер 1988, с. 357–
358, пер. А. Рыбакова).
13
Такая позиция, сближающая при этом терминологически Витгенштейна с Дильтем, выражена, например, в следующем высказывании Витгенштейна: «Представить же себе какойнибудь язык – значит представить некоторую форму жизни» (Витгенштейн 1994, с. 86).
14
Витгенштейн говорит об огромном разнообразии языковых игр: а) информировать
о событии; б) размышлять о событии; в) играть в театре; г) распевать хороводные песни; д) разгадывать загадки; е) решать арифметические задачи; ж) рассказывать забавные
истории; з) переводить с одного языка на другой; и) просить; к) благодарить; л) проклинать и т. д. (Витгенштейн 1994, с. 90; ср. Garver 1960; Hunter 1980; Das 1998).
15
Ср.: «Мы узнаем: то, что называют “предложением”, “языком”, – это не формальное единство, которое я вообразил, а семейство более или менее родственных образований. – Как же тогда быть с логикой? Ведь ее строгость оказывается обманчивой. – А
не исчезает ли вместе с тем и сама логика? – Ибо как логика может поступиться своей
строгостью? Ждать от нее послаблений в том, что касается строгости, понятно, не приходится. Предрассудок кристальной чистоты логики может быть устранен лишь в том
случае, если развернуть все наше исследование в ином направлении. (Можно сказать:
исследование должно быть переориентировано под углом зрения наших реальных потребностей)» (Витгенштейн 1994, с. 126–127).
16
Если следовать тексту Выготского, то с автономной речью, видимо, надо соотнести
не стадию «мышления в комплексах», а предшествующую ей стадию синкретического
мышления, которой соответствуют не комплексы, а «кучи» предметов. Однако по описанию Выготского сложно понять качественную разницу между комплексами и кучами.
Говоря о куче, он подчеркивает хаотическое, синкретическое сцепление объектов, опирающееся не на объективные связи, но на субъективный опыт ребенка, но тут же отмечает, что в этих «неупорядоченных синкретических кучах предметов отражены в значительной степени и объективные связи постольку, поскольку они совпадают со связью
впечатлений и восприятий ребенка» (Выготский 1982 (1934), с. 137). Действительно, в
ситуации с приведенным выше словом «пу-фу» мы видим отчетливое наличие различных связей «ближнего порядка», спонтанно сменяющих друг друга: бутылка с йодом –
йод – бутылка (связь: целое – часть); бутылка с йодом – папироса, из которой пускают
дым (связь: форма и функция – дым выходит из папиросы подобно тому, как йод выливается из бутылки) и т. д. Другими словами, «кучу» логичнее было бы рассматривать как
раннюю форму комплекса.
17
Ср. высказывание Витгенштейна, описывающего характер связей между вещами и
процессами, обозначаемыми некоторым словом: «Я не могу охарактеризовать эти подо-
�84
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
бия лучше, чем назвав их “семейными сходствами”, ибо так же накладываются и переплетаются сходства, существующие у членов одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз,
походка, темперамент и т. д. и т. п. – И я скажу, что “игры” образуют семью».
И так же образуют семью, например, виды чисел. Почему мы называем нечто “числом”?
Ну, видимо, потому, что оно обладает неким – прямым – родством со многим, что до
этого уже называлось числом; и этим оно, можно сказать, обретает косвенное родство
с чем-то другим, что мы тоже называем так. И мы расширяем наше понятие числа подобно тому, как при прядении нити сплетаем волокно с волокном. И прочность нити
создается не тем, что какое-нибудь одно волокно проходит через нее по всей ее длине, а
тем, что в ней переплетается друг с другом много волокон» (Витгенштейн 1994, с. 111).
18
Развитие идей Выготского о «мышлении в комплексах» в работах последующих исследователей кратко обсуждается в девятой главе.
19
Отметим, что идея мышления в комплексах дает основу для понимания метонимии, если рассматривать ее не как исключительно языковой, но как когнитивный процесс. Подробно см. об этом в девятой главе данной монографии.
20
O grounded cognition и его отношении к embodiment см., напр.: Barsalou 2008; Barsalou
2010.
21
Перки-эффект был открыт в результате серии экспериментов проводившихся в лаборатории Э. Титченера. К. Перки был одним из его студентов. Обзор последующих исследований визуального воображения, отталкивающихся от работы Перки, см., напр.,
в: Ishai, Sagi 1997.
22
Следует специально подчеркнуть, что речь идет не о тождественности нейронных сетей, но лишь о близком соответствии между ними.
23
Историю открытия и дальнейшего развития концепции «зеркальных нейронов» см.
в работе: Rizzolatti, Fabbri-Destro 2010, где описано, в частности, различие процессов у
обезьян и у людей. См. также: Rizzolatti, Craighero 2004; Gibbs 2005, p. 42–78; Rizzolatti,
Sinigaglia 2007; Rizzolatti, Fabbri-Destro 2010; Hari, Kujala 2009; Hari 2011.
24
Уравнение появлялось на мониторе в центре экрана; фоновое движение представляло собой движение небольших серых кругов, расположенных над и под уравнением.
25
Данный эксперимент вместе с рядом других, аналогичных по задачам, анализируется
и в работе: Goldstone et al. 2010. См. также: Kellman et al. 2010.
26
Следует отметить, что все испытуемые были правшами.
27
Интересно отметить, что время задержки зависит от типа культуры. Так, для китайцев
оно оказывается существенно большим, чем для американцев.
28
См. также: Bower, Morrow 1990; Wilson et al. 1993; Just 2008. Ср.: Sanford 2008, где делается попытка проблематизировать ситуацию, и избежать односторонних интерпретаций
приведенных фактов.
29
Различные мировоззренческие аспекты, связанные с идеями embodiment, grounded
cognition, extended cognition изложены в работах Clark 2008, Noё 2009. Автор признателен Кириллу Истомину, обратившему его внимание на эти работы.
30
Интересно, что Рош ссылается здесь на Вертгеймера, подчеркивая, таким образом,
свою преемственность с традицией гештальт-психологии. См.: Rosch 1973, p. 330; Rosch
1975, p. 532–533.
31
См., напр., такой анализ в работах: Фрумкина 1985, с. 25–28; Фрумкина 2007, с. 100–
103.
32
Пожалуй, наиболее значимой для понимания идей Барсалоу работой является статья: Barsаlou 1999, где его взгляды изложены в виде системы проиллюстрированных на
простых примерах тезисов, а также приведены комментарии значительного числа ведущих когнитивных психологов и когнитивных лингвистов, и ответы Барсалоу критикам.
Позднейшую эволюцию теории см. в работах: Barsalou 2008; Barsalou et al. 2008.
33
Интроспекцию Барсалоу определяет как внутреннее восприятие (internal perception)
мотивов, аффектов, целей, верований, когнитивных операций, метапознания и других
процедур такого рода (Barsаlou 2010, p. 721). Cp.: Barsаlou 1999, p. 585, 629, 645.
Глава 3. Философские и психологические основания...
85
Интересные примеры, характеризующие значимость контекста для привлечения внимания к различным свойствам воспринимаемой категории, приводятся в работе: Yeh,
Barsalou 2006. Испытуемым произносили предложение (например, Мужчина поднимал
вверх пианино, в первом случае, и Мужчина играл на пианино, во втором), и через некоторое время они должны были вспомнить объект, о котором говорилось в предложении (в
данном случае, пианино). В качестве прайминга использовались сочетания, коррелирующие с характеристиками объекта, задействованными в предложении (тяжелый в первом
случае и с приятным звуком во втором) или, наоборот, не коррелирующие (тяжелый для
второго случая и с приятным звуком для первого). Время, затраченное на воспоминание,
было меньше, если сочетание в прайминге коррелировало с исходной ситуацией. Аналогично, характеристики, которыми испытуемые наделяли хорошую стиральную машину,
непосредственно зависели от того, какой контекст (например, дорога или берег океана)
задавался им перед этим (Yeh, Barsаlоu 2006, p. 363, 370).
35
В этом позиция Барсалоу отличается от позиции Рош, для которой, как уже отмечалось, структура категории представляет собой константу, и возможность временной
эволюции категории ей не рассматривается. Ср.: Glebkin 2009.
36
Мы сталкивались с этими моделями в описанных выше языковых экспериментах с
восприятием фиктивного движения.
37
Другие исследователи говорят о необходимости разделять телесные проекции
(embodiment) первого и второго уровней: проекции первого уровня непосредственно
связаны с текущей перцептивной информацией, для проекций второго уровня связь
гораздо более опосредованна. Так, мы используем разные стратегии для объяснения дороги до места, которое мы видим или которое нам знакомо из предыдущего опыта, и до
места, которое мы никогда не видели. Также по-разному организован процесс понимания фактических (Если будет дождь, мы не пойдем гулять), ментальных (Он подумал,
что если будет дождь, они не пойдут гулять) и контрфактических высказываний (Если бы
пошел дождь, мы не пошли бы гулять) (de Vega et al. 2007; de Vega 2008).
38
Взгляды Томаселло на работы Выготского изложены, напр., в: Moll, Tomasello 2007.
Ср. с его характеристикой работ Пиаже (Tomasello 2000, p. 37).
39
Гипотезу Томаселло о причинах и ходе этой эволюции можно сформулировать так:
изначальные различия в структуре и видах коммуникации среди наших предков и других
приматов носили, вероятно, не качественный, а количественный характер. Постепенно
большая интенсивность коммуникации между людьми привела к превышению «критической массы» и запуску механизмов, которые для других приматов не срабатывали изза их недостаточной интенсивности. Далее эти механизмы породили новые процессы,
все более и более сложные по структуре и по форме, т. е. культура уже действовала как
саморазвивающаяся система с положительной обратной связью (Tomasello 1999, p. 524,
526).
40
Ср. с приведенными выше соображениями Выготского о роли жестов в формировании письменной речи.
34
�Глава 4. Теория концептуальной метафоры Лакоффа–Джонсона
Глава 4. Теория концептуальной метафоры
Лакоффа–Джонсона
Наверное, не будет большим преувеличением утверждать, что теория
концептуальной метафоры, созданная американским лингвистом
Дж. Лакоффом и философом М. Джонсоном – одно из оснований и,
можно сказать, один из прототипических образцов для современной
когнитивной лингвистики1. Некоторые авторы (напр., Kövecses 2005,
p. 9) даже называют ее интеллектуальной революцией. Хотя многие
положенные в ее основу идеи выдвигались ранее и самим Лакоффом,
и другими лингвистами, в систематическом виде теория была впервые
изложена в монографии: Lakoff, Johnson 1980, и затем развита в других
работах этих авторов2. Говоря о когнитивных основаниях теории концептуальной метафоры, Лакофф воспроизводит весь спектр связанных
с embodiment идей, делая особый акцент на концепции «зеркальных
нейронов» и работах Барсалоу 3. Джонсон, эксплицируя философские
основания теории, находит их в трудах И. Канта, В. Джеймса,
Дж. Дьюи, а также в экологической парадигме Дж. Гибсона (Gibson
1979)4. Другими словами, авторы вполне осознанно опираются на изложенный в третьей главе мировоззренческий фундамент5. Более того,
в своих работах они резко выступают против базовых установок изоляционистского подхода, что принимает у них форму критики объективизма и объективистской теории значения.
Как утверждают авторы, объективизм представляет собой взгляд на
мир «с точки зрения Бога», претендующий на выявление объективной,
существующей независимо от человека структуры мира и выражение
ее в явном виде с помощью точных пропозиций, подчиненных правилам формальной логики. Такие пропозиции связаны с деятельностью
рассудка, тело не участвует в когнитивных операциях. Предложенное
описание, как можно заметить, воспроизводит основные черты философских теорий, анализируемых в первой и второй главах.
Этому подходу авторы противопоставляет иную систему координат,
в которой невозможен взгляд с точки зрения Бога, а представление о
мире складывается из набора возможностей, предоставляемых миром
87
человеку для его существования. Образ мира рождается в повседневном
взаимодействии человека и мира, осуществляющемся в значительной
степени бессознательно6. В языке эти взаимодействия отражаются,
главным образом, в понятиях базового уровня (стол, стул, дом, дерево),
соответствующих по своей структуре обычным перцепциям7.
В отличие от понятий базового уровня абстрактные понятия не соотносятся непосредственно с нашими органами чувств, их содержание
не дано нам в ощущениях. Идеальные объекты не обладают телами, и
для включения их в структуру нашего опыта, для подлинного понимания и закрепления в сознании связываемых с ними смыслов требуется
их «материализация», наделение их перцептивными и проприоцептивными характеристиками. Главным средством для этого, по мнению
авторов, является концептуальная метафора. Примеры метафор такого рода многообразны, и работы Lakoff, Johnson 1980 и Lakoff, Johnson
1999 представляют собой попытку системного описания первичных
концептуальных метафор, лежащих в основе более сложных метафорических конструкций. Ниже я проиллюстрирую методологию авторов
на примере метафор, связанных с понятиями идея, мысль, по-другому
систематизировав их и по возможности дополнив собственными наблюдениями на русском материале:
Идеи (мысли) – это объекты, имеющие размеры и вес.
I gave you that idea. – Я подал тебе эту идею. Ср.: Эти больные часто
высказывают депрессивные бредовые идеи, легко принимающие чудовищные размеры (Т. Гейер. К вопросу о пресенильных психозах); Надо жить
для тех, кто делает будущее, кто томится сейчас тяжестью грузных
мыслей, кто сам весь – будущее, темп и устремление (А. Платонов.
Эфирный тракт).
1. Эти объекты могут обладать острыми гранями и использоваться
как режущие или колющие инструменты.
That is an incisive idea – Это проницательная (букв., режущая, острая)
мысль. – Ср.: Я попала в мастерскую к Александру Алову и Владимиру
Наумову. Мысль одна пронзает как жало. Мозг растревожен одной лишь
думой – Если учить меня будет Алов, Что со мной будет делать Наумов?!
(А. Сурикова. Любовь со второго взгляда); Я сажусь на диван, и вдруг
острая, как нож, мысль пронзает душу: «А к чему эта гонка?» (С. Есин.
Имитатор)
2. Эти объекты могут перемещаться в пространстве, совершая поступательное и вращательное движение, причем иногда – с большой
скоростью:
А мысль крутится, крутится, никак не останавливается. (Е. Гришковец. ОдноврЕмЕнно); Кому-то могло показаться, что мысли у
старушки скачут как голодные блохи, но Анна Фёдоровна знала об удивительной материнской особенности: она всегда думала о нескольких
�88
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
вещах одновременно, как будто плела пряжу из нескольких нитей.
(Л. Улицкая. Пиковая дама); У меня тут же мелькнула мысль: наверное,
скучает со своей женой, вот и звонит бывшей любовнице с дурацкими
воспоминаниями и разговорами: «Ну как ты?» (О. Зуева. Скажи что я
тебе нужна...)
3. Можно выделить два рода таких объектов, обладающих при этом
весьма разветвленной видовой структурой:
3.1. Предметы и вещи, составляющие социокультурное окружение
людей, имеющие ценностное и нормативное значение (в частности,
наделенные новыми смыслами природные объекты). Процесс их создания представляет собой определенные культурные (технологические)
практики, они обладают стоимостью, представляют собой ресурсы для
осуществления разнообразной деятельности, могут быть обменены на
другие товары, быть модными или немодными и т. д. Видовое разнообразие этих объектов представлено одеждой, пищей, предметами интерьера, стройматериалами и другими ресурсами (в частности, природными) и т. д.
We are really turning (churning, cranking, grinding) out new ideas. – Мы
действительно производим («штампуем», «гоним одну за другой», «отшлифовываем») новые идеи. Ср.: Вольная жизнь в санчасти, куда он
попал с ангиной, не пошла Лисичке на пользу: он пополнел, посвежел, заблестел глазками, перестал вздрагивать от каждого шороха, но растревоженное пережитыми страхами сознание, освободившись от ежеминутной заботы о безопасности, навязчиво и неустанно производило идеи дезертирства, одна заковыристей другой. (Г. Сабуров. Пешком по волнам);
То, что Куусинен думал, ощущалось почти физически: ты чувствовал,
что за каждым словом собеседника стоит работающая, все время проверяемая и шлифуемая мысль… (Г. Арбатов. Человек Системы).
He is rich in ideas. – Он богат идеями. Ср.: Он поистине был богат
этими идеями и свободно мог бы снабжать ими целый институт (А. Чижевский. Вся жизнь); Это было необходимо потому, что великий физиолог после своей смерти оставил огромное наследство, выражающееся в
неисчерпаемом запасе творческих идей, обогащающих не только биологию
и практическую медицину, но и философию диалектического материализма. (П. Гончаров. За торжество идей И.П. Павлова); Новые и оригинальные мысли возникают тогда, когда кажется, что исчерпаны все мысли и
ассоциации (В. Ельмеев, В. Овсянников. Прикладная социология.
Очерки методологии).
Это потому, что у писателя (классика) все сковано единой идеей: и
фундамент, и стены, и кровля – все сцементировано единой мыслью.
(Б. Шергин. Слово устное и слово письменное).
That idea is old hat – Эта идея немодна (букв., старая шляпа). Ср.:
Для чего надо было во всеуслышание примерять на себя мысли толстов-
Глава 4. Теория концептуальной метафоры Лакоффа–Джонсона
89
ского князя Андрея: «Я хотел бы умереть в бою под развернутым знаменем». (Г. Фукс. Двое в барабане)
All this paper has in it are raw facts, half-baked ideas, and warmed-over
theories. – В этой статье можно найти только необработанные факты,
полуготовые идеи и набившие оскомину (букв., перегретые) теории.
Ср.: И как бы в оправдание проглоченной мысли, что в Москве уже нет
бога, опальный советник пожаловался Максиму на московского митрополита… (В. Ключевский. Русская история).
3.2. Живые существа (животные, люди, растения), которые могут
оказывать непосредственное воздействие на людей (мучить, преследовать, очаровывать и т. д.), вступать с ними в процесс непосредственной
коммуникации.
Those ideas died off in the Middle Ages – Эти идеи умерли в Средние
века. Ср.: Вот почему идея не только не умерла в Петербурге, но прямо
признана была как бы русским назначением всеми преемниками Петра.
(Ф. Достоевский. Дневник писателя).
Я опять возвращаюсь к идее, которая мучит меня и не может не
мучить, – к идее нашего назначения. (Давид Самойлов. Общий дневник);
Как видите, идея синтеза в искусстве преследует меня всю жизнь.
(Л. Утесов. «Спасибо, сердце!»); Она взяла его под руку и вдруг засмеялась
без причины и издала легкий радостный крик, точно была внезапно очарована какою-то мыслью. (А. Чехов. У знакомых); Он было увлекся
модными тогда идеями Пролеткульта, но внешние приемы в искусстве
были ему всегда чужды, и он остался верен Художественному театру.
(В. Давыдов. Театр моей мечты).
It will take years for that idea to come to full flower. – Пройдут годы,
прежде чем эта идея расцветет пышным цветом. Ср.: Где много работы
рабов, там не может быть места для свободной, творческой мысли, там
могут цвести только идеи разрушения, ядовитые цветы мести, буйный
протест животного. (М. Горький. Заграничные впечатления).
Подобного рода наблюдения, относящиеся к широкому спектру
абстрактных понятий (эмоции, время, мышление, понимание, жизнь,
душа, время и т. д.), показывают, что описание этих понятий опирается на перцептивные схемы, связанные с категориями базового уровня,
что основу для них составляет перцептивный и проприоцептивный
опыт человека. Концептуальная метафора и является средством переноса перцептивных структур на абстрактные понятия, осуществляя их
материализацию, наделяя их характеристиками, присущими материальным объектам.
Приведенные наблюдения в результате формализуются авторами и
их последователями в схеме, состоящей из трех базовых элементов:
область-источник (source domain), для первичных концептуальных
метафор – структура, задаваемая категориями базового уровня;
�90
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
область-цель (target domain), в случае концептуальных метафор относящаяся к абстрактным понятиям; система соответствий, задающая
метафорическую проекцию (mapping) области-источника на областьцель. Приведу в качестве иллюстрации фрагмент описания З. Ковечешем метафоры Социальные организации – это растения:
Примеры:
He works for the local branch of the bank – Он работает в местном
отделении (букв., ветви) банка.
Our company is growing – Наша компания растет.
There is a flourishing black market in software there. – Там теперь процветает черный рынок в области программного обеспечения.
Область-источник: растение.
Область-цель: социальная организация.
Соответствия:
Целое растение – Вся организация.
Часть растения – Часть организации.
Рост растения – Развитие организации.
Цветение растения – Высшая, наиболее успешная стадия развития
организации. (Kövecses 2010, p. 10)
Непосредственным механизмом для осуществления метафорической
проекции являются образные схемы (image schemas)8, которые по сути
представляют собой «синтаксические» конструкции, допускающие возможность различного содержательного наполнения. Именно относительная свобода от содержательных факторов дает возможность использовать подобные схемы при описании абстрактных объектов.
М. Джонсон выделяет следующие образные схемы: Вместилище
(Сontainer), Силовое воздействие (Compulsive Force), Баланс (Balance),
Исходная точка – Путь – Цель (Source –Path – Goal), Вертикальность
(Verticality или Up – Down), Центр – Периферия (Center – Periphery)
и др.9 Для более глубокого понимания предложенного им термина я
приведу описания схем Вместилище и Путь.
Рис. 3. Образная схема Вместилище (приводится по Johnson 1987, p. 23).
Джонсон выделяет в схеме Вместилище три элемента: (1) граница, которая
отделяет (2) внутреннее пространство от
(3) внешнего10. Эта схема предполагает не
только присутствие во вместилище, но и
пересечение его границ, описываемое
предлогами в–из (in–out). Джонсон обращает внимание на повседнев-
Глава 4. Теория концептуальной метафоры Лакоффа–Джонсона
91
ность такого рода действий, осуществляемых нами по большей части
бессознательно: мы находимся в комнате, входим в или выходим из
нее, смотримся в зеркало, выдавливаем пасту из тюбика, наливаем чай
в чашку и пьем из чашки, достаем одежду из шкафа и т. д.11 Повсеместность и будничность этих схем, закрепленных на перцептивном уровне, ведет к тому, что они начинают интенсивно переноситься на абстрактные понятия и использоваться для «матриализации» абстрактной
сферы, проявляясь в таких, например, моделях, как: с л о в а – в м е с т и л и щ а д л я м ы с л е й (в твоих словах мало смысла; его речь была
пустой и бессодержательной), у м – в м е с т и л и щ е д л я м ы с л е й
(эта мысль крепко осела в его уме), с е р д ц е ( д у ш а ) – в м е с т и л и щ е д л я э м о ц и й (Ужас и страх наполнили разом сердце Гали.
(Л. Чарская. Галина правда); Но кристаллизация гнева в душе этого
родственника уже началась почти с химической неизбежностью. (Ф. Искандер. Сандро из Чегема)) и т. д.12
Рис. 4. Образная схема Исходная точка – Путь – Цель
(приводится по Johnson 1987, p. 28).
Аналогично организована и схема Исходная точка – Путь – Цель.
Она также укоренена в нашем повседневном опыте на уровне закрепленных перцептивных моделей. При всех своих вариациях (путь от
постели в ванную, от плиты к кухонному столу, от дома к магазину, из
Сан-Франциско в Лос-Анджелес, с Земли на Луну) она организована
единым образом: источник, цель и набор непрерывных локаций, связывающих одну точку с другой (Johnson 1987, p. 28–29, 113). Ее проявления в области абстрактных понятий также легко узнаваемы: Его
путь искания истины и смысла в лабиринтах существующих мифов и
чужих (чуждых ему) интеллектуальных провокаций – одновременно завораживающ и мучителен (Рецензии, «Неприкосновенный запас»;
НКРЯ); «Как путь эта идея не имеет себе равной по силе в европейской
методологии, – настаивал Л.С. Выготский. (А. Сурмава. Психологический смысл исторического кризиса; НКРЯ).
Менее очевидна, но не менее важна образная схема Баланс, которой
соответствует несколько видовых структур и, как следствие, несколько
зрительных образов. По Джонсону, за ней стоят три базовые перцептивные модели: способность к прямохождению и удерживанию равновесия в различных ситуациях (например, при езде на велосипеде);
ощущение равного веса или равной нагрузки в каждой руке; ощущение
гомеостаза (можно сказать, проприоцептивной гармонии) в телесных
�92
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
органах, нарушение которой в ту или иную сторону выражается в чувстве голода, жажды, переедания и т. д. Первой метафорической проекцией этих перцептивных моделей является идея зрительного равновесия, т. е. способность воспринимать некоторый объект как равновесный, даже если в нем нет жесткой симметрии13. Следующий уровень
метафоризиции этой структуры образуется перенесением идеи равновесия на абстрактную область, например, на описание спора: эти аргументы имеют равный вес, это уже более весомый аргумент, он был
раздавлен тяжестью моих аргументов и т. д.
Важно отметить, что не только отдельные понятия и высказывания,
но и сложные теоретические конструкции, на первый взгляд носящие
абстрактный характер и не предполагающие никакой телесной метафоризации, с точки зрения авторов оказываются основанными на
концептуальных метафорах. Так, интересен анализ ими философии
Декарта, идеи которого (противопоставление мыслящей и протяженной материи, теория врожденных идей, cogito как самодостаточная
реальность) кажутся полностью противоречащими тезису об embodiment
и используются как знамя идеологическими противниками Лакоффа
и Джонсона, в частности, Хомским. Авторы показывают, что Декарт
опирается на ряд концептуальных метафор, таких как «знание – это
видение объекта», «мышление – это движение», «видение объекта – это
прикосновение к объекту» и т. д., которые становятся не фоном для
его рассуждений, но скрепами, связывающими их в единое целое,
скрепами, без которых система Декарта распадается на набор «атомарных», не связанных между собой высказываний. Другим показательным
примером является выведение аристотелевских силлогизмов, составляющих основу формальной логики, из отношения «находиться в»,
т. е. из метафоры контейнера14.
Тем не менее, критический взгляд на аргументацию авторов при их
обращении к философии Декарта показывает также проблемные точки и ограничения теории концептуальной метафоры, к анализу которых мы и переходим.
Не оспаривая важность телесных метафор при описании Декартом
когнитивных операций, следует отметить, что из анализа авторов не
вытекает их сущностное значение для понимания картезианской философии. В принципе, тот же набор метафор («знание – это видение
объекта» и т. д.) мог бы быть использован и при описании индуктивного метода мышления, и в рамках эмпирических философских теорий.
Зная суть философии Декарта, мы найдем в его текстах множество
перцептивных метафор, но мы не можем пройти обратный путь: опираясь исключительно на данный набор метафор, вывести базовые
положения картезианства. Другими, словами, выступая в качестве
скреп философии Декарта, данный набор концептуальных метафор
Глава 4. Теория концептуальной метафоры Лакоффа–Джонсона
93
может играть роль скреп и иной философской системы, в частности,
системы, опирающейся на принципиально иные основания. Поэтому
тезис об их значимости для философии Декарта требует уточнения.
Гораздо более сомнительными кажутся другие интерпретации авторов, например, описание ими метафорических оснований аналитической философии, базовых установок Хомского, или описание Лакоффом и Нуньесом метафорической природы различных разделов высшей
математики. Вот как, например, Лакофф и Джонсон описывают систему соответствий, задающих метафору формального языка:
Письменные знаки естественного языка – Абстрактные формальные
символы.
Естественный язык – Формальный «язык».
Лингвистические элементы – Индивидуальные символы.
Предложения – Правильно построенные последовательности символов.
Синтаксис – Принципы комбинирования формальных символов
или трансформации одних последовательностей в другие (Lakoff,
Johnson 1999, p. 445).
Обсудим, до какой степени корректно для данного соответствия
используется понятие метафоры. Продолжая заданную логику, мы
можем говорить о метафоре материальной точки при описании поступательного движения тела (физическое тело – материальная точка;
путь, пройденный телом – траектория материальной точки и т. д.) или
даже о действительных числах как метафоре для коллинеарных векторов с общим началом (вектор – действительное число, длина вектора –
модуль числа, сумма векторов – сумма чисел и т. д.)15. Однако языковая интуиция сопротивляется такому расширению значения. Если
следовать ей, понятие концептуальной метафоры предполагает три
условия: а) понятие-источник и понятие-цель организованы по разным
принципам, их структуры не тождественны; б) структура понятияисточника по каким-то причинам более понятна говорящему, чем
понятия-цели, в большей степени укоренена в его опыте; в) перенос
элементов структуры понятия-источника на понятие-цель проясняет
организацию понятия-цели, задает наглядный образ для ее восприятия.
Проиллюстрирую это утверждение примером из «Войны и мира»
Л.Н. Толстого:
До половины дороги, как это всегда бывает, от Кременчуга до Киева,
все мысли Ростова были еще назади – в эскадроне; но перевалившись за
половину, он уже начал забывать тройку саврасых, своего вахмистра
Дожойвейку, и беспокойно начал спрашивать себя о том, что и как он
найдет в Отрадном. Чем ближе он подъезжал, тем сильнее, гораздо сильнее (как будто нравственное чувство было подчинено тому же закону
скорости падения тел в квадратах расстояний), он думал о своем доме;
�94
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
на последней перед Отрадным станции дал ямщику три рубля на водку, и
как мальчик, задыхаясь, вбежал на крыльцо дома. (II, 4, 1)
Очевидно, что для Толстого нравственное чувство не описывается
законом всемирного тяготения, при котором сила воздействия возрастает обратно пропорционально квадрату расстояний 16, однако для
механистической в своих основах культуры Просвещения (следы которой мы находим и в текстах Толстого) механистическая аналогия
дает читателю наглядный образ для характеристики стремления Николая Ростова к его близким: оно возрастает так же, как возрастает
скорость камня, падающего на землю.
Возвращаясь к метафоре формального языка, следует отметить, что,
с точки зрения ее авторов, естественный язык в своих основах устроен
так же, как формальный, сущность естественного языка не отличается
от сущности формального, и поэтому он может быть описан по модели формального языка без существенных потерь (так же, как падающий
камень может без существенных потерь быть рассмотрен как материальная точка). В этом случае понятие модели кажется более корректным, чем понятие метафоры.
Итак, важное замечание, обращенное к авторам теории концептуальной метафоры, состоит в неоправданном расширении границ понятия17. Существенной проблемой является также уточнение предложенной Лакоффом и Джонсоном интерпретации своих наблюдений.
Авторы, работающие в одном с ними проблемном поле, обсуждают
четыре возможности.
1. Концептуальные метафоры определяют диахронический процесс
обретения определенными словами и выражениями их метафорических
значений, характеризуют процесс эволюции языка в масштабах «большого времени», но не играют никакой роли в объяснении того, как
наши современники используют и понимают уже устоявшиеся и новые
метафорические выражения.
2. Теория концептуальной метафоры представляет собой абстрактную модель, объясняющую процесс обретения словами переносных
значений на «птичьем языке» лингвистов. Другими словами, она
описывает понимание и производство метафорических выражений
неким «идеальным носителем языка». Рядовые участники языковой
коммуникации могут давать экспериментальные подтверждения
такой модели в лабораторных условиях, но она не является «психологически достоверной», т. е. не входит как составная часть в концептуальные системы, стоящие за процессом повседневной языковой
коммуникации.
3. Концептуальные метафоры лежат в основе интуитивного понимания переносных значений конкретных слов и выражений участниками коммуникационного процесса и, следовательно, составляют часть
Глава 4. Теория концептуальной метафоры Лакоффа–Джонсона
95
концептуальных систем обычных носителей языка. Однако, нельзя
сказать, что они описывают все случаи понимания или производства
слов и выражений в их переносном значении.
4. Концептуальные метафоры являются частью концептуальной
системы человека, отвечающей за понимание переносных значений
слов и выражений, и объясняют каждый «когнитивный факт», относящийся к данному типу (Gibbs 2007, p. 8–9; ср. Gibbs 2006,
р. 79–122).
Данная типология предлагает полезный в методологическом плане
структурный каркас для работы с возможными интерпретациями теории концептуальной метафоры, но при сопоставлении с базовыми
установками Лакоффа и Джонсона требует ряда уточнений.
Во-первых, акцент в авторской теории концептуальной метафоры
сделан на сфере абстрактных понятий. Мы можем говорить о переносных значениях и для категорий базового уровня, когда один массив
опыта метафорически выражается через другой, однако такого рода
метафоры в целом находятся на периферии интересов авторов. Их
интересуют, в первую очередь, выходящие за сферу нашего опыта абстрактные структуры (не только слова, но и теоретические конструкции), основу для понимания которых и образуют концептуальные
метафоры.
Во-вторых, для проверки первой части гипотезы 1 требуются диахронические исследования, которых Лакофф и Джонсон никогда не
проводили. Замечу, что здесь одним из ключевых становится вопрос о
времени появления абстрактных понятий, о критериях трактовки
определенной категории как абстрактной. В связи с этим в исследованиях такого рода недостаточно только лингвистического анализа, они
требуют привлечения материала из культурно-исторической психологии, выявляющей связь доминирующего типа мышления с типом
культуры. В последующих главах книги будут продемонстрированы
примеры такого анализа.
В-третьих, предложенная Лакоффом и Джонсоном теоретическая
модель, опирающаяся на понятие образных схем, представляет собой
абстрактную конструкцию и непосредственно в экспериментах проверена быть не может. В экспериментах проверяется, воспринимается
ли устоявшееся метафорическое значение выражения напрямую, без
всяких посредников, или этот процесс опосредован обращением к его
базовому значению (например, влияет ли образ кипящей жидкости на
понимание предложения Он просто вскипел от гнева). Не останавливаясь на обсуждении всего массива экспериментальных данных, резюмируем полученные в данной области результаты: хотя при рефлексивном анализе испытуемые склонны трактовать устойчивые метафорические выражения как буквальные, видя в них буквальный смысл, в
�96
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
процессе естественной языковой коммуникации они бессознательно
обращаются как к непосредственным значениям, так и к ситуационному контексту, в котором появляется выражение. При этом приводимые данные не дают основания утверждать, что подобное бессознательное действие является о с н о в о й для понимания абстрактного
выражения, а не одним из элементов контекстуального фона, который
учитывается при понимании, но не определяет его.
Приведу две иллюстрации экспериментов такого рода. В одном из
них исследовалась метафора Гнев – горячая жидкость в сосуде. Участникам предлагали короткие истории, проходящие перед ними бегущей
строкой на экране компьютера. Каждая история заканчивалась идиомой (напр., Джон вскипел от гнева), ее буквальным эквивалентом (Джон
страшно рассердился) и не связанным с данным контекстом предложением (Джон увидел вмятину на двери). После этого перед испытуемыми
на экране последовательно проходила последовательность букв (в
данном случае, т е п л о ) и они должны были нажать контрольную
кнопку, когда понимали, составляет ли данная последовательность букв
значимое слово. Оказалось, что в первом случае реакция была быстрее,
чем во втором и третьем (Gibbs 2007, p. 14).
Во втором эксперименте исследователи максимально приблизили
ситуацию к естественной. Участникам предлагался следующий вопрос: Suppose you are told that next Wednesday meeting has been moved
forward 2 days. What day is the meeting now that it has been rescheduled?
(Предположим, вам сообщили, что собрание, которое должно было
состояться в следующую среду, перенесено на два дня вперед. В какой
день состоится собрание?) Хотя для русскоязычного человека ответ
на этот вопрос кажется однозначным (в следующую пятницу), результаты для англоговорящих участников делятся между следующей
пятницей и следующим понедельником. Это зависит от того, какую
метафорическую модель они принимают за базовую: человек движется во времени или время движется навстречу ему. В первом случае
ответом будет «следующая пятница», во втором – «следующий понедельник». В нейтральной ситуации ответы распределяются примерно поровну, и крайне интересно, как они изменяются в зависимости от контекста. Так, при опросах стоящих в очереди в студенческой столовой оказалось, что чем ближе опрашиваемые к ее началу,
тем чаще они говорят «в пятницу»; пассажиры в аэропорту, которые
должны были вылететь в ближайшее время, называли пятницу чаще,
чем те, кто ожидал вылета, а те, в свою очередь, чаще, чем те, кто
ожидал прилетевших пассажиров; пассажиры в движущемся поезде
в начале и в конце поездки выбирали пятницу чаще, чем в середине
(Boroditsky, Ramscar 2002). Результаты эксперимента показывают, что
метафорические представления о движении (во) времени опираются
Глава 4. Теория концептуальной метафоры Лакоффа–Джонсона
97
на представления о пространственном движении18 и зависят от ситуационного контекста.
Еще одно и, пожалуй, ключевое для данного исследования ограничение теории концептуальной метафоры состоит в том, что в ней не
учитывается социокультурная составляющая. Хотя Лакофф и Джонсон
упоминают социокультурный контекст как один из элементов процесса порождения и понимания концептуальных метафор, в целом
социокультурный анализ находится на глубокой периферии их теории.
Устройство человеческого тела – фундаментальная константа для человеческого рода в целом, и идея «телесных проекций» (embodiment)
предполагает единый для всех людей способ описания. Однако человек
является не только физическим телом, но и социкультурным существом, и социокультурные характеристики оказывают непосредственное влияние на интерпретацию перцептивного материала.
Нельзя сказать, что эта проблема не обсуждается другими исследователями. Лингвисты, тяготеющие к социокультурному пониманию
языка, ощущают здесь серьезную лакуну и на широком и разнообразном материале показывают значимость культурных факторов в установлении соответствий между областью-источником и областью-целью.
Основное направление исследований состоит в сопоставлении первичных метафор в различных культурах и в попытке связать различия
между такими метафорами с культурными различиями19. Как иллюстрацию можно привести анализ значимости базовых метафор, описывающих категорию жизни, для современных американцев и венгров.
Исследование показало, что метафоры жизнь – это война, жизнь – это
компромисс более типичны для венгров, тогда как метафоры жизнь –
это драгоценность и жизнь – это игра – для американцев. Авторы
связывают полученные результаты с особенностями американской и
венгерской истории: для венгров доминантой их исторического пути
была борьба за выживание и сохранение культурного своеобразия,
перед американцами же стояли принципиально иные политические и
социальные задачи (Kövecses 2005, p. 241).
Работы подобного рода задают направление развития теории концептуальной метафоры, открывающее перспективу для включения в
нее не только соматического, но и социокультурного пласта. Контуры
такой теории предложены, например, в уже упомянутой монографии
З. Ковечеша, выделяющего три базовых источника для концептуальных
метафор: телесный опыт, социокультурные практики и когнитивные
предпочтения и стили (там же, 231–246).
При этом подробных эмпирических исследований, выявляющих
влияние ситуационного контекста на эволюцию определенной концептуальной метафоры, крайне мало. Вопросы о времени и причинах
появления той или иной метафоры, о ее социокультурной траектории
�98
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
и фоне, на котором эта траектория развёртывается, не приняты в рамках социокультурных исследований метафоры20. К обсуждению этих
вопросов мы вернемся в восьмой главе.
Примечания
В различных книгах по когнитивной лингвистике Лакофф упоминается как один из
ее основателей, наряду с Р. Лангакером и Л. Талми. См., напр.: Geeraerts, Cuyckens 2007,
p. 3; ср.: Winters 2010, p. 3, 5.
2
Наиболее важными из них являются: Johnson 1987; Lakoff 1987; Lakoff and Johnson
1999; Johnson 2007.
3
См.: Gallese, Lakoff 2005; Dodge, Lakoff 2005, p. 72–75.
4
См.: Johnson 2005, p. 15–18; Johnson 2007, p. 10–12, 96, 103.
5
На мой взгляд, Лакофф в определенной степени эклектичен в описании мировоззренческих оснований и методологического базиса теории, и в этом аспекте гораздо более
убедительны и системны работы Джонсона (Johnson 1987, Johnson 2007).
6
Лакофф и Джонсон используют здесь понятие когнитивного бессознательного (cognitive
unconscious) (Lakoff, Johnson 1999, p. 12–13; Johnson 2007, p. 139).
7
Авторы уделяют понятиям базового уровня большое внимание, в целом, воспроизводя здесь позицию Э. Рош (см.: Lakoff 1987, р. 39–48, особ. 46–47; Lakoff and Johnson 1999,
p. 27–28). С их точки зрения, при использовании понятий базового уровня возбуждаются «некоторые из тех же сенсомоторных нейронных кластеров, которые активируются и
при реальной перцепции или движении, вызванном взаимодействием с соответствующими данным понятиям объектами» (Johnson 2007, p. 160), что прямо отсылает к концепции «зеркальных нейронов» и работам Барсалоу.
8
Понятие образной схемы было предложено Джонсоном (Johnson 1987), поддержано Лакоффом (Lakoff 1987) и затем развито авторами в работах Johnson 2005; Dodge,
Lakoff 2005 и др. Благодаря несомненной эвристической продуктивности и одновременно терминологической неопределенности оно породило множество разнообразных интерпретаций (Clauser, Croft 1999; Grady 2005; Talmy 2005; Roher 2005; Gärdenfors
2007), одним из определяющих моментов для которых является смысловая нагрузка
слова image. Непосредственное обсуждение этого вопроса с Джонсоном показало, что
он имеет в виду простые по своей структуре схемы, воспринимаемые на перцептивном уровне и наглядно представимые в виде простых образов. Другими словами, image
говорит, скорее, о наглядности представления, чем выражает сущностную составляющую понятия.
9
См. Johnson 1987, p. 18–138; Johnson 2007, p. 21–24, 136–152. Названия схем в этих
работах частично различаются, и в этих случаях я привожу наиболее поздний вариант.
10
См. Johnson 2007, p. 141.
11
Имеет смысл привести здесь целиком данный фрагмент из книги Джонсона, затем «разобранный на цитаты» другими авторами: «Consider just a small fraction of the
orientational feats you perform constantly and unconsciously in your daily activities. Consider,
for example, only a few of the many in-out orientations that might occur in the first few minutes
of an ordinary day. You wake out of a deep sleep and peer out from beneath the covers into your
room. You gradually emerge out of your stupor, pull yourself out from under the covers, climb into
your robe, stretch out your limbs, and walk in a daze out of the bedroom and into the bathroom.
You look in the mirror and see your face staring out at you. You reach into the medicine cabinet,
take out the toothpaste, squeeze out some toothpaste, put the toothbrush into your mouth, brush
your teeth in a hurry, and rinse out your mouth. At breakfast you perform a host of further in-out
moves – pouring out the coffee, setting out the dishes, putting the toast in the toaster, spreading
out the jam on the toast, and on and on. Once you are more awake you might even get lost in
the newspaper, might enter into a conversation, which leads to your speaking out on some topic»
(Johnson 1987, p. 30–31).
1
Глава 4. Теория концептуальной метафоры Лакоффа–Джонсона
99
Ср. с приведенными в первой главе наблюдениями Ж. Пиаже и упомянутыми там же
наблюдениями В.Н. Романова.
13
Джонсон приводит интересные иллюстрации этого утверждения: африканскую маску kifwebe и скульптурные изображения (Johnson 1987, p. 91–92). Ср. предложенную
им модель корреляции перцептивных и визуальных моделей с концепцией «зеркальных
нейронов».
14
См.: Lakoff, Johnson 1999, p. 380–381, 393–409. Метафора контейнера отчетливо проявляется в кругах Эйлера, составляющих графическую иллюстрацию к аристотелевским
силлогизмам.
15
Хочется отметить, что почти все примеры метафор из книги Лакоффа и Нуньеса организованы либо по первой, либо по второй из указанных схем. См., напр.: Lakoff, Núnňez
2000, p. 300, 311, 371 и т. д..
16
Следует отметить, что физически высказывание Толстого («закон скорости тел в квадратах расстояний») сложно проинтерпретировать. Скорее всего, он имеет в виду закон
всемирного тяготения. Однако в этом случае изменяться обратно пропорционально квадрату расстояния будет ускорение, а не скорость.
17
В этом стремлении к генерализации можно увидеть неявные следы влияния Хомского. Известно, что Лакофф начинал как ученик Хомского, пройдя путь от попыток
работы в рамках генеративной теории (напр.: Lakoff 1970; Lakoff 1970a; Lakoff 1972) до
ее полного и безусловного отрицания. Сейчас его можно назвать, пожалуй, одним из самых жестких и бескомпромиссных критиков Хомского (Lakoff 1995, p. 115–118; Lakoff,
Johnson 1999, р. 469–512). Однако стремление к универсальности и всеохватности подхода (так сказать, «синдром ньютоновской механики») отсылает нас к базовым установкам генеративной теории.
18
Важно подчеркнуть, что речь идет именно о п р е д с т а в л е н и я х о реальном движении, которые не совпадают с самим фактом движения. Так, поезд в начале и в конце
поездки движется с той же скоростью, что и в середине.
19
Как пример таких исследований см.: Heine 1995; Quinn 1991; ср.: Deignan 2003; Yu
2009.
20
Существует ряд исследований, связанных с дискурсивным анализом метафор. Полем
для них оказываются в основном политические термины и тексты. Такие исследования
обращаются к контексту политической жизни, показывая, как он влияет на структуру
текстов и семантику терминов (напр.: Kornprobst et al. 2008; Musolff, Zinken 2009; Musolff
2010). Хотя иногда в них используются компаративные методы анализа, когда современная ситуация сопоставляется, например, с политическими процессами в Античности, в
целом создается впечатление, что они рассматривают политическое пространство как
фундаментальную константу, аналогичную человеческому телу, и их установка принципиально не отличается от базовой для Лакоффа и Джонсона. Справедливости ради
следует заметить, что в поздних работах Лакофф сам обратился к подобным исследованиям и предложил универсальные модели политической системы как семьи (strict father
и nurturant parent), оказавшие заметное влияние на работы других лингвистов в этой области (см.: Lakoff 2002; Lakoff 2006, p. 49–66).
12
�Глава 5. Tеория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера
Глава 5. Tеория концептуальной
интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера
Как отмечалось в предыдущей главе, одна из характерных черт подхода Лакоффа и Джонсона – понимание концептуальной метафоры
как универсальной объяснительной модели1. Теории концептуальной
интеграции (conceptual integration) или концептуального смешения
(conceptual blending), сопоставимой, пожалуй, с теорией концептуальной метафоры по значимости в современной когнитивной лингвистике и когнитивной науке2, эта претензия на универсализм присуща в
еще большей степени. Так, создатели и главные идеологи теории Жиль
Фоконье и Марк Тернер утверждают, что способность к концептуальному смешению в ее наиболее развитой «би-компонентной» форме
(double-scope blending) выводит человека далеко за рамки умения понимать и использовать язык и является его уникальной особенностью,
играющей решающую роль в том, как он мыслит и воспринимает мир
в целом3.
Хотя отдельные аспекты теории концептуальной интеграции подвергаются критическому анализу в ряде работ (Gibbs 2000; Harder 2003;
Brandt 2005)4, сложно найти исследования, критически осмысляющие
ее как теоретическую систему, выявляющие теоретические основания
ее методологии и оценивающие верифицируемость полученных ей
результатов. В данной главе мы постараемся восполнить эту лакуну.
Исходной точкой для обсуждения станет теория ментальных пространств.
5.1. Концептуальный каркас теории ментальных пространств
Теория ментальных пространств, разработанная Ж. Фоконье, содержит в своих теоретических основаниях внутреннее противоречие, до
конца не осознанное автором и его последователями. С одной стороны, она возникает как попытка преодолеть проблемы, возникающие при интерпретации различных типов высказываний в рамках
аналитической философии, и след задаваемой данным типом мышления формальной парадигмы отчетливо прослеживается в методо-
101
логии Фоконье 5. С другой стороны, Фоконье подчеркивает, что
конструирование ментальных пространств описывает путь, которым
мы думаем или говорим, но не порождает новой онтологической
реальности; иначе говоря, познавательная модель, на которую опирается проблематика ментальных пространств, выводит нас за рамки
базовых для аналитической философии понятий истины и референции и предлагает принципиально новый язык описания (Fauconnier
1985, p. 152–153, 158–160; Sweetser, Fauconnier 1996, p. 7–8; Fauconnier
1997, p. 34)6. Отмеченное противоречие проявляется в самой структуре предложенного Фоконье подхода. В его рамках ментальные
пространства создаются участником коммуникации как некоторые
вспомогательные средства, позволяющие понимать высказывания
других и порождать собственные высказывания. Для их конструирования исследователь вводит понятие исходного пространства (parent
space) – пространства, которое в данном контексте выполняет функцию «реального» (Фоконье принципиально отказывается от использования понятия «реальность» в онтологическом смысле) – и набора
«порождающих операторов» (space builders) – лингвистических выражений, маркирующих появление нового ментального пространства
на основе исходного. В качестве таких порождающих операторов используется широкий класс выражений: на картине Модильяни; в 1927
году; на заводе; Михаил уверен; Ольга надеется; если А, то…; или… или…
и т. д. (Fauconnier 1985, p. 17). С помощью специальных «коннекторов» (connectors) устанавливается соответствие между элементами
исходного пространства и их аналогами в возникающих пространствах. Так в предложении Олег вернулся вчера из Парижа, и Ольга
рассчитывает, что он завтра придет к ним в гости слово он соответствует некоторому Олегу' – аналогу Олега из исходного пространства
в ментальном пространстве, созданном оператором Ольга рассчитывает.
Использование ментальных пространств позволяет Фоконье разрешать ряд парадоксов, возникающих в рамках классической теории
референции. Показательным примером преимуществ, достигаемых
благодаря используемому им подходу, является анализ в рамках теории ментальных пространств парадокса Крипке: Пьер, воспитанный
во Франции, слышал о городе Londres и был убежден в том, что
Londres est jolie. Позднее жизнь привела его в Англию, где он говорил
по-английски и жил в городе, известном ему под именем London. В
нем сложилось отчетливое убеждение, что London is ugly. В его позиции нет противоречия, так как он продолжал считать London и
Londres разными городами. Что мы можем сказать об истинности
предложения Пьер полагает, что Лондон – красивый город в заданном
контексте?
�102
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
Фоконье утверждает, что этот неразрешимый в классической теории референции вопрос (один и тот же объект оказывается одновременно и прекрасным, и безобразным) вообще не является проблемой
в теории ментальных пространств: объекты, тождественные в исходном пространстве P оказываются различными в ментальном пространстве М, образованном оператором Пьер полагает (там же,
p. 156).
Не касаясь здесь обсуждения данного сюжета по существу, отметим,
что приведенный пример наглядно иллюстрирует общую логику подхода Фоконье, продемонстрированную им в работе с большим массивом разнообразного материала (различие социальной роли и соответствующей ей личности, контрфактические предложения, теория пресуппозиции и т. д.). Можно заметить, что все аргументы Фоконье
носят л о г и ч е с к и й характер, в то время как ментальные пространства отражают, по его характеристике, не логическую, а п с и х о л о г и ч е с к у ю реальность. В этом случае, было бы естественно ожидать
и психологические аргументы, подтверждающие существование таких
пространств, описание психолингвистических экспериментов, свидетельствующих, что восприятие предложений происходит в рамках
указанной модели. Однако подобных аргументов ни Фоконье, ни его
последователи не приводят. На это обращают внимание его критики,
подчеркивая также два следующих обстоятельства: если опираться на
когнитивную парадигму, о которой говорит Фоконье, ментальные пространства, созданные различными классами операторов, будут существенно различными для восприятия; кроме того, многие из сделанных
исследователем наблюдений могут быть объяснены в рамках других,
более традиционных психолингвистических теорий (Harder 2003,
р. 94–95; Brandt 2005, р. 1580–1583; Oakley, Hougaard 2008, р. 12;
Ferguson, Sanford 2008, р. 610)7.
Описанный контекст будет важен для нас при обсуждении теории
концептуальной интеграции, к которому мы переходим.
5.2. Базовые положения и структура теории
концептуальной интеграции
Несмотря на то, что отдельные аспекты теории концептуальной интеграции (или концептуального смешения) излагались и ранее, первым
систематическим ее изложением следует считать работу Fauconnier,
Turner 1994. Среди более поздних работ имеет смысл выделить
Fauconnier, Turner 1996; Fauconnier, Turner 1998; Fauconnier, Turner 2000;
Sweetzer 2000; подводящую промежуточные итоги монографию
Fauconnier, Turner 2002; а также Fauconnier, Turner 2008; Fauconnier
20098.
Глава 5. Tеория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера
103
Идею, составляющую базис теории концептуальной интеграции,
можно сформулировать следующим образом: а) одной из главных особенностей человека, отличающей его от других биологических видов,
является способность создавать новые смыслы на основе уже имеющихся; б) одна из определяющих форм реализации этой способности,
находящая разнообразное применение в языке и культуре, состоит в
порождении несущего новые смыслы интегрального ментального пространства, или бленда, (blending space) на основе нескольких базовых
ментальных пространств (input spaces).
Парадигмальный пример, демонстрирующий эту идею – задача
про буддийского монаха. Буддийский монах с восходом солнца начинает подъем на году, вершины которой он достигает с закатом9.
Несколько дней он медитирует на вершине, а затем с восходом солнца начинает движение вниз, также с закатом приходя к подножию
горы. Пренебрегая изменением продолжительности солнечного дня,
не делая никаких допущений о скорости движения монаха, количестве
остановок в пути и т. д., нужно ответить на вопрос, есть ли в процессе движения точка, которую он проходит в один и тот же момент
времени на подъеме и на спуске (начало отсчета времени совпадает
с восходом солнца).
Задача имеет простое и изящное решение, если мы наложим друг
на друга движения вверх и вниз, предположив, что они происходят в
один день. Тогда становится очевидным, что траектории спускающегося и поднимающегося монаха в некоторый момент времени пересекутся, и точка их пересечения и будет положительным ответом на
вопрос задачи. Иллюстрируя на данном материале теоретическую схему, можно сказать, что исходными пространствами здесь являются
пространства, соответствующие дню подъема и дню спуска, а блендом – пространство, где оба движения происходят одновременно. Для
большей полноты картины и снятия возможных разночтений авторы
выделяют еще родовое (generic) пространство, подчеркивающее присущие базовым пространствам общие категории, допускающие возможность концептуального интегрирования. В данном случае такое
пространство включает в себя движущегося человека и его местоположение, путь, связывающий основание и вершину горы, день, затрачиваемый на дорогу, и движение в каком-либо направлении (см.
рис. 5).
�104
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
Рис. 5. Схема концептуальной интеграции в задаче про буддийского
монаха (приводится по Fauconnier, Turner 2002, p. 45).
В качестве другого канонического примера можно обратиться к
воображаемым дебатам с Кантом, которые во время лекции ведет современный философ. Обсуждая фундаментальную мировоззренческую
проблему (в интерпретации авторов – вопрос о том, является ли разум
врожденной способностью), этот философ излагает свою позицию,
Глава 5. Tеория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера
105
приводит возможные контраргументы Канта, извлекаемые из его сочинений, свои возражения на контраргументы и т. д., так, что у его
слушателей создается ощущение двух находящихся рядом мыслителей,
ведущих непосредственную полемику. В интерпретации Фоконье и
Тернера, здесь также имеет место образование интегрального пространства, в котором собеседники говорят на английском, знают о
существовании друг друга и вместе пытаются найти истину в непосредственном диалоге. При этом базовые пространства обладают существенными отличиями от бленда: в них Кант пишет по-немецки, а
его виртуальный собеседник говорит по-английски, Кант не знает о
существовании оппонента, делая свои умозаключения задолго до него,
и т. д. Общие черты базовых пространств отражены в родовом пространстве, которое включает в себя философов, существующих в
определенном месте в определенное время, пытающихся найти решение конкретной проблемы и выдвигающих с этой целью ряд тезисов,
подчиняющихся набору разделяемых ими формальных и неформальных
правил.
Еще один архетипический для Фоконье и Тернера пример – информационное сообщение о воображаемой регате, основу для которого составляют следующие факты: клипер Northern Light в 1853 г. проплыл от Сан Франциско до Бостона за 76 дней и 8 часов; этот результат оставался непревзойденным до 1993 г., когда катамаран Great
American II отправился тем же курсом, чтобы установить новый рекорд.
Тогда за несколько дней до окончания путешествия наблюдающие за
ним обозреватели могли бы сказать На этой стадии Great American II
опережает Northern Light на 4,5 дня. В заданном контексте разделенные
интервалом в 140 лет события совмещаются аналогично тому, как это
произошло при решении задачи с буддийским монахом. Такое сжатие
временной шкалы в соотносимый с повседневным опытом человека
формат дает возможность зрелищного и эмоционального восприятия
теперь уже не философского спора, как в случае с Кантом, а растянутого во времени путешествия.
Широту охватываемого теорией концептуальной интеграции спектра демонстрируют два следующих примера: комплексные числа и
рабочий стол компьютера. Как известно, комплексные числа могут
быть представлены в виде точек на плоскости, выражаясь в полярной
системе координат расстоянием до центра О и углом с осью ОХ (такая
запись имеет вид Z=R·EXP(iφ)). В интерпретации авторов такое представление является блендом, для которого одно базовое пространство
представляет собой координатную плоскость с точками на ней и векторами, переводящими одну точку в другую, а другое – действительные
числа, с законами их сложения и умножения. Родовым пространством
в данном случае будут коммутативные алгебраические кольца. Инте-
�106
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
гральное пространство обладает значимыми отличиями от каждого из
базовых: в отличие от действительных чисел для комплексных нерелевантно отношение порядка («больше», «меньше»), в отличие от точек,
мы можем умножать и делить комплексные числа друг на друга и т. д.
Таким образом, по мнению авторов, концептуальная интеграция оказывается важным средством для порождения новых смыслов в математике (см. также Alexander 2011).
В случае с рабочим столом компьютера, по мысли авторов, создается особое интегрированное пространство, основой для которого
являются пространство нашего повседневного опыта (т. е. деятельность
по открыванию папок, вкладыванию в них и удалению из них листов,
выбрасыванию папок в корзину и т. д.) и пространство осуществляемых
в компьютере формальных операций (абстрактный язык компьютерных
команд, соответствующих наблюдаемым в бленде виртуальным перемещениям). Здесь, опять же, свойства бленда заметно отличаются от
свойств исходных пространств.
Приведенные примеры выглядят весьма экзотично и кажутся далекими от лингвистики, но Фоконье и Тернер утверждают, что процедура концептуальной интеграции является определяющей и для широкого спектра лингвистических явлений, таких как метонимия и метафора, контрфактические предложения, образование грамматических
конструкций (Fauconnier, Turner 1996).
Говоря о грамматических структурах, они, в частности, обращают
внимание на присутствующие во многих языках конструкции NounPhrase Verb Noun-Phrase Prepositional-Phrase, описывающие процесс
целенаправленного движения. С их точки зрения, эти конструкции
представляют собой концептуальную интеграцию базовых пространств,
связанных с различными действиями. Так, утверждение Jack threw the
ball into the basket (Джек забросил мяч в корзину) оказывается описанием трех отдельных действий: Джек воздействует на мяч; мяч летит; мяч
находится в корзине. Подобные конструкции с глаголами, аналогичными throw есть во многих языках, однако некоторые из них, в частности, английский, допускают расширение на другие группы глаголов,
например, Junior sped the toy car around the Christmas tree (Сынишка «промчал» игрушечную машину вокруг рождественской елки: сынишка нажал
на пульт дистанционного управления; машина промчалась вокруг
рождественской елки) и т. д. Фоконье и Тернер видят здесь интеграцию
двух базовых пространств, напоминающую бленд в задаче про буддийского монаха: начало и конец действия совмещаются, а средняя часть
процесса выпадает (в бленде сын воздействует на машину непосредственно, а не посредством пульта).
Метафоры авторы интерпретируют как частный случай концептуальной интеграции. С их точки зрения, практически никогда не
Глава 5. Tеория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера
107
происходит прямого проецирования области-источника на областьцель, в подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с интегральным пространством, «переплавляющим» свойства каждого из
базовых пространств. Каноническим примером для демонстрации
«блендовой» структуры метафоры является анализ авторами выражения рыть себе могилу (например, Вкладывая деньги в эту авантюру,
ты роешь себе могилу) (Fauconnier, Turner 1998, p. 149–151; Fauconnier,
Turner 2002, p. 132–134). В интерпретации авторов приведенное
утверждение представляет собой бленд двух базовых пространств:
пространства, связанного с погребальным обрядом, одним из необходимых элементов которого во многих культурах является выкапывание могилы умершему, и пространства финансовых операций, регулирующих их писаных и неписанных норм, а также рисков, с ними
связанных.
Данный пример иллюстрирует важную особенность теории концептуальной интеграции, на которую обращают внимание авторы.
Они выделяют два типа такой интеграции: моно-компонентную
(single-scope blending) и поли-компонентную (multi-scope blending).
Случай моно-компонентной интеграции соответствует высоко конвенциональным метафорам, таким как После разящего удара от Apple
в борьбе за рынок Microsoft оказался в нокдауне. Здесь базовые пространства образуют поединок боксеров с соответствующими правилами и
атрибутикой и конкурентная борьба в бизнесе, осуществляемая по
своим нормам и правилам. Однако в бленде, где на ринге оказываются две вступившие в поединок компании, мы не находим следов отношений, характерных для бизнеса, в данном случае все определяется структурой первого пространства, которая проецируется на бленд,
определяя его структуру.
В приведенном выше примере с выкапыванием себе могилы ситуация оказывается иной. Здесь нельзя говорить о прямом проецировании структуры одного из базовых пространств на бленд (могилу
обычно роют не себе, а уже умершему человеку; с другой стороны,
человек, совершающий безрассудные в финансовом отношении поступки, не копает землю в буквальном смысле этого слова, используя
лопату как инструмент); в бленде мы видим качественно новое образование, представляющее собой синтез структур, принадлежащих двум
базовым пространствам.
Способность к такой би-компонентной интеграции, по мнению
авторов, является уникальной способностью, присущей людям, следствием которой становятся возникновение искусства, религии, науки,
а также появление языка (Fauconnier, Turner 2002, p. 180–187;
Fauconnier, Turner 2008).10 Отталкиваясь от антропологических и археологических исследований, Фоконье и Тернер датируют формиро-
�108
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
вание этой способности временем около 50 тыс. лет до н.э. Их логику,
строящуюся на сформулированном выше генеральном тезисе теории
концептуальной интеграции, можно передать следующим силлогизмом: базовый принцип эволюции языка и различных форм культуры
состоит в построении новых смысловых конструкций на основе
имеющихся в наличии, т. е. предполагает постоянное «приращение
смысла»; би-компонентная интеграция ведет к созданию нового качества путем преобразования уже освоенных смысловых структур;
следовательно, способность к би-компонентной интеграции обеспечивает развитие языка и культуры. Если говорить о языке, то после
освоения процедуры би-компонентной интеграции он начинает развиваться как самосовершенствующаяся система, создающая все новые
и новые грамматические и лексические конструкции, отражающие
изменяющийся опыт существования человека в природной и социокультурной средах.
Следует отметить, что в своих утверждениях Фоконье и Тернер не
опираются на конкретный культурно-исторический анализ, видимо,
исходя из допущения, что появление первобытного искусства и других
форм культуры с неизбежностью предполагает наличие би-компонентной интеграции в качестве основы. Однако образцы такого
анализа встречаются в работах других исследователей, действующих в
заданной Фоконье и Тернером парадигме. Так, Е. Свитцер обнаруживает би-компонентную интеграцию в первобытной магии и ритуале.
Реконструируя гипотетический ритуал первобытных охотников на
бизонов, она видит в нем пример бленда, в котором пространство
ритуального танца с изображением бизона и пространство реальной
охоты на бизона объединяются в интегральном пространстве, «переплавляющем» базовые структуры в новую целостность (поражение
наскального изображения в бленде оказывается поражением бегущего
бизона и т. д.) (Sweetser 2000, p. 319–320).
Если говорить об образовании бленда не как о формальной модели,
а как о реальном когнитивном процессе, возникает два вопроса, на
которые с необходимостью приходится отвечать. Первый – какие
стадии проходит формирование интегрального пространства «в режиме реального времени»; второй – как в базовых пространствах выбираются структуры, востребованные в бленде, почему из всего спектра
возможностей актуальными оказываются именно данные структурные
элементы. Хотя Фоконье и Тернер дают ответы на эти вопросы, нужно
признать, что их ответы носят слишком общий характер, и не опираются на данные психолингвистических экспериментов. С их точки
зрения, формирование бленда проходит три этапа: построение бленда
(composition) (выделение в базовых пространствах необходимых для
построения бленда элементов), завершение бленда (сompletion) (под-
Глава 5. Tеория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера
109
ключение к сформированной структуре контекстуального содержания,
бессознательно включаемого в бленд), совершенствование бленда
(elaboration) (переформатирование элементов в бленде с учетом нового концептуального содержания, позволяющее избежать логических
противоречий в сформированной структуре). Результатом описанных
этапов становится возникновение нового ментального пространства,
структура которого не сводится к структуре пространств, лежащих в
его основе (как свойства молекулы воды не сводятся к свойствам составляющих ее водорода и кислорода).
Далее исследователи указывают на два рода принципов, определяющих процесс концептуальной интеграции: конститутивные принципы (constitutive principles) и направляющие принципы (governing
principles). Конститутивные принципы задаются грамматикой и словарем языка, на котором строится высказывание, направляющие
принципы носят, скорее, рекомендательный характер и связаны с
общей логикой построения бленда. Авторы иллюстрируют свой тезис,
обращаясь к теории музыкальной импровизации: процесс импровизации подчиняется как общим принципам музыкальной гармонии, так
и пониманием принципов импровизации; человек, знающий первые,
но не чувствующий последних, оказывается беспомощным импровизатором (Fauconnier, Turner 2002, p. 310-311).
Наиболее фундаментальным направляющим принципом, по Фоконье и Тернеру, является адаптация описываемых явлений к ш к а л е
ч е л о в е ч е с к о г о о п ы т а (a c h i e v e H u m a n S c a l e ), т. е. перевод явлений, удаленных в пространстве и времени, в формат, привычный для человека, формат, соотносимый с его перцепцией и проприоцепцией. Приведенный выше пример с воображаемой регатой наглядно демонстрирует суть данного императива, следствием которого
является ряд вспомогательных требований:
1) сжимать то, что разнесено;
2) достигать проникновения в сущность вещей;
3) усиливать значимые связи;
4) составлять из событий историю (Come up with a story)11;
5) идти от Многого к Одному (там же, p. 312).
Наряду с этим, Фоконье и Тернер выделяют несколько направляющих принципов, носящих более функциональный характер:
• топологический принцип (При прочих равных, при создании
бленда на основе базовых пространств необходимо, чтобы значимые внутренние связи, присущие базовым пространствам,
равно как и связи между ними, нашли свое отражение во внутренних связях элементов в бленде);
• принцип декодирования (При прочих равных, бленд должен
содержать в себе знаки, позволяющие восстановить всю сеть);
�110
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
•
принцип интеграции (необходимо стремиться к самосогласованному бленду, объединяющему в единое целое все разнородные элементы);
и ряд других принципов, носящих столь же общий характер (там же,
p. 325–336). Авторы иллюстрируют сформулированные правила несколькими примерами, но их иллюстрации напоминают утверждения
ad hoc, за ними не стоит прозрачной верифицирующей процедуры.
Завершая на этом описание структурного каркаса теории концептуальной интеграции, перейдем теперь к ее критическому анализу.
5.3. Критический анализ теории концептуальной интеграции
В ряде работ уже высказаны отдельные полемические соображения,
касающиеся теории концептуальной интеграции. Частично они совпадают с приведенными выше замечаниями по поводу ментальных
пространств. В наиболее общем виде критические идеи сформулированы в статье Gibbs 2000. Они выражаются в сомнениях в фальсифицируемости теории (Гиббс опирается на утверждения Поппера о том,
что претендующая на научность теория должна не интерпретировать
любые факты в свою пользу, а, наоборот, делать рискованные предсказания, которые могут быть опровергнуты), в том, что она описывает ход реально протекающих ментальных процессов, во взгляде на нее
как на теорию post hoc, не обладающую предсказательной силой, в том,
что ее многие ее утверждения могут быть выведены в рамках других,
более традиционных подходов. Наш критический анализ отчасти будет
развивать высказанные Гиббсом соображения.
А) Несмотря на утверждение Фоконье и Тернера о роли бикомпонентной интеграции в процессе конструирования новых смыслов, о ее важности для достижения нового качества в процессе познания, несмотря на требование к бленду проникать в сущность вещей,
усиливать значимые связи, почти все приводимые ими примеры (исключение составляет, пожалуй, красивая, но весьма специфическая
задача про буддийского монаха) связаны не с с у щ н о с т ь ю осуществляемых когнитивных операций, а с ф о р м о й и х п р е д с т а в л е н и я . Основной задачей бленда в приводимых примерах оказывается
представление концептуального содержания в удобном, компактном,
привычном для неподготовленного наблюдателя виде, т. е. его п о п у л я р н о е изложение12. Связь идеи популяризации с механизмом
концептуальной интеграции отчетливо заметна в научно-популярной
литературе, когда абстрактные, существующие в особом символическом
пространстве идеи излагаются при помощи наглядных образов, чтобы
стать доступными неподготовленному читателю. Аналогия С. Хокинга между воздушным шаром, в котором растяжение оболочки сдерживает давление воздуха, и звездой, в которой силы гравитационного
Глава 5. Tеория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера
111
притяжения между атомами уравновешиваются давлением газа в ней,
может быть проинтерпретирована как типичный бленд в модели концептуальной интеграции (базовое пространство-1: воздушный шар,
находящийся вблизи поверхности земли, резина, составляющая оболочку, газ внутри шара, сила давления газа на фрагмент оболочки
уравновешивается силой со стороны прилегающих к нему фрагментов;
базовое пространство-2: звезда, атомы гелия и водорода, образующие
звезду, сила гравитационного притяжения между атомами уравновешивается силой давления газа; бленд: звезда, представляющая собой
воздушный шар с нагретым воздухом внутри, находящаяся в космосе,
среди других звезд). Другой пример подобного «популяризирующего
бленда», использованного А. Эйнштейном при объяснении искривления пространства в общей теории относительности – аналогия между
«плоскими существами, к которым нас приучил кинематограф», и
человеческими существами, живущими в трех измерениях. Первые
способны заметить искривление линии, но не способны почувствовать
кривизну плоскости; вторые ощущают кривизну плоскости, но не в
состоянии заметить искривление пространства.
Взглянем теперь на приводимые Фоконье и Тернером примеры под
заданным углом зрения. Формирование бленда в «диалоге с Кантом»
никак не влияет на суть обсуждаемых вопросов (в данном случае, напомню, вопроса о врожденности разума). Описанная полемика могла
бы вестись и с другим философом, исповедующим те же идеи, и во
внутреннем диалоге философа с собой. Описанный авторами формат
открывает возможность адаптации обсуждаемых проблем для аудитории, представляет собой педагогический прием, превращающий абстрактные философские материи в зрелищный диспут, делающий
обсуждение сюжета живым и наглядным13.
Пример с регатой устроен таким же образом. Он позволяет добиться яркости и образности впечатления, не добавляя ничего по сути и
даже, возможно, искажая суть (непонятно, например, адекватен ли
контекст описанного состязания для клипера Northern Light, с какой
целью осуществлялось его путешествие от Сан Франциско до Бостона
и т. д.).
Аналогичную функцию выполняет пример с рабочим столом компьютера. Создание бленда здесь облегчает работу с компьютером для
рядового пользователя, дает ему возможность осуществлять операции,
которые до этого требовали специальных навыков, знания набора
абстрактных команд. Здесь также можно говорить об адаптации абстрактной когнитивной системы, введении ее в контекст повседневного опыта обычного человека.
Пример с комплексными числами, в наибольшей степени, кажется,
претендующий на создание в бленде нового знания, основан на недо-
�112
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
разумении. Комплексное число, как уже отмечалось, представляет
собой упорядоченную пару действительных чисел, которая, может быть
представлена точкой на плоскости. Однако, и действительные числа
могут быть представлены точками на прямой, или коллинеарными
векторами с центром в начале координат. Почему авторы используют
такое представление для комплексных чисел и не используют его для
действительных, остается загадкой. Да, математики говорят о комплексной плоскости, но они говорят и о действительной прямой. Геометрическое представление комплексных чисел оказывается заметно
менее востребованным, чем алгебраическое или тригонометрическое.
Сущность комплексных чисел никак не связана со свойствами множества точек на плоскости и свойствами векторов, переводящих одну
точку в другую. Сущность комплексных чисел как расширения множества действительных чисел определяется введением «мнимой единицы» i (i = √-1) и массой интересных свойств, вытекающих из этого.
Аналогия с точками на плоскости для комплексных чисел дает возможность большей наглядности, предоставляет наглядный образ для
абстрактных сущностей, т. е. данный пример вполне встраивается в
ряд рассмотренных выше.
В целом, в том же направлении, кажется, работает и приводимый
Фоконье и Тернером анализ конструкции Noun-Phrase Verb Noun-Phrase
Prepositional-Phrase. Удаляя промежуточные звенья и оставляя лишь начало и конец действия, такая конструкция придает описанию ситуации
большую зрелищность и динамизм, облегчая ее восприятие.
Разумеется, утверждать, что все бленды могут быть проинтерпретированы подобным образом, было бы преувеличением, однако, если мы
обращаемся к примерам, которые сами авторы предлагают в качестве
парадигмальных для теории, предложенная интерпретация кажется
корректной. Более того, она вполне согласуется с выделенным авторами
фундаментальным направляющим принципом: адаптация явлений и
процессов к шкале человеческого опыта (achieve Human Scale).
Подводя итог проделанному в данном пункте анализу, хотелось бы
подчеркнуть основную идею: бленды дают возможность не «приращения смысла», не появления нового знания, а адаптации уже существующего знания к опыту обычного человека, рядового носителя
языка и культуры. Рассматривать способность к их порождению как
главную эволюционную особенность человека, определившую появление языка и различных форм культуры, кажется, по меньшей мере,
большим преувеличением.
Б) Во многих случаях анализу языковых выражений, интерпретируемых авторами теории концептуальной интеграции как бленды, недостает культурно-исторической составляющей. Так, обратимся к рассмотренному выше выражению рыть себе могилу. Опираясь на Национальный
Глава 5. Tеория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера
113
корпус русского языка, появление этого выражения в метафорическом
значении можно датировать 20-ми годами XX века: Всею своею деятельностью правительство само подготовило революцию, собственными руками
рыло себе могилу (Н.С. Трубецкой. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока (1925)). В это время практика массовых расстрелов и
выкапывания расстреливаемыми могил для себя становится широко
распространенной и находит свое отражение в языке: Часто жертвы
принуждались рыть себе сами могилу (НКРЯ, С.П. Мельгунов. «Красный
террор» в России (1924)); За поворотом остановились, и казаки стали рыть
себе общую могилу (А.С. Серафимович. Железный поток (1924)). Возможно, похожая ситуация имеет место и в английском языке. Так, наиболее ранний пример конструкции digging one»s own grave, приводимый
the Oxford English Dictionary, датируется 1934 г.
Отсюда не следует, что выявленная закономерность носит универсальный характер. В частности, голландские словари идиом датируют
появление конструкции рыть себе могилу, по крайней мере, XVII в.,
причем в наиболее раннем из приводимых примеров могилу роют
зубами (Leckere luyden graven haer eygen graf met haer tanden)14. Тем не
менее, можно предположить, что, по крайней мере, в некоторых традициях семантическим триггером для идиомы рыть себе могилу становится новый социальный опыт первых десятилетий XX века, отраженный в литературе и языке. Образ роящих себе могилы под дулами
винтовок людей оказывается настолько зрительно ярким и эмоционально задевающим, что это обуславливает его экспансию в другие
области. Если это предположение справедливо, структура метафоры,
по крайней мере, в некоторых языках становится существенно иной,
чем ее описывают авторы. Конечно, при желании можно и в данном
случае увидеть в ней би-компонентный бленд (человек, копающий себе
могилу под дулами винтовок или автоматов, делает это по необходимости, человек, вкладывающий деньги в рискованное предприятие –
добровольно, т. е. и здесь нельзя говорить о полном изоморфизме
между базовым и интегральным пространствами), однако, важно не
это. Важно, что та или иная языковая конструкция появляется не в
трансцендентной вневременной реальности, а здесь и теперь, и ее появление вызвано не абстрактными схемами, наподобие предложенной
Тернером и Фоконье, а изменениями в социокультурном контексте,
ходом социальной жизни15.
Приведенная выше Е. Свитцер интерпретация гипотетического ритуала охоты на бизона является, пожалуй, еще более ярким проявлением аберраций, возникающих при игнорировании культурно-исторической
специфики процесса. Для понимания отмеченных аберраций необходимо вновь обратиться к работам школы культурно-исторической психологии. Однако начнем мы экскурс в эту область с появившихся в
�114
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
первые десятилетия ХХ века исследований французского антрополога
Л. Леви-Брюля (Леви-Брюль 1994), в которых он описал мышление
представителей традициональных культур и выяснил, что целый ряд
совершаемых ими ментальных операций противоречит принципам
аристотелевской логики. Так, аборигены племени бороро, обитающего
в Северной Бразилии, утверждали, что они – красные попугаи арара,
причем настаивали на том, что являются бороро и арара не последовательно, а одновременно, что они и арара образуют сущностное единство
(Леви-Брюль 1994, c. 63). Леви-Брюль назвал такой, парадоксальный с
современной точки зрения, подход принципом партиципации (сопричастия), а тип мышления – пралогическим мышлением.
Позднее Л.С. Выготский в классической работе «Мышление и речь»
объяснил наблюдения Леви-Брюля, рассматривая их как частный случай
«мышления в комплексах». Напомню, что под комплексами отечественный психолог понимал структуры, в которых связи между элементами
не подчиняются универсальной системе принципов, но меняются от
элемента к элементу, имея ситуационный характер. Наряду с приведенными в третьей главе примерами (автономное слово «пу-фу», фамилия
Петровых), Выготский иллюстрирует свои идеи классическим наблюдением Ч. Дарвина: «ребенок называет словом “ква” первоначально утку,
плавающую в пруду, затем всякую жидкость, в том числе и молоко,
которое он пьет из своей бутылочки. Затем, когда он однажды видит на
монете изображение орла, монета также получает то же самое название,
и этого оказывается достаточным, чтобы потом все круглые, напоминающие монету предметы получили то же самое название. Мы видим
типичный пример цепного комплекса, где каждый предмет включается
в комплекс исключительно на основе известного общего признака с
другим элементом, причем характер этих признаков может бесконечно
изменяться» (там же, c. 158).
Рис. 6. Структура комплекса «ква».
Глава 5. Tеория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера
115
Выготский разрабатывал типологию и модель эволюции мышления
в комплексах, прежде всего, на материале развития ребенка дошкольного и младшего школьного возраста, хотя и говорил о значимости
этого типа мышления как для представителей традициональных культур,
так и для людей с определенными типами ментальных заболеваний (там
же, c. 161). Последующие исследования, осуществленные в данном направлении, убедительно продемонстрировали, что предложенная модель
носит гораздо более общий характер, будучи крайне важной не только
для онтогенеза, но и для культурогенеза. Оказалось, что мышление в
комплексах описывает не только мышление человека традициональных
культур и, вероятно, культур первой древности16, но в определенных
ситуациях и с определенными уточнениями и мышление носителя теоретической культуры17. Так, в одном из экспериментов участники,
большинство которых составляли люди с высшим и неполным высшим
образованием в возрасте от 25 до 35 лет, должны были распределить по
подгруппам группу из более чем 70 слов, относящихся к классу «посуда и кухонная утварь». Предлагаемые участниками схемы группировки опирались не на набор абстрактных признаков, а на их опыт взаимодействия с соответствующим данным словам объектами («предметы,
которые берут в поход», «предметы для употребления алкогольных напитков» и т. д.) (Фрумкина 1991, с. 64–75; ср. Imai, Saalbach 2010, p. 146).
В целом картина соответствовала общим принципам «мышления в
комплексах». Подобные эксперименты, как, впрочем, и собственная
интуиция, дают основание предположить, что данный тип мышления
активно используется нами в повседневной жизни в случаях, когда мы
опираемся на собственный опыт, а не на внешне заданные теоретические схемы, с которыми сталкиваемся, например, в ситуации школьного обучения. Принципиальная разница состоит лишь в том, что человек теоретической культуры может использовать оба типа мышления
(мышление в комплексах и понятийное мышление) в зависимости от
контекста, тогда как ребенок и носитель традициональной культуры
воспроизводят лишь первый из этих типов.
Модель «мышления в комплексах» можно распространить не только на наблюдения Л. Леви-Брюля, но и на случай, описанный Е. Свитцер. Изображение бизона, которое поражает охотник во время ритуала, составляет единый комплекс с бизоном, на которого позднее
охотятся в действительности. Сущности, которые современное сознание воспринимает как разделенные, для представителя традициональной культуры оказываются элементами единой структуры. Именно эту
особенность подчеркивал Л. Леви-Брюль; она может быть проиллюстрирована и на целом ряде других примеров. Так, имя в традициональных культурах и культурах первой древности воспринималось как
материальная сущность, воздействуя на которую, можно нанести су-
�116
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
щественный урон самому человеку. Яркой иллюстрацией этому служит
миф о Ра и Исиде. Бог Ра тщательно скрывает свое подлинное имя и
выдает его богине Исиде лишь под угрозой неизбежной смерти (его
укусила змея, и для того, чтобы спасти его, Исида должна произнести
заклинание, включающее подлинное имя Ра), причем облекает свое
признание в весьма показательную формулировку: «Да обыщет меня
Исида, и да выйдет имя из моего тела в ее тело» (Глебкин 2000, с. 195).
Другой подобный пример – «черепки проклятий», использовавшиеся
для уничтожения врагов фараона: чтобы погубить вождей враждебных
Египту племен, на специально сделанных глиняных сосудах писались
магические заклинания, потом сосуды предавались проклятию и разбивались; предполагалось, что и сами вожди благодаря этому будут
уничтожены (там же).
Можно заметить, что описанный Е. Свитцер ритуал встраивается в
указанную традицию. Оставаясь в ее рамках, видеть в нем специальное
интегрированное пространство некорректно, правильнее говорить об
изменении структуры базового пространства, имеющего весьма необычную для современного человека топологию.
Приведенные выше соображения можно распространить и на значительное число других иллюстраций, предложенных Фоконье и Тернером (в частности, на анализ ими метафоры смерти как м р а ч н о г о
ж н е ц а ( t h e G r i m R e a p e r ) ). Отсутствие культурно-исторической
составляющей в анализе ведет к тому, что подлинные причины образования и эволюции бленда, носящие культурно-исторический характер, оказываются скрытыми от читателя, а структура бленда – существенно искаженной.
В) Интересно обратиться также к ряду осуществленных в когнитивной лингвистике за последние годы экспериментальных исследований,
дающих возможность косвенной оценки психолингвистической корректности теории Фоконье. Показательной иллюстрацией являются
исследования контрфактических предложений (de Vega et al. 2007; de
Vega 2008; Ferguson, Sanford 2008; de Vega, Uritta 2011). Авторы теории
концептуальной интеграции уделяют таким предложениям значительное внимание. Утверждения вида Если бы Билл Клинтон был «Титаником», то утонул бы айсберг наряду с задачей про буддийского монаха
и беседой с Кантом стали классическими примерами блендов. В интерпретации авторов первое исходное пространство здесь связано с
историей Билла Клинтона и Моники Левински, включенной в контекст
функционирования американского института президентства и осмысленной в рамках американской системы ценностей, второе – с историей гибели «Титаника», прочно вошедшей в массовое сознание благодаря одноименному фильму, а бленд образует гипотетическое пространство, в котором Клинтон сталкивается с айсбергом и айсберг
Глава 5. Tеория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера
117
тонет. Бленд интерпретируется в этом случае как автономное пространство с собственной внутренней логикой.
Результаты ряда экспериментов в данной области вполне укладываются в рамки предложенной интерпретации, и их авторы упоминают
теорию ментальных пространств как одно из возможных обоснований.
Так, было обнаружено, что в коротких историях типа Марта включила
радио и услышала номера билетов, выигравших в лотерее. Так как ее
билет оказался среди выигравших, она пошла покупать новый Мерседес
или Марта включила радио и услышала номера билетов, выигравших в
лотерее. Если бы ее билет оказался среди выигравших, она пошла бы покупать новый Мерседес тестовая реакция на присутствие контрольного
слова в первом предложении (в данном эксперименте, услышала) для
реального завершения оказывалась медленнее, чем для контрфактического, что означало, по мысли авторов, что во втором случае не происходит обновления информации, и история про покупку Мерседеса
не накладывается на факт выяснения выигравших номеров. Это, в свою
очередь, подтверждает тезис о том, что в данном эксперименте покупка Мерседеса находится в особом, гипотетическом пространстве,
не имеющем прямой связи с предшествующим контекстом (de Vega et
al. 2007; de Vega 2008, р. 296-297).
Также согласуется с утверждениями теории концептуальной интеграции выявленное в значительном числе исследований удерживание
в сознании человека, воспринимающего контрфактическое предложение, и реального, и контрфактического пласта, т. е. так называемое
«двойное значение» этих предложений (de Vega 2008: 298–299; Ferguson,
Sanford 2008: 610; de Vega, Uritta 2011: 962–963). Однако более внимательный анализ показывает, что предложенная Фоконье и Тернером
модель носит слишком общий и слишком абстрактный характер, чтобы описывать реальное течение процессов. Ключевым остается вопрос
о статусе контрфактических пространств: можно ли считать эти пространства исключительно ментальными структурами, никак не связанными с перцептивным и проприоцептивным опытом человека, или
они опираются на опыт существования человека как телесного существа в реальном для него мире. Модель описания Фоконье и Тернера
неявно предполагает первый ответ, экспериментальные данные отсылают, скорее, ко второму.
Так, результаты работы de Vega, Uritta 2011 показывают, что относящиеся к контрфактическому контексту понятия в процессе построения бленда демонстрируют такую же связь с перцептивными
реакциями, как и их задающие фактический контекст аналоги. В частности, появление в контрфактических предложениях глаголов движения влияет на скорость реакции при выполнении следующих за ними
тестов на двигательные операции, согласуясь с результатами описанных
�118
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
в третьей главе экспериментов, доказывающих близость нейронных
сетей, которые «вспыхивают» в коре головного мозга в ситуациях,
когда человек совершает некоторое действие и когда он слышит или
читает слово, это действие обозначающее.
Далее, в работе Ferguson, Sanford 2008 авторы фиксировали движение
зрачка участников эксперимента при чтении ими высказываний Если
кошки голодны, они обычно преследуют своих хозяев, пока не насытятся.
Хозяева могли бы накормить их порциями моркови, которые кошки с наслаждением уничтожили бы и Если бы кошки были вегетарианцами, их
хозяевам было бы намного дешевле содержать их. Хозяева могли бы накормить их порциями моркови, которые кошки с наслаждением уничтожили бы и выяснили, что при чтении слова морковь в обоих случаях возникает заметная задержка по сравнению с восприятием истинного
высказывания в реальном контексте (Если кошки голодны, они обычно
преследуют своих хозяев, пока не насытятся. Хозяева могли бы накормить
их порциями рыбы, которые кошки с наслаждением уничтожили бы) и что
время задержки почти одинаково. Другими словами, процесс восприятия ложного высказывания в реальном контексте и истинного высказывания в контрфактическом контексте на первом этапе вызывает
схожие сложности, и лишь позднее читателем восстанавливается
специфика организации контрфактического пространства.
Обобщая, можно сказать, описанная выше схема базовых этапов
формирования интегрального пространства (построение бленда, дополнение бленда, совершенствование бленда) не работает, по крайней
мере, в двух моментах. Во-первых, при создании бленда контекстуальные связи входящих в бленд элементов удерживаются в сознании с
первого момента организации интегрального пространства, а не достраиваются позднее, т. е. стадии «построение бленда» и «завершение
бленда» не разделяются во времени. Во-вторых, даже после построения
бленда входящие в него элементы не воспринимаются как объекты в
контрфактическом пространстве Н, созданные вместе с задающим это
пространство оператором «если бы», а помещаются сначала в одно из
исходных пространств, переживаясь как объекты этого пространства
со всем спектром перцептивных реакций, и лишь позднее перемещаются в пространство Н.
Подведем итоги. Теория концептуальной интеграции содержит
целый ряд интересных наблюдений и продуктивных идей, включающих
процесс порождения и понимания языка в широкий спектр когнитивных процессов. Однако создается впечатление, что ее авторы склонны
к чрезмерным обобщениям и неточно описывают познавательные цели
выявленной ими процедуры. Взгляд на построение интегральных пространств как на важное средство адаптации знания к мировосприятию
обычного человека, преобразования его в удобный для такого челове-
Глава 5. Tеория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера
119
ка формат дает более адекватное представление об этой операции, чем
представление о ней как главном способе порождения нового знания.
Развитие теории в данном направлении могло бы оказаться полезным
и для уточнения идей Фоконье и Тернера о роли блендов в понимании
метафор или грамматических конструкций.
Еще одной слабой стороной теории является отсутствие в ее аргументации культурно-исторического анализа и обращения к данным
психолингвистических экспериментов. Важным мотивом в методологии науки последних лет стало противопоставление as-if теорий, предлагающих формальное описание процессов, исходящее из абстрактных,
не связанных с фактической ситуацией, принципов, и эвристических
теорий, избегающих формальных моделей, опирающихся на ход процессов в режиме реального времени (напр., Gigerenzer, Todd 1999;
Hertwig, Hoffrage 2012). Фоконье и Тернер позиционируют теорию
концептуальной интеграции как эвристическую, однако по своей
структуре, по системе аргументации она в значительной степени остается as-if теорией. Преодоление указанного противоречия могло бы,
как кажется, придать ей новый импульс к развитию и заметно усилить
ее эвристический потенциал.
Примечания
Содержание данной главы в значительной степени воспроизводит работу: Глебкин
2013.
2
Теории концептуальной интеграции и лежащей в ее основе теории ментальных пространств (mental spaces) посвящаются главы в учебниках по когнитивной лингвистике
(напр., Evans, Green 2006; Ungerer, Schmid 2006; Geeraerts, Cuyckens 2007), тематические
номера в ведущих лингвистических журналах (см., напр., объединенный № 3/4 (2000)
журнала “Cognitive linguistics”, № 10 (2005) “Journal of pragmatics” и № 1 (2006) журнала
“Language and Literature”), секции на лингвистических симпозиумах. Став уже классикой когнитивной лингвистики, теория концептуальной интеграции сохраняет, по мнению многих исследователей, свой эвристический потенциал нерастраченным вплоть до
настоящего времени.
3
Авторы характеризуют conceptual blending как “a great mental capacity that, in its most
advanced “double-scope” form, gave our ancestors superiority and, for better and for worse,
made us what we are today. We investigate the principles of conceptual blending, its fascinating
dynamics, and its crucial role in how we think and live” (Fauconnier, Turner 2002, p. V; см.
также р. 389–396).
4
В отечественной литературе существует ряд работ, в которых излагаются основные
идеи подхода Фоконье и Тернера, а также делается попытка использовать его в конкретных исследованиях (Скребцова 2000, с. 137–146; Скребцова 2002; Скребцова 2011,
с. 168–194; Киреева 2010; Ковальчук 2011; Ковальчук 2012), но работы, посвященные
подробному критическому анализу теории концептуальной интеграции, насколько мне
известно, отсутствуют.
5
Истоки этой установки, отчетливо прослеживающейся и в базовой для теории ментальных пространств книге Fauconnier 1985, наглядно выражены в статье Fauconnier
1978. Ср. Brandt 2005, p. 1580–1582.
6
На первый взгляд, позиция Фоконье здесь близка установке Ч. Филмора, противопоставляющего семантике истинности семантику понимания (Fillmore 1985, p. 230–252),
1
�120
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
однако, как мы увидим, используемая Фоконье аргументация оставляет его в рамках
аналитической философии.
7
При этом следует отметить, что попытки критиков Фоконье придать ментальных пространствам иной смысл, связав их с понятием дискурса (Brandt 2005, p. 1587-159; Oakley,
Coulson 2008), также оказывается произвольной интерпретацией, не опирающейся на
экспериментальную базу.
8
Подробный список литературы по теме можно найти по адресу: http://markturner.org/
blending.html.
9
Все приводимые ниже примеры можно найти в статье Fauconnier, Turner 1998, а также
в монографии Fauconnier, Turner 2002.
10
«Double-scope conceptual integration is characteristic of human beings but not other species
and is indispensable across art, religion, reasoning, science, and other singular mental feats that
are characteristic of human beings» (Fauconnier, Turner 200, p. 180).
11
Вероятно, речь идет о том, что в бленде события трансформируются в зрелищное и
переживаемое эмоционально повествование.
12
Здесь возможна аналогия с презентацией доклада на научной конференции. Презентация может быть интересной или скучной, понятной или непонятной для слушателя,
но качество презентации не связано непосредственно с качеством излагаемых идей. Ситуация, когда за яркой и завлекательной презентацией стоит банальная или внутренне
противоречивая идея, равно как и обратная ситуация, когда восприятие яркой и необычной идеи затрудняется из-за неудачной презентации, знакомы, вероятно, каждому
исследователю.
13
Это, видимо, и есть то, что авторы называют come up with a story.
14
Автор признателен проф. Д. Герартсу за эту информацию.
15
Иную интерпретацию метафоры digging one’s own grave, опирающуюся на призматическую теорию, см. в работе Geeraerts 2009.
16
О значимости и культурных основаниях операции мышления в комплексах для традициональных культур см.: Лурия 1974; Тульвисте 1988; Романов 2003, c. 68–181. Об
элементах мышления в комплексах в культурах первой древности см.: Глебкин 2000,
с. 92–94, Glebkin 2011.
17
См.: Фрумкина, Михеев 1985; Фрумкина 1991; Фрумкина 2001; Фрумкина 2007,
c. 63–85, 104–132.
Глава 6. Теория лексических концептов
и когнитивных моделей
и семантика фреймов
Данная глава посвящена краткому анализу двух семантических теорий,
начинающих движение в сторону культурно-исторического подхода,
но не делающих решающего шага и либо остающихся в рамках антропоцентричной парадигмы, из которой исходили Лакофф и Джонсон,
а также Фоконье и Тернер, либо оставляющих вопрос об этой парадигме неопределенным, допускающим различные интерпретации.
Мы начнем обсуждение с теории лексических концептов и когнитивных моделей (the Theory of Lexical Concepts and Cognitive Models; в
дальнейшем, LCCM теория), разработанной английским лингвистом
Вивианом Эвансом. В отличие от концепции когнитивной метафоры
и теории блендов LCCM теория не имеет длительной истории. Она
была изложена в монографии Evans 20091 и пока еще не обсуждалась
подробно в лингвистических кругах. В данной работе мы остановимся
на методологии Эванса и элементах инструментария, которые будут
полезны нам в дальнейшем.
Подобно Лакоффу и Джонсону, Эванс много места уделяет критике изоляционизма, сосредоточиваясь, однако, не на его когнитивных
основаниях, а на интерпретации им языковых данных. Ключевой проблемой для английского исследователя является проблема значения
(meaning). Значение, настаивает Эванс, – свойство не слов или даже
языка в целом, оно возникает на стыке языка, коммуникации и познания2.
Отталкиваясь от сформулированного взгляда на значение, Эванс
начинает монографию с анализа изоляционистской парадигмы, которую
он обозначает словом «буквализм» (literalism)3 и связывает с работами
Дж. Катца и П. Постала по генеративной семантике, а также теорией
концептуальной семантики Р. Джакендоффа и NSM-теорией А. Вежбицкой. Он высказывает сомнения в продуктивности разделения семантики и прагматики и выделения «объективных», не связанных с ситуационным контекстом, существующих «вне времени и пространства»
значений слова и предложения (Evans 2009, p. 5–8). Эванс иллюстриру-
�122
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
ет свои утверждения рядом предложений с глаголом open, имеющих как
буквальное (1–8), так и переносное (9–15) значение4. Поскольку соответствие между английскими оригиналами и русскими эквивалентами
в данном случае почти полное, я приведу их в русском переводе:
1. Джон открыл окно;
2. Джон открыл рот;
3. Джон открыл книгу;
4. Джон открыл портфель;
5. Джон открыл шторы;
6. Рабочий вскрыл стену (The carpenter opened the wall);
7. Хирург вскрыл (opened) рану;
8. Сапер сделал пробоину в плотине (The sapper opened the dam);
9. Джон открыл счет в банке.
10. Джон открыл собрание.
11. Джон начал (opened) диалог.
12. Немцы начали военные действия (opened hostilities) против
коалиции в 1940-м году.
13. The skies opened (Небеса разверзлись или небо прояснилось; в зависимости от контекста возможны оба варианта).
14. Он открыл для себя (open his mind to) новый способ мысли.
15. В итоге он открылся (opened up) ей.
(Evans 2009, p. 9–10)
Анализ приведенных примеров показывает, что даже в тех из них,
которые характеризуют буквальное значение глагола, крайне сложно
выделить общее ядро. Моторно-топологические схемы и целевое назначение описываемых действий, равно как и ситуационный контекст,
в который эти действия помещаются, имеют не так много общих черт.
Книгу, окно, портфель и шторы, в отличие от рта, открывают руками,
но и в этих случаях в процессе открывания задействованы различные
группы мышц с существенно различающимся распределением нагрузки. Далее, окно открывают, чаще находясь внутри некоторого замкнутого пространства, портфель (как и бутылку, банку, тумбочку) всегда
извне; открывая окно, мы «размыкаем» объемную структуру, шторы –
плоскую. В случае открывания бутылки наши размеры заметно больше
размеров открываемого объекта, при открывании окна или двери – сопоставимы или меньше. Окно открывают, чтобы проветрить в комнате, выбросить что-либо из него, выпустить случайно залетевшую бабочку; рот – чтобы сказать что-нибудь, съесть или выпить, дать зубному врачу осуществить необходимые манипуляции и т. д.
Дополнительно усложняют картину такие сочетания, как открыть кран,
например. В этом случае трансформации объекта скрыты от нас, и мы
узнаем о них по внешним признакам, также воспринимающимся как
часть смысловой структуры действия.
Глава 6. Теория лексических концептов и когнитивных моделей...
123
Еще более запутывают ситуацию переносные значения, возникающие как метафорическая реализация отдельных моделей, указанных
выше. Так, открыть кому-то душу строится по модели открыть дверь
(дать возможность заглянуть в скрытое от посторонних глаз помещение) – в терминологии Лакоффа–Джонсона здесь мы имеем дело с
метафорой контейнера, открыть выставку, собрание, конференцию – по
модели открыть кран и т. д. Объяснить, на каких основаниях все это
многообразие ситуаций, действий и мотивов описывается одним словом, и как можно говорить о значении этого слова вне конкретного
контекста, «буквалистская» лингвистика не в состоянии.
Аргументы, подобные приведенным, послужили важной «точкой
отталкивания» для LCCM теории. Значимой же «точкой притяжения»
и одновременно точкой опоры для нее стали когнитивные исследования в области grounded cognition и, в первую очередь, LASS теория
Барсалоу, на которую Эванс явно опирается. Наиболее интересная для
нас в методологическом плане идея Эванса состоит в разделении им
лингвистической и концептуальной систем, выраженном в следующих
дефинициях:
• Лингвистическая система (the linguistic system) состоит из символических единиц (symbolic units);
• Символические единицы составлены из фонологических форм и
лексических концептов;
• Концептуальную систему образуют когнитивные модели;
• Когнитивные модели образованы фреймами и порождают потенциально неограниченный набор имитаций (simulations)5;
• Лексическая репрезентация (lexical representation) является системой, состоящей из символических единиц и когнитивных
моделей, и представляет собой первичный субстрат, использующийся при конструировании значения средствами языка;
• Семантическая репрезентация (semantic representation) является
семантической подструктурой системы лексической репрезентации, отвечающей за взаимодействие когнитивных моделей и
лексических концептов;
• Семантическая структура (semantic structure) отсылает к содержанию, заключенному в лексических концептах, и представляет собой тип семантических единиц, несущих информацию, связанную с лингвистической системой;
• Концептуальная структура (conceptual structure) отсылает к содержанию, заключенному в когнитивных моделях, и представляет собой форму репрезентации, несущую информацию,
связанную с концептуальной системой (Evans 2009, p. 44)6.
В предложенной схеме наиболее интересно представление о биполярной структуре лексических концептов (т. е. слов в привычном нам
�124
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
понимании и соответствующих им наборов звуков (фонологических
форм)), в которых, с одной стороны, закодирована связанная с семантической структурой лингвистическая информация и которые, с другой
стороны, отсылают нас к связанному с концептуальной структурой
содержанию. Так, слово открывал, неся в себе строго определенную
лингвистическую информацию (время, вид, лицо, число), обращает
нас к содержанию, уже не обладающему жесткими границами, а постоянно изменяющемуся в соответствии с нашим опытом, из которого мы в конкретной ситуации выбираем нужный фрагмент. Все это
определяет для нас, вместе с указанной лингвистической информацией, значение данного слова. При таком подходе значение оказывается
свойством не слов и даже не языка самого по себе, а функцией пути,
в котором слова работают как связанные с конкретным моментом
времени, социокультурным и физическим контекстом коммуникативные посредники, обеспечивающие доступ к сложно организованному
массиву располагающегося за границами языка энциклопедического
знания (там же, с. 22, 26, 27).
Рассмотрим еще один пример с упомянутым выше глаголом открывал. Предположим, вы слышите предложение: Сережа открывал сайру
20 минут. Сначала вы «считываете» в слове открывал лингвистическую
информацию (глагол прошедшего времени несовершенного вида единственного числа – т. е. речь идет о протяженном действии, совершаемом
в прошлом единичным субъектом), к которой затем присоединяется
концептуальный, в терминологии Эванса, пласт, связанный уже с социокультурным опытом говорящего и слушающего. Так, слушающий
должен знать, что сайра – это рыба, что в данном случае речь идет не
об этой рыбе, а о консервах, которые открываются обычно консервным
ножом, что при соответствующем навыке на то, чтобы открыть одну
банку, уходит меньше минуты и т. д. Но даже эти знания не дают возможность однозначно интерпретировать приведенное предложение,
которое может означать, что Сережа имеет крайне малый опыт открывания консервов консервным ножом и поэтому делает это очень долго,
а может – то, что на даче у Сережи нет консервного ножа, и он вынужден был делать это топором или острым камнем. Замечу, что ментальные
имитации действия, описанного приведенным предложением, другими
словами, его значения, в первом и втором случае будут существенно
различаться, и что далеко не всегда необходимая информация может
быть получена из контекста разговора7; для этого требуется уже весьма
специфическое знание, связанное с Сережей, его дачей и т. д.
Примеры, иллюстрирующие зависимость порождаемых слушателем ментальных имитаций от фонового знания, были приведены в
третьей и четвертой главах (эксперименты Л. Барсалоу, Л. Бородицкой
и др.). Здесь мне хотелось бы дополнить их и проиллюстрировать
Глава 6. Теория лексических концептов и когнитивных моделей...
125
теоретические соображения Эванса фрагментом экспериментального исследования, осуществленного мной в 2009 г. (Glebkin 2009).
Исследование проводилось летом в селе Ферапонтово Вологодской
обл., осенью и зимой в Москве и зимой в Тулузе. Основная задача
исследования состояла в установлении корреляции между интерпретацией участниками значения отдельного предложения и разнообразными фоновыми факторами. В начале исследования участники получали следующую инструкцию: Опишите как можно более подробно
картину, которая возникает в вашем сознании, когда Вы слышите или
видите перед собой предложение «Человек идет по дороге». Опишите,
какого возраста и пола человек, как он одет, как выглядит; как выглядит дорога, по которой он идет (шоссе, тропинка в лесу, проселочная
дорога и т. д.); какой пейзаж вокруг (поле, лес, деревня, город); какая
погода (солнечно, дождь, снег); какое время года (весна, лето, зима,
осень); какое время суток (утро, день, вечер, ночь). Просьба описывать
первую картину, которая возникает в Вашем сознании. Если какие-то
из указанных деталей не различимы на картине или не важны для нее,
их указывать не надо.
После этого участники письменно выполняли предложенное им
задание. Время выполнения не ограничивалось, но фактически на это
уходило от трех до десяти минут. Всего было опрошено 168 русских
(25 – в возрасте 7–8 лет8, 133 – 15–17 лет, 28 – 18 лет и старше) и 42
французских участника (18–29 лет, все – студенты университета в
Тулузе9).
Приведу несколько описаний для иллюстрации: а) Узкая тропинка
в лесу. Дождливая погода. Осень, медленно падают листья. Человек идет
в одиночестве. Это девушка, у нее в руках книга, и на ней надета темная
юбка по колено. Взгляд ее опущен, у нее достаточно длинные волосы. Девушка очень задумчива, даже печальна. Она что-то вспоминает; б) Дикая
проселочная дорога с ухабами, лужами, изредка попадаются камни, вокруг, насколько хватает глаз, зеленые луга, на горизонте – горы. Мужчина лет 20-ти с черными короткими волосами идет босиком в подвернутых грязно-бежевых джинсах. Видно со спины на очень большом расстоянии; в) Шоссе. По сторонам золотые поля и зеленые деревья. Позднее
утро. Светит солнце и дует легкий ветер. Облачно. Мужчина 25–30 лет
идет по середине дороги. Впереди на холме возвышается современный,
полный движения город.
Результаты исследования показали, что структура «денотата» данного предложения не гомогенна. Существуют лучшие образцы для человека (молодой или средних лет мужчина для русских участников (57%)
и молодой или средних лет мужчина (40%) или молодая женщина (21%)
для французских), для дороги (проселочная дорога среди полей (39%)
для русских участников и дорога среди полей (36%) и тропинка в лесу
�126
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
(24%) для французских участников), времени года (лето (включая конец
весны и начало осени) (51%) для русских участников и весна (31%) и
осень (31%) для французских) и времени дня (день, где-то с 12 до 18-ти)
(48% для русских и французских участников).
Часть результатов вполне объясняется тем, что Эванс называет
лингвистической информацией, и может служить иллюстрацией того,
как эта информация влияет на концептуальное содержание. Так, если
обратиться к русскому языку, то слово человек мужского рода и, как
мы видим, большинство респондентов описывает мужчину, а не женщину. Далее, хотя в русском языке нет артиклей, человек в данном
предложении предполагает неопределенный артикль (какой-то человек). И в описаниях большинство участников не останавливается на
внешности человека, а некоторые отмечают, что видят его со спины.
Русский язык имеет вполне частотные слова для асфальтовой дороги
(шоссе), для дороги в городе или деревне (улица), для дороги в лесу
(тропинка) и значительно менее частотное слово для проселочной дороги (проселок), поэтому именно она чаще всего связывается в описаниях с дорогой без дополнительных характеристик.
Нас, однако, будут интересовать не общие черты, а вариативность
результатов в зависимости от контекста. Для того, чтобы показать ее,
остановимся на одной из выборок, в которой сопоставляются данные
опросов в Ферапонтово и в Москве.
Выборка 1: 32 человека 15–17 лет, июнь 2008 г., Ферапонтово, Вологодская обл. (1 группа) и 44 человека 15–17 лет, декабрь 2008 г., Москва
(2 группа)
Таблица 1. Возраст и пол человека в описаниях
Человек
1 группа (%)
2 группа (%)
Мужчина
Женщина
Не указан
До 10 лет
10-19 лет
20-29 лет
30-59 лет
60 и старше
Не указан
Всего
До 10 лет
10-19 лет
20-29 лет
30-59 лет
60 и старше
Не указан
Всего
0
3,1
6,2
50
0
6,2
65,5
0
3,1
6,2
0
0
0
9,3
25,6
2,3
2,3
2,3
52,4
2,3
8,8
70,4
2,3
4,5
0
2,3
2,3
0
11,4
18,2
127
Глава 6. Теория лексических концептов и когнитивных моделей...
Таблица 2. Дорога и пейзаж вокруг
Дорога и пейзаж вокруг
Шоссе
Улица в городе
Проселочная дорога
Тропинка в лесу
Другое
Не указано
Группа 1 (%)
18,8
9,4
43,8
12,5
9,4
6,3
Группа 2 (%)
11,4
25
22,8
22,8
9
9
Мы можем видеть, что те параметры, на которые интуитивно не
должно повлиять изменение времени и места эксперимента (пол и
возраст человека), остаются неизменными для обеих групп (см. табл. 1),
а перцептивно связанные с временем и местом эксперимента параметры изменяются (см. табл. 2). В группе 1 проселочная дорога заметно
превосходит по частоте другие варианты, в группе 2 картина гораздо
более однородна (улица в городе, проселочная дорога и тропинка в
лесу встречаются в описаниях с почти одинаковой частотой). Видимо,
подобный результат связан с доминированием проселочных дорог в
месте обитания участников группы 1 (село Ферапонтово), создающим
локальный эффект, отсутствующий в Москве. Влияние контекста заметно и при анализе избираемого в описаниях времени года. Как уже
отмечалось, для русских участников эксперимента доминирует лето и
почти не упоминается зима. Однако если в группе 1 (задание выполнялось летом) зиму не указал никто, то в группе 2 (задание выполнялось
зимой) зима в описаниях появилась уже в 11% случаев10.
Приведенный пример показывает, что ментальные репрезентации
ситуации (т. е. связываемые с предложением значения) оказываются
существенно зависящими даже не от социокультурного багажа участников (он не отличался для участников в Ферапонтово и в Москве), а
от случайных, на первый взгляд, фоновых факторов, задающих широкую контекстную рамку для ее интерпретации.
Возвращаясь к модели Эванса, хотелось бы обратить внимание на
еще несколько важных идей, связанных с категорией лексического
концепта. Одна из них выражена термином лексический потенциал
(lexical potential) (Эванс 2009, с. 206–208). Как уже отмечалось, лексические концепты обеспечивают доступ к потенциально неограниченному объему концептуальной информации, однако их концептуальная
продуктивность, их способность «высвечивать» различное концептуальное содержание разная. Так, глагол открыть более продуктивен,
чем глагол опростоволоситься, прилагательное красный продуктивнее
прилагательных алый или багровый. Эта продуктивность и выражается
в понятии лексического потенциала. Разумеется, пока не предложено
конкретных количественных схем его измерения, этот термин будет
�128
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
носить качественный характер, но он полезен методологически для
выражения специфики взаимодействия лингвистической и концептуальной систем.
В отличие от лексического потенциала, характеризующего способность лексического концепта обеспечивать доступ к возможному
концептуальному содержанию, актуальное концептуальное содержание, набор когнитивных моделей, связанных с конкретным концептом,
выражается его когнитивным профилем (cognitive model profile). Здесь
для Эванса важно разделение когнитивных моделей на первичные и
вторичные, т. е. такие, с которыми данный концепт связан непосредственно, и такие, связь с которыми опосредована первичными моделями. В частности, когнитивные модели ограниченный фрагмент земной
поверхности с находящимися на нем реками, озерами, лесами и т. д. и
национальное государство являются для лексического концепта Франция
моделями первого уровня, а французская футбольная сборная (например,
в предложении Франция проиграла Италии в финале чемпионата мира)
или французский электорат (например, в предложении Франция проголосовала против конституции Евросоюза на референдуме 2005 г.) –
моделями второго уровня (Evans 2009, p. 76, 207–209). Предложенный
подход предлагает, в частности, новый взгляд на прямые и переносные
значения выражений. Переносные значения оказываются в такой
конфигурации частным случаем вторичных когнитивных моделей,
доступ к которым обеспечивается через модели, принадлежащие первичному когнитивному профилю (Evans 2009, p. 300–301).
Пожалуй, описанными элементами исчерпываются важные для
данной работы составляющие модели Эванса. Отсылая читателя, который хочет познакомиться с LCCM теорией подробно, к монографии
английского исследователя, хотелось бы отметить, что в модели Эванса никак не прописаны критерии определения того, к какому из профилей относится та или иная когнитивная модель, какие факторы
влияют на это и по каким законам когнитивные модели могут эволюционировать. Как и теория концептуальной метафоры, LCCM теория
исходит из статичной модели языка и статичной модели человека, не
используя социокультурный анализ и не предполагая возможную эволюцию предложенной концептуальной схемы.
Еще одна теория, на которой мне хотелось бы кратко остановиться – семантика фреймов Ч. Филлмора. Понятие фрейма, в значительной степени благодаря работам Филлмора, весьма популярно в современной лингвистике и включено в различные теоретические каркасы.
Не имея возможности проводить здесь подробный анализ всего спектра, мы обратимся непосредственно к базовым статьям американского исследователя (Fillmore 1976; Fillmore 1977; Филлмор 1983; Fillmore
1985 (русский пер.: Филлмор 1988); Fillmore, Atkins 1994) и эксплици-
Глава 6. Теория лексических концептов и когнитивных моделей...
129
рованной в них методологии. Основная идея Филлмора до определенной степени соотносится с описанными в третьей главе экспериментами Барсалоу и взглядами Эванса и Джонсона на проблему значения,
однако располагается в поле не психолингвистики, а традиционной
семантики. Филлмор говорит о зависимости значения слова от системы связей, в которую оно погружено, от ситуационного контекста,
сначала маркируемого им как «сцена» (Филлмор 1983, с. 81–88), а затем как фрейм (Fillmore 1985, p. 223–224). Так, греческие слова βροτ
и ηθροπο означают человека, только в первом случае – по отношению к богам, во втором – к животным. Из предложения I spent two hours
on land this afternoon, написанного путешественником, которые провел
до этого некоторое время в Сан-Франциско, можно сделать вывод, что
его автор находится сейчас в море, т. к. land предполагает sea в качестве
оппозиции, тогда как из предложения I spent two hours on the ground this
afternoon вытекает, что сейчас его автор находится в самолете, т. к.
оппозицией к ground является air (Fillmore 1976, p. 25–28). Другими
словами, фрейм задает окружение, рамку, вне которой невозможно
адекватное понимание слова или предложения; вне фрейма вопрос о
значении теряет смысл. Обобщая сделанные наблюдения, Филлмор
говорит о с е м а н т и к е п о н и м а н и я (U-semantics) в противоположность с е м а н т и к е и с т и н н о с т и (T-semantics), которая не в
состоянии отразить реальное содержание предложения (Fillmore 1985,
p. 230–252). Практическим воплощением описанного подхода является предложенная Филлмором модель организации материала в толковом словаре, в которой место интуитивно определяемых значений
конкретного слова занимает описание базовых ситуаций, связанных с
данным словом, базовых фреймов, в которые оно включается. На примере анализа слова risk Филлмор убедительно демонстрирует преимущества предложенного им описания по сравнению с традиционной
словарной статьей (Fillmore, Atkins 1994).
Ключевым теоретическим вопросом в этой конструкции становится вопрос об онтологическом статусе фреймов. Филлмор дает на него
весьма размытый ответ (Fillmore 1985, p. 229), при этом его трактовка
допускает две возможные интерпретации. Первая предполагает, что
фреймы являются металингвистическими идеальными образованиями,
образуя особый метаязык, который не связан непосредственно с его
социокультурным опытом его носителя. Вторая исходит из того, что
фреймы представляют собой связанные с социокультурными процессами блоки концептуальной информации, воспринимаемые человеком
как социокультурным существом. Первая интерпретация отсылает нас
к теориям, проанализированным в предыдущих главах, вторая предполагает социокультурный анализ, к которому мы обратимся в следующей части книги.
�130
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
Примечания
Отдельные блоки теории были описаны ранее в работах: Evans 2003, Evans 2006.
2
Близкий взгляд на значение исповедует М. Джонсон, делая при этом особый акцент
на укорененности значения в телесном опыте индивида. Значение для него – результат
взаимодействия человека и окружающего мира на нескольких уровнях, представляющий собой континуум, а не дискретную величину (Johnson 2007, p. 10–14).
3
Эта позиция вполне соответствует «объективизму» в терминологии Лакоффа–
Джонсона.
4
Идея примера заимствована из работы: Searle 1983, p. 147–148.
5
Здесь Эванс опирается на понятие имитатора (simulator), предложенное Барсалоу.
6
Эванс подчеркивает, что концептуальная система не связана непосредственно с ее
лингвистическим выражением, она имеет гораздо более древнюю историю, чем язык,
который, со своей стороны, дополняет и развивает ее, но не дублирует. Аргументируя
предложенное различие, он ссылается на данные психолингвистических экспериментов, которые показывают, что лингвистическая информация воспринимается быстрее
концептуальной (Evans 2007, p. 175–176; 188–189; ср.: Pulvermüller 2008, p. 107–108). В
целом, как мы можем видеть, предложенная им схема опирается на разделение лингвистической и концептуальной систем в LASS теории Л. Барсалоу.
7
Представьте себе, например, такой диалог: – Что-то мы сегодня никак не пообедаем. –
Витя ходил в магазин, пришел полчаса назад. Сережа открывал сайру 20 минут. А ты, чем
ворчать, помог бы лучше.
8
Дети 7–8 лет не описывали картинку словами, а рисовали ее, давая потом необходимые комментарии.
9
Французские участники описывали предложение Une personne va le long du chemin. Автор признателен Р. Хусяиновой за помощь в исследовании.
10
Интересно отметить, что для группы детей 7–8 лет, опрашиваемых в Москве в сентябре 2008 г., а) идущий человек заметно моложе, чем для группы взрослых; б) отношение
мужчина – женщина в ней стремится к 1; в) улица в городе становится доминирующим
образом дороги в этой группе. Интересно также, что одним из наиболее частых образов
улицы оказывается пешеходный переход (т. е. на картинке изображается человек, идущий по переходу). Это может объясняться следующими причинами: а) дети 7–8 лет еще
не ощущают в полной мере язык как социокультурный феномен, и они не чувствуют
языковых ограничений, которые ощущают взрослые; б) их сознание эгоцентрично и в
идущем человеке они видят себя, своих друзей или своих родителей (участники говорили об этом в своих комментариях по поводу нарисованного: Это я или Это мой папа на
работу идет); в) поколение детей, родившихся в начале XXI века – поколение урбанистов, для которого сельские пейзажи являются малознакомой экзотикой.
1
Часть III. Культурно-исторический
подход в когнитивной семантике
�В
отличие от парадигм, проанализированных в предыдущих разделах книги, социокультурная парадигма еще не стала основанием для фундаментальных теорий, начинающих с общих
постулатов и заканчивающих образцами семантического описания, т. е., по крайней мере, претендующими на то, чтобы
охватить в пределе весь лексический массив языка. Тем не менее, уже
появился ряд исследований, рисующих возможные контуры такой
теории, предлагающих образцы социокультурных исследований на
разнообразном эмпирическом материале. Это упомянутые во введении
работы Д. Герартса и коллег по когнитивной семантике и, в первую
очередь, его теория прототипов (Geeraerts et al. 1994; Geeraerts 1997;
Geeraerts 2006; Geeraerts et al. 2010), некоторые исследования А. Вежбицкой (Вежбицкая 2001, с. 44–125, Wierzbicka 2006, р. 141–170,
Wierzbicka 2010, р. 6–22), где осуществляемый ей социокультурный
анализ исходит, как уже отмечалось, из установок, весьма далеких от
постулируемой ей NSM-теории и др. Интересные работы в данном
направлении выполнены в рамках новомосковской школы концептуального анализа (Зализняк и др. 2005; Зализняк и др. 2012), в серии
исследований, обращающихся к анализу культурных концептов (Арутюнова 1993; Степанов 2001; Подзолкова 2005 и др.), а также на стыке
языкознания и смежных с ним областей: истории философии, социальной истории, истории культуры (напр.: Бородай 1984; Живов 1996;
Яковлева 1998; Приходько 1999; Koselleck 2002; Koselleck 2004; Ткаченко 2008).
В целом ряде отмеченных выше исследований используются категории, претендующие на роль важного для социокультурной парадигмы методологического инструмента: концепт, концептосфера, русская
(немецкая, французская и т. д.) языковая картина мира. Критическому
анализу этих категорий, выявляющему возможность использования их
в данной роли, посвящена седьмая глава. Последующие главы представляют собой собственные исследования по когнитивной семантике
автора данной монографии, выполненные в рамках культурноисторического подхода. Такой подход можно назвать одним из вари-
�134
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
антов социокультурной парадигмы, акцент в котором сделан на исторической эволюции понятий. Основное место в третьей части книги
занимает с о ц и о к у л ь т у р н а я т е о р и я л е к с и ч е с к и х к о м п л е к с о в , общие контуры которой описаны в одиннадцатой главе
и проиллюстрированы в двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой
главах на примере комлексов открыть, камень и интеллигенция. Восьмая, девятая и десятая главы вводят необходимый для понимания теории инструментарий, но имеют при этом и самостоятельную ценность,
демонстрируя образцы конкретных исследований в заданных методологических границах.
Глава 7. Концепт, концептосфера,
языковая картина мира:
критический анализ терминов
Полемика вокруг категории «концепт», ведущаяся в отечественной
гуманитарной науке на протяжении последних трех десятилетий, своим охватом, напряжением и безнадежностью вызывает ассоциации с
имевшими место столетием раньше спорами о русской интеллигенции.
Проведенная аналогия при более внимательном рассмотрении оказывается не столь искусственной, как это может показаться на первый
взгляд. Слова концепт и интеллигенция заимствованы из латыни, входят в русский язык через европейские языки и изначально имеют узкую
область применения в ряде специальных текстов. В обоих случаях за
короткий промежуток времени резко возрастает частотность употребления этих слов и расширяются контексты их употребления. В обоих
случаях слова обладают недостаточно определенной семантической
структурой, причем подобная неопределенность способствует появлению новых интерпретаций, в свою очередь, еще более осложняющих
и размывающих эту структуру. В обоих случаях мы можем говорить в
итоге о специфически русских языковых процессах, не имеющих прямых аналогов на Западе1.
Интересен и важен вопрос о глубинных причинах отмеченного
сходства. Не вызывает сомнений, что такая стремительная семантическая история обусловлена спецификой социокультурной ситуации,
насущными социокультурными запросами, которым происходящие
семантические сдвиги должны были удовлетворить. В случае интеллигенции это резкая трансформация социокультурного пространства,
связанная с появлением разночинцев. Если в XVIII и первой половине XIX в. системообразующей для русской культуры была оппозиция
«дворяне» – «народ», и класс, осуществляющий политическое доминирование, формировал также культурное поле, то с 60-х гг. XIX в.
ситуация изменилась. Между политическим и культурным полюсами
возник определенный зазор; на культурном поле появились новые
�136
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
важные игроки. Эту ситуацию и отразило слово интеллигенция, в семантической структуре которого социальная оппозиция «интеллигенция» – «народ» была осложнена аксиологической оппозицией «интеллигенция» – «мещанство», что привело к интенсивной и не прекращающейся до сих пор полемике о соотношении социального и
аксиологического факторов в представлениях о культурной элите2.
Слово концепт отвечало на иной, но также весомый запрос, сформировавшийся в отечественном гуманитарном научном сообществе с
распадом Советского Союза и кризисом советской идеологии. В этот
период также произошло резкое расширение культурного поля, но не
за счет появления в нем новых социальных групп, а за счет уничтожения структурирующего это поле жесткого мировоззренческого каркаса. Стремление преодолеть навязанное гуманитариям материалистическое мировоззрение коррелирует в этот период с обращением к
традиционным для XIX – начала ХХ вв. вопросам о месте России в
мировой истории, о соотношении России и Запада, о специфике русской культуры. При этом ведущаяся полемика сохраняет свойственную
отечественной гуманитарной науке установку на эссеистичность и
одновременно характеризуется тяготением к универсализму, при котором кропотливая и монотонная работа, подчиненная четко определенным рациональным алгоритмам, заменяется далекими от формальной строгости рассуждениями, несущими в себе идеологический
смысл.
Слово концепт, как оказалось, хорошо удовлетворяло этим бессознательно формулируемым запросам, что и обеспечило ему плодотворное использование в гуманитарной науке трех последних десятилетий,
в первую очередь, в лингвистике и культурологии. Во-первых, оно выступило знаком «дематериализации» мировоззрения. У отечественных
авторов, вводивших его в научный лексикон, оно отчетливо связывалось со средневековой философской традицией. Об этом прямо говорит один из главных теоретиков концепта Ю.С. Степанов (Степанов
2001, с. 47–48); эту связь подчеркивает Д.С. Лихачев, обращаясь в
своей интерпретации концепта к работе философа-«идеалиста»
С.А. Аскольдова (Лихачев 1997, с. 280–281); она заметна и при обсуждении онтологической сущности денотата в целом. Во-вторых, понятие
«концепт» и производный от него термин «концептосфера» дают возможность обратиться к особенностям национальной культуры, национального менталитета, отраженным в языке, формируя теоретический
фундамент для ставшей вновь актуальной в политическом и культурном
пространстве оппозиции «Россия» – «Запад». В-третьих, размытость
границ и неопределенность структуры понятия превращают его в универсальный инструмент для исследования, выводящий за рамки дисциплинарных ограничений и дающий возможность избежать формаль-
Глава 7. Концепт, концептосфера, языковая картина мира
137
ной строгости при сохранении, по крайней мере, претензии на научную
объективность.
Цель проводимого анализа состоит, однако, не в том, чтобы продолжить теоретические дискуссии о сути понятия и предложить еще одно
определение концепта, но в том, чтобы посмотреть, как это понятие используется в непосредственной работе. В действительности, как мы увидим, между определением концепта и его непосредственным использованием существует заметный зазор, и нас будет интересовать, что исследователи считают очевидным при использовании слова концепт в работе
с конкретным материалом, на какие представления о языке и принципы
его взаимодействия с культурой они «по умолчанию» опираются.
В каталоге диссертаций Российской государственной библиотеки
содержатся данные о 391 диссертации, где слово концепт присутствует в заглавии3. Типологический анализ выборки из этого массива, дополненный анализом ряда других работ, и будет основанием для выводов данной главы. Однако начнем мы с краткого резюме различных
взглядов на концепт в отечественной литературе по лингвистике и
культурологии.
7.1. Модели концепта в отечественных исследованиях
Прежде всего следует упомянуть работы, в которых описана семантическая история слова концепт в европейских и русском языках (напр.,
Демьянков 2001; Демьянков 2007). Сформулированная в них идея
концепта как зародыша, зерна мысли (conceptus как причастие от латинского conciptio в значении «зачинать, образовывать, замышлять»)
может быть дополнена обращением к схоластической философии, в
первую очередь, томизма. В.З. Демьянков упоминает в данном контексте о Дунсе Скоте, однако гораздо более развернутая модель, опирающаяся на термин conceptio, изложена в трудах Фомы Аквинского
(подробный анализ см., напр., в работе Peifer 1952). Фома говорит о
conceptio или verbum mentis в двух смыслах: формальном (само внутреннее слово, произносимое интеллектом) и объективном (значение
этого слова), причем в акте познания оба аспекта conceptio соединяются. У людей путь к концептам, соотносящимся с природными объектами, осуществляется путем сложного, происходящего несколько
стадий процесса обработки информации, поступающей из органов
чувств, однако ангелы мыслят и передают мысли друг другу непосредственно с помощью conceptio или verbum mentis. Кажется, что позиция
Фомы хорошо иллюстрирует базовые основания, определяющие возможные интерпретации термина концепт: ментальные образы, возникающие в сознании человека, и соответствующие им идеальные
сущности. Так, часто выделяются лингвокогнитивный и лингвокультурный подходы к пониманию концепта (Карасик 2002, с. 137–141;
�138
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Кузнецова 2005, с. 21–22; Подзолкова 2005, с. 14–21; Прохоров 2006,
с. 180–182). С точки зрения лингвокогнитивного подхода концепты
представляют собой ментальные структуры в сознании человека. В
частности, Е.С. Кубрякова определяет концепты как «отдельные разнообразные смыслы, характеризующие наше сознание и нашу память,
притом смыслы, интегрированные в одну систему наряду с другими
идеальными сущностями и ментальными образованиями» (Кубрякова
2002, с. 8). В рамках лингвокультурного подхода акцент в определении
концепта делается на внешних идеальных структурах (средах), которые
концепты репрезентируют в сознании человека. «Концепт – это как
бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура
входит в ментальный мир человека. (…) Концепт – основная ячейка
культуры в ментальном мире человека» – пишет Ю.С. Степанов (Степанов 2001, с. 43). При этом отмечается, что оба подхода не противоречат
друг другу, выделяя разные направления движения в процессе познавательного акта (от человека к культуре и от культуры к человеку). Как
мы видим, методологически описанная схема вполне укладывается в
модель, разработанную Аквинатом.
В выделенных рамках важным оказывается корректное проведение
различия между концептом и понятием, а также между концептом и
значением (смыслом) слова. Отмечая, что концепт и понятие происходят из различных дисциплинарных полей, изначально имея близкое
(если не совпадающее) содержание, исследователи затем пытаются
разделять их. Так, Ю.С. Степанов, опираясь на работы в области математической логики, говорит о концепте как термине, синонимичном
термину смысл понятия (Степанов 2001, с. 44); Е.С. Кубрякова трактует понятие как частный случай концепта (Кубрякова 2002, с. 8) 4.
В.З. Демьянков утверждает, что «понятия конструируются, а концепты
существуют сами по себе, и портретировать из – значит, только более
или менее приблизительно реконструировать» (Демьянков 2007, с. 617).
Нельзя сказать, что данные формулировки дают твердую почву для
работы с концептом как с научным термином, но одну скрытую интуицию они, по-видимому, проясняют: концепт воспринимается в
данном контексте не как инструмент для описания реальности, а как
объективно существующий элемент реальности, допускающий более
или менее корректную реконструкцию. Этот аспект важен для понимания специфики конкретных исследований, выполненных в обозначенных границах.
Спектр определений, предлагаемых в рамках заданной системы
координат, оказывается весьма широким, и во многих случаях не
вполне понятно как предложенное определение может быть использовано при анализе конкретных текстов. В качестве примера приведем
следующее определение: «Концепт – сложившаяся совокупность
Глава 7. Концепт, концептосфера, языковая картина мира
139
правил и оценок организации элементов хаоса картины бытия, детерминированная особенностями деятельности представителей данного лингвокультурного сообщества, закрепленная в их национальной
картине мира и транслируемая средствами языка в их общении» (Прохоров 2006, с. 303). Конкретные алгоритмы выявления «сложившейся совокупности правил и оценок организации элементов хаоса
картины бытия», по меньшей мере, неочевидны; непонятно, какие
аналитические процедуры нужно использовать, чтобы понять, те ли
«правила и оценки» выявлены. Однако обычно понимание подобных
определений оказывается излишним по следующей причине: автор
исследования благополучно оставляет предложенную им дефиницию
в теоретической части и не возвращается к ней в непосредственной
работе, где он опирается уже на иные, воспринимаемые им как очевидные, принципы. Эти принципы становятся, в конечном счете,
определяющими и в тех сравнительно немногочисленных случаях,
когда автор пытается соотносить данное им в теоретической части
определение с конкретным материалом. К анализу указанных принципов мы и переходим.
7.2. Термин концепт в конкретных исследованиях
Обратимся к упомянутой выше выборке из массива диссертаций РГБ5.
Анализируя методологию исследователей, вынесших термин концепт
в заглавие своих диссертационных работ, можно выделить следующие
содержательные группы, связанные с особенностями употребления
термина:
А) Автор вообще не использует термин концепт в тексте работы; он
присутствует лишь в заглавии. Такова, например, диссертация
И.К. Мироненко-Макаровой «Концепт святости в культурной традиции России и Франции XIX столетия» (Мироненко-Макарова 2009).
Слово концепт в диссертации не употребляется, а предметом исследования становятся «сами общественные представления, споры и дискуссии о нетипичной святости, бытовавшие в русском и французском
социальном контекстах» (там же, с. 9).
Б) Исследователь в теоретической главе дает обзор основных подходов к описанию концепта, но затем в тексте исследования никак не
опирается на проведенный анализ, используя в непосредственной
работе ряд кажущихся интуитивно очевидными процедур.
Так, в кандидатской диссертации Л.Э. Кузнецовой «Любовь как
лингвокультуральный эмоциональный концепт: ассоциативный и
гендерный аспекты» (Кузнецова 2005) материалом для описания концепта «любовь» служат как высказывания о любви Платона, Августина,
Паскаля, Бердяева и др., так и русские и английские пословицы и поговорки. При этом критерий отбора паремий явно не обозначен: в поле
�140
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
анализа попадают такие паремии как «Хоть ряба, да мила», «Старый
друг лучше новых двух», и вместе с этим «Любовь все побеждает», «Где
любовь, тут и Бог».
Другими словами, критерием того, какие тексты релевантны для
анализа концепта, является не подкрепленная аналитическими процедурами интуиция автора, исходящая из неявного постулата «подходит все, что может быть как-то отнесено к любви»6. То, что «любовь
к Богу», «любовь к сыну», «любовь к девушке» отсылают к существенно различным концептуальным кластерам, и правомерность работы
с ними как составляющими одного концепта требует, по меньшей
мере, тщательного обоснования, не осознается автором диссертации
как проблема. Также «по умолчанию» очевидным считается тезис о
совпадении концептов, соответствующих латинскому amor, английскому love и русскому любовь (иначе эти слова нельзя использовать
без всяких оговорок как равноправных носителей концептуального
содержания в главе, посвященной анализу философских текстов).
Еще один принимаемый по умолчанию постулат – равная значимость
философских представлений о любви (выраженных, например, в
текстах Бердяева) и образа любви в русских паремиях для анализа
концепта любви (по крайней мере, никаких оговорок на этот счет в
тексте не делается).
В своей кандидатской диссертации «Концепт дерева в лексикофразеологической семантике русского языка (на материале мифологии,
фольклора и поэзии)» (Красс 2000) Н.А. Красс начинает анализ с описания мифологических представлений славян о различных деревьях
(береза, яблоня, дуб, вишня и т. д.), излагая их как ряд «общих мест»,
не предполагающих критики и ссылок на источник. Затем предметом
анализа становятся фольклорные тексты. Здесь позиция автора также
сводится к утверждениям общего характера, иллюстрируемым небольшим числом конкретных примеров. Например, «среди дикорастущих
хвойных деревьев, представленных в фольклоре, встречаются ель и
сосна. В народных песнях они чаще выступают как символы печали.
Ель сопоставляется с томлением изнывающего от любви молодца»
(Красс 2000, с. 86). Какие аналитические процедуры дают основания
для подобных утверждений, остается за кадром исследования. Далее
предметом интереса Н.А. Красс становятся фразеологизмы, без какихлибо оговорок собранные из различных концептуальных кластеров:
«яблоко раздора», «адамово яблоко», «яблоко Ньютона», «околачивать
груши» (например, «Люби жену, как душу, тряси ее, как грушу») (там
же, с. 96–97).
В итоге мы находим в тексте диссертации целый ряд принимаемых
«по умолчанию» неочевидных утверждений, часть из которых совпадает с базовыми постулатами Л.А. Кузнецовой, но некоторые выражают
Глава 7. Концепт, концептосфера, языковая картина мира
141
и оригинальные установки автора. Таким является, например, тезис о
том, что концепт дерева представляет собой простое объединение концептов отдельных видов деревьев, и поэтому его описание может быть
сведено к описанию концептов березы, осины, сосны, ели и т. д.
Кандидатская диссертация М.Л. Петровой «Концепт «свой/чужой»
в журналистике и литературе России и Франции на рубеже XX–XXI вв.»
(Петрова 2006) задает иную модель в рамках диссертаций данного типа.
Исследовательница определяет концепт «чужой» как «народ, обычаи
которого не поддаются объяснению с точки зрения «своей» культуры»
(там же, с. 31). Очевидно, что такое определение, даже после необходимого уточнения, имеет существенные расхождения с семантической
структурой слова чужой в русском языке (в частности, такие выражения, как Мы стали чужими друг другу или Легко быть добрым за чужой
счет предложенным определением не охватываются). Здесь мы сталкиваемся с ключевой для проводимого анализа проблемой соотношения слова и одноименного с ним концепта, которая будет обсуждаться ниже. Создается впечатление, что для М.Л. Петровой концепт «свой/
чужой» представляет собой самостоятельный объект, к которому семантика слов свой и чужой имеет весьма опосредованное отношение,
что порождает естественный вопрос о том, как исследовать этот объект,
какие культурные факты оказываются охваченными им, а какие нет.
Ответа на этот вопрос в работе мы не находим. Все опять определяет никак не эксплицируемая интуиция. Автор описывает представления современных носителей русской и французской культуры об
американцах, а также их взгляды друг на друга, иллюстрируя свои
утверждения примерами из художественной литературы и публицистики, но, не проводя какого-либо контент-анализа, доказывающего
правомерность полученных выводов. Также остается непонятным, как
проведенный анализ способствовал описанию структуры концепта
«свой/чужой».
Единственной попыткой объективации сделанных наблюдений стал
в диссертации интернет-опрос французских пользователей о России и
русских о Франции. Однако и он служит иллюстрацией «размытости»
избранной М.Л. Петровой методологии. Так, в приведенных данных
никак не описана социальная структура выбранной группы (пол, возраст, образование и т. д.) и не обоснована репрезентативность произведенной выборки для задач исследования. Также осталось неясным,
до какой степени предложенные вопросы и полученные ответы характеризуют современную русскую и французскую культуру в целом.
Сложно понять, например, как замечание о большом количестве зелени в городах или восхищение московским метро может характеризовать структуру концепта «свой/чужой» в современной французской
культуре. Результатом знакомства с диссертацией, как и в предыдущих
�142
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
случаях, оказывается некоторое недоумение, непроясненность ответа
на ключевой вопрос, о чем вообще автор говорит, какую реальность он
и м е е т в в и д у, что является объектом исследования.
Завершая обсуждение данного пункта, хотелось бы подчеркнуть,
что диссертации указанного типа составляют большинство в анализируемой выборке, и проблемы, обозначенные выше, носят системный
характер. Они связаны с размытостью методологии, к которой неизбежно ведет неопределенность самого понятия «концепт».
В) В третьей группе исследователь пытается следовать изложенным
в первых разделах своего труда теоретическим установкам и разработанной схеме анализа при работе с конкретным материалом. К этой
группе относится, например, например, кандидатская диссертация
Н.В. Подзолковой «Концепт “одиночество” в немецкой и русской
лингвокультурах» (Подзолкова 2005). Определяя данный концепт как
«этнически, культурно обусловленное, структурно-смысловое, ментальное, лексически и фразеологически вербализованное образование,
состоящее из понятийной, образной и ценностной составляющих»
(Подзолкова 2005, с. 188), автор характеризует понятийную сторону
как комбинацию формальных признаков (психическое состояние человека; отсутствие его контактов с окружающими людьми; неудовлетворенность индивидуума качеством существующих контактов (там же,
с. 8)), образную сторону как систему ассоциаций, связанных с данным
словом, а ценностную сторону как положительную, отрицательную,
нейтральную или амбивалентную оценку этого состояния. Опираясь
на предложенную модель, Н.В. Подзолкова анализирует концепт «одиночество» в философских текстах, принадлежащих немецкой традиции
(Шопенгауэр, Новалис, Бубер и др.) и одновременно в отечественных
психологических и социологических исследованиях 7, а затем сопоставляет данный концепт в русских и немецких паремиях, сборниках
афоризмов, литературных текстах и текстах на интернет-сайтах и форумах.
При большом объеме анализируемого материала и системности
проделанного анализа, данная работа также оставляет целый ряд
методологически не проясненных вопросов, принимая «по умолчанию» несколько не очевидных допущений. Во-первых, не вполне
понятна (и выпадает из итоговых выводов работы) связь между «одиночеством» как философской или психологической категорией и
результатами, полученными на материале анализа художественной
литературы и обыденного языка; неясно, идет ли речь об одном концепте или о разных. Во-вторых, автор исходит из допущения о том,
что концепт в определенной культуре представляет статичное образование, которое может быть реконструировано путем обращения к
текстам как начала XIX в., так и начала XXI в. без существенного ис-
Глава 7. Концепт, концептосфера, языковая картина мира
143
кажения картины. В-третьих, им не обсуждается вопрос, какой пласт
культуры отражают пословицы и поговорки и какой – афоризмы, до
какой степени каждый из них репрезентативен для понимания структуры концепта.
Подчеркнем еще раз, что представленное положение дел связано
не столько со спецификой методологической «оптики» того или иного исследователя, сколько с методологическими рамками, которые
задает для них использование категории концепта. Весьма показательными для иллюстрации данного утверждения являются работы
Ю.С. Степанова, одного из наиболее влиятельных отечественных исследователей, разрабатывающих эту категорию. Для него концепт
представляет собой особую реальность, в которой он выделяет три слоя,
три базовых уровня: а) «буквальный смысл», или «внутренняя форма»,
или этимология концепта и явления культуры; б) «пассивный», «исторический» слой концепта; в) новейший, наиболее актуальный и активный слой концепта. Предложенная структура иллюстрируется анализом
праздников 23 февраля и 8 марта. Слой в) характеризуется представлением об этих праздниках как «празднике мужчин» и «празднике
женщин»; слой б) – восприятием 23 февраля как «Дня Советской Армии», т. е. праздника, в первую очередь, военнослужащих, а 8 марта –
как «Международного женского дня», т. е. дня борьбы всего прогрессивного человечества за эмансипацию женщин; слой а) связан с победами Красной Армии под Нарвой и Псковом 23 февраля 1918 г., с
именами Л.Д. Троцкого (23 февраля) и Клары Цеткин (8 марта) (Степанов 2001, с. 45–46).
Не останавливаясь на вопросе о сложном переплетении уровней б)
и в) как в приведенной иллюстрации, так и в целом, рассмотрим, какие
формы предложенная модель принимает в конкретных словарных
статьях. Обратимся, например, к описанию концепта «мещанство».
Ю.С. Степанов определяет мещанство как низшее городское сословие,
помещая этот концепт в один блок с концептами «мир (община)»,
«город-посад», «черная сотня, черносотенный». Второе значение слова мещанин, приводимое словарями: «Человек с мелкими, ограниченными, собственническими интересами и узким и общественным
кругозором» автор связывает с «влиянием большевистской пропаганды»8. Однако такое значение становится актуальным для русской
культуры уже с конца 60-х гг. XIX в., и ключевую роль в его трансформации от сословных характеристик к ценностным играет А.И. Герцен.
Герцен характеризует словом мещанство третье сословие, противопоставляя его, с одной стороны, средневековому рыцарству, а с другой –
русскому дворянству9. Основной характеристикой мещанства у Герцена становится стяжательство, страсть к накоплению собственности,
которая связывается у него с примитивностью мировоззрения и, по
�144
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
его мнению, преобразует человека в «считающий автомат». Именно
такое представление о мещанине как о лишенном нравственного чувства и эстетического чутья стяжателе и воспроизводится затем М. Горьким, Д. Мережковским, Р. Ивановым-Разумником, становясь важной
константой русской культуры конца XIX – начала XX вв., а затем и
советской культуры. Как мы видим, этот ряд довольно далек от «мира
(общины)», «города-посада» и «черной сотни».
Обсуждение корректности предложенной Ю.С. Степановым интерпретации вновь приводит нас к проблеме соотношения слова (и системы смыслов, которые с ним связаны) и одноименного с ним концепта. Ю.С. Степанов неоднократно подчеркивает, что слово и концепт –
разные сущности. Так, он пишет об исследованиях категории
«цивилизация» Э. Бенвенистом: «Бенвенист придает излишне важное
значение первым употреблениям слова, тогда как, на наш взгляд, гораздо существеннее первые фиксации концепта, связанного, возможно,
и с другими словами» (Степанов 2011, с. 635). Однако, разделяя слово
и концепт, мы опять сталкиваемся с проблемой, которая уже неоднократно поднималась: как определить, что концепт существует, какие
критерии, кроме появления в языке одноименного слова, могут быть
использованы для этого? В текстах Ю.С. Степанова не удается найти
ответ на этот вопрос, и единственным принимаемым по умолчанию
критерием остается интуиция исследователя. Обращение к концепту
«мещанство» показывает, к каким аберрациям приводит такая установка при работе с конкретными словами: интуитивно кажется, что связанные с именем Герцена трансформации имеют самое непосредственное отношение к концептуальному содержанию, стоящему за словом
мещанство, и не учитывать их означает существенно искажать реальную
картину.
Еще более показательна статья «Интеллигенция». В отличие от
предыдущего случая, здесь автор строго следует заданной им модели:
выявляет внутреннюю форму концепта (от латинского intelligentia –
«высшая степень сознания, самосознание»), затем описывает его
«пассивный», «исторический» слой, представленный анализом употреблений слова в философской литературе (от Цицерона до Гегеля и
Маркса), а затем совершает переход к уже привычной нам структуре
концепта. «Только в России в период между 1845–1865 гг. совершается
следующий этап в развитии концепта “Интеллигенция”: субъектом
(носителем, агенсом, производящим деятелем) исторического самосознания народа в процессе государственного строительства оказывается при этом новом понимании не абстрактный “разум”, не “дух народа” и не весь народ, а определенная, исторически и социально
вполне конкретная часть народа, взявшая на себя социальную функцию
общественного самосознания от имени и во имя всего народа. Соб-
Глава 7. Концепт, концептосфера, языковая картина мира
145
ственно, это и есть основное содержание концепта “Интеллигенция”,
и, вопреки мнениям о будто бы необычайной запутанности его дальнейшей истории, мы полагаем, что она ясна и проста: концепт остается одним и тем же, как бы “рамкой” для кадра, но он лишь как бы
“примеривается”, а затем и передвигается с одной социальной группы
на другую, в поисках ответа на вопрос: какая же социальная группа
является субъектом самосознания нации? В “кадре” оказываются разные социальные группы» (Степанов 2001, с. 672).
Однако обращение к текстам второй половины XIX в., в которых
используется слово интеллигенция и его дериваты, показывает иную
картину. Анализ употребления слова в ситуациях, когда оно не превращается в объект для интерпретаций, позволяет отчетливо выделить
два смысловых вектора: интеллигенция как не-народ (по таким критериям, как внешний вид, одежда, нормы поведения и т. д.), и интеллигенция как оппозиция мещанству (причем и здесь речь идет не о
системе идей, а о стиле жизни; противопоставляются, условно говоря,
не «что», а «как»). Эта оппозиция проявляется и на уровне интерпретаций, кристаллизующихся в терминах Р. Иванова-Разумника вокруг
социально-экономического и социально-этического определения
«интеллигенции»10. Непосредственный анализ текстов показывает, что
представление об интеллигенции как «вполне конкретной части народа, взявшей на себя социальную функцию общественного самосознания от имени и во имя всего народа», возникает лишь в узком
спектре интерпретаций (например, у А. Градовского) и не описывает
совокупности культурных смыслов, связанных с данным словом.
Переходя к обобщениям, сформулируем еще раз основную проблему. Для большинства «концептологов» концепт и слово – разные
сущности. Однако, если одноименное слово не является единственным
путем к концепту, встает вопрос о критериях идентификации концепта и ряд связанных с ним вопросов, на которые «концептологи» не
дают прямого ответа:
Как и когда возникает концепт, и как можно зафиксировать его
появление?
Какова структура концепта? С помощью каких процедур ее можно
выявить? Одинакова ли эта структура для всех носителей языка или же
она различается у различных социокультурных групп и, возможно,
отдельных людей?
Может ли концепт изменять свою структуру со временем и, если
да, как можно зафиксировать изменение этой структуры?
Принимаемые «по умолчанию» ответы на эти вопросы, выглядят
следующим образом: решающим критерием для фиксации того или
иного концепта является интуиция ученого, лежащая в основе дальнейших построений. Проверить эту интуицию с помощью каких-либо
�146
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
рациональных процедур невозможно; предполагается, что она едина
для всех исследователей, обращающихся к данной проблеме, поэтому
здесь нет поводов для обсуждения. Далее, в большинстве случаев постулируется, что концепт не может изменять свою структуру со временем, и что структура концепта не имеет сущностных различий для
представителей разных социокультурных групп в рамках различных
дискурсивных практик11 (иначе сложно объяснить использование
«концептологами» для реконструкции концепта без каких-либо оговорок текстов различного типа: философских трактатов, паремий,
постов и блогов в Интернете). Также открытым остается вопрос о
корректном описании структуры концепта. Разные исследователи
предлагают разные схемы (так, обладают существенными различиями
описанные выше модели Н.В. Подзолковой и Ю.С. Степанова), и в
непосредственном исследовании далеко не всегда действуют в соответствии с заданной ими моделью.
Заметим, что описанные допущения плохо коррелируют с конкретным материалом. Большие сомнения вызывает тезис об эквивалентности текстов различного типа для реконструкции концепта. Можно,
в частности, показать, что концептуальное содержание слова (т. е. то,
что «концептологи» называют концептом) различается на уровне повседневного употребления и на уровне интерпретаций. Так, концептуальная структура слова пошлость у Набокова обладает рядом принципиальных особенностей по сравнению с Зеньковским и, с другой
стороны, концептуальные каркасы Набокова и Зеньковского далеко
не во всем соответствуют семантической структуре слова пошлость в
повседневном языке (Глебкин 2007д). Концептуальная структура слова интеллигенция и его дериватов меняется где-то раз в 20 лет, причем
закон этого изменения носит гораздо более сложный характер, чем
предложенная Ю.С. Степановым схема (исторический и актуальный
слой концепта)12.
Как будет показано в одиннадцатой главе, в общем случае можно
утверждать, что эволюция концептуального содержания слова определяется носящим динамический характер взаимодействием социокультурных процессов, к которым оно отсылает, его семантических связей
на базовом уровне и его интерпретаций. Без четких алгоритмов, позволяющих описывать структуру концепта и ее связь с его репрезентациями, термин концепт оказывается, скорее, уводящим от существа
дела, чем дающим возможность корректного, допускающего прозрачную верификацию и фальсификацию, исследования.
Еще более размытым является термин концептосфера, сконструированный, по утверждению Д.С. Лихачева, по аналогии с терминами
ноосфера, биосфера В.И. Вернадского (Лихачев 1997, с. 287). Смысл его
состоит в обозначении особой среды, в которой «обитают» концепты.
Глава 7. Концепт, концептосфера, языковая картина мира
147
Единственным аргументом в пользу существования такой среды является существование концептов, отологический статус которых, как
было показано, весьма сомнителен.
Конечно, полностью отрицать методологическую значимость проводимых в данном направлении исследований было бы неверно. Без
сомнения, лингвисты, обращающиеся к понятию «концепт», делают
акцент на крайне важной проблеме, которая находилась на периферии
традиционного проблемного поля, проблеме языка как хранилища и
репрезентации культуры. Однако избранный ими способ скорее затемняет, чем проясняет эту связь. Каждая лексема или совокупность
лексем отсылает к определенному набору социокультурных ситуаций,
в которые погружен человек, определенным образом маркируя и
конденсируя этот социокультурный опыт. По сути, за понятием концепта стоит значимое для культуры концептуальное содержание, к
которому обращает та или иная лексема. Одно и то же слово может
обращать к разным концептуальным кластерам, и тогда говорят о
разных значениях слова, с другой стороны, один кластер может описываться разными словами, отражающими разные аспекты его структуры. Все это кажется давно известным и очевидным, но новизна
состоит в расстановке акцентов. Лингвистика традиционно делает
акцент на словах, а область, которую принято называть лингвокультурологией, – на том, что скрывается за словами. Известный немецкий
историк, один из основателей направления истории идей в современной историографии, Р. Козеллек подчеркивал «методологически неразрешимую дилемму»: любое историческое событие, совершающееся или совершившееся, есть нечто иное, чем его выражение в языке,
но это «иное», в свою очередь, может стать видимым только благодаря посредничеству языка (Koselleck 2004, p. 223; ср. Pocock 2009,
p. 106−119). То же можно сказать и о культурных фактах. Реальность,
стоящая за словами интеллигенция, цивилизация, мещанство и т. д.,
есть нечто иное, чем эти слова, но у нас нет других проводников к
этой реальности, чем данные или какие-то другие слова или образы.
Понятие концепта стремится упорядочить эту реальность, но не
вполне корректным образом. Взгляд на концепт не как на элемент
реальности, а как на «идеальный тип» М. Вебера, т. е. исследовательский инструмент, позволяющий описывать и структурировать эту
реальность, снимает массу лежащих на поверхности проблем. Отказ
от онтологизации концептов дает возможность избежать вопросов об
их возникновении и трансформации и говорить о способах фиксации
культурных смыслов, к которым обращается лексема или группа
лексем. В этом случае точкой отсчета оказывается слово и совокупность культурных смыслов, за ним стоящих. Какие-то из этих смыслов могли существовать и ранее, связываясь с другими словами (ве-
�148
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
роятно, в этом состоит рациональная основа утверждения, что концепт мог появиться раньше одноименного с ним слова), и их тоже
следует включать в анализ, однако это не отменяет уникальности
появления конкретного слова как «дома» для определенной конфигурации культурных смыслов (или обретения словом нового значения
в этом качестве). Важно иметь в виду, что концептуальное содержание,
соответствующее определенному слову, может изменяться с течением
времени, и различаться для различных социальных групп, на уровне
повседневного употребления и на уровне интерпретаций, причем
выделенные блоки следует рассматривать как находящиеся в динамическом взаимодействии. Модель динамического описания концептуальной структуры слов, составляющих единый лексический комплекс, будет описана в одиннадцатой главе. Разумеется, возможны и
другие варианты, но поиск альтернативных подходов к проблемам,
для решения которых используется категория концепта, важен для
придания этим проблемам необходимой строгости и перевода их из
области эссеистики в научное поле.
7.3. Термин языковая картина мира и его
мировоззренческие основания
Определенной альтернативой понятию концептосфера является термин
языковая картина мира. Его истоком стало введенное Ю.Д. Апресяном
в качестве оппозиции научной картине мира понятие наивной языковой
картины мира (Апресян 1974, с. 56–60; ср. Урысон 2003, с. 9; Зализняк
и др. 2012, с. 610). В дальнейшем это понятие уточнялось, связываясь
с особым для каждого языка способом концептуализации мира. Обратимся в качестве иллюстрации к обобщающим работам новомосковской школы концептуального анализа, в которых понятие языковой
картины мира выступает в качестве главного теоретического основания
всех дальнейших описаний и наблюдений. Указанное понятие характеризуется в них следующим образом: «Каждый естественный язык
отражает определенный способ восприятия и устройства мира, или
языковую картину мира. Совокупность представлений о мире, заключенных в значении разных слов и выражений данного языка, складывается в некую единую систему взглядов и предписаний, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка.
Почему это так – почему говорящий на данном языке должен обязательно разделять эти взгляды? Потому что представления, формирующие картину мира, входят в значения слов в неявном виде, так что
человек принимает их на веру, не задумываясь. Иначе говоря, пользуясь словами, содержащими неявные смыслы, человек, сам того не
замечая, принимает и заключенный в них взгляд на мир…
Глава 7. Концепт, концептосфера, языковая картина мира
149
Владение языком предполагает владение концептуализацией мира,
отраженной в этом языке. Поскольку конфигурации идей, заключенные
в значении слов родного языка, воспринимаются говорящим как нечто
само собой разумеющееся, у него возникает иллюзия, что так вообще
устроена жизнь. Но при сопоставлении разных языковых картин мира
обнаруживаются значительные расхождения между ними, причем иногда весьма нетривиальные…» (Зализняк и др. 2012, с. 11–12)13.
Следует отметить, что, с точки зрения авторов, языковая картина
мира реконструируется «исключительно на основе лингвистического
анализа языковых данных» (там же, с. 613) и отличается от системы
взглядов на мир, характерной для носителей культуры, говорящих на
данном языке.
Эксплицируем систему принимаемых по умолчанию постулатов,
которая стоит за приведенным описанием.
А) Мы можем (по крайней мере, теоретически) отделить носителя
языка от носителя культуры, что предполагает гипотетическое обсуждение мировосприятия существа, которое полностью освоило язык (с
помощью лингвистического анализа языковых данных), но при этом
абсолютно не знакомо с культурной традицией. В качестве условной
модели можно говорить о герое рассказа Леонида Андреева «Правила
добра», использованном в качестве такой модели во второй главе монографии, т. е. существе, которое не включено в традиционные для людей
социокультурные практики, а всю информацию о языке получает из
анализа текстов, устной речи, данных словарей, энциклопедий и т. д.
Тогда такое существо будет обладать языковой картиной мира, совпадающей с картиной мира обычных носителей языка, т. е. воспроизводить ту же навязываемую языком систему взглядов и предписаний.
Б) Возможность реконструкции языковой картины мира исключительно с помощью лингвистического анализа языковых данных, без
обращения к разнообразным социокультурным практикам14, предполагает автономию лексической системы языка, в которой лексемы или
фраземы объясняются через сведение к другим лексемам, что в итоге
приводит к набору семантических примитивов, значения которых
являются интуитивно очевидными для всех носителей.
В) Языковая картина мира воспринимается ее носителями как данность, не предполагающая вопросов о внеязыковых причинах ее формирования и эволюции. Мы можем выяснять, к а к о й является языковая картина мира, но в заданной системе координат бессмысленно
спрашивать, п о ч е м у она такая. Мы можем фиксировать эту картину
в различные эпохи и отмечать происходящие изменения, но если лексический состав языка представляет собой автономную систему, законы этих изменений должны носить исключительно лингвистический
характер.
�150
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Заметим, что сформулированные постулаты близки базовым идеям
NSM-теории и модели «Смысл⇔Текст», обсуждаемым во второй главе данной монографии. Соответственно, и их критический анализ
будет соотноситься с изложенной критикой.
Прежде всего, вызывает вопрос возможность корректного разделения языковой картины мира и общих представлений о мире, характерных для носителей культуры, говорящих на данном языке. Безусловно,
люди, говорящие на одном языке, воспроизводят совокупность представлений о мире, которую данный язык в себе содержит, но эти представления о мире являются, в свою очередь, не фактом самого языка,
а отражением в языке предшествующего социокультурного опыта.
Наиболее слабое место гипотезы Сепира-Уорфа состоит в том, что она
исходит из представлений о языке как самодостаточной реальности, и
подчеркивает зависимость мировоззрения от языка, не обращая внимания на обусловленность лексической системы языка соцокультурной
средой, которая его питает. Не вызывает сомнений, что фиксируя и
упорядочивая социокультурный опыт, язык оказывает на эту среду
обратное влияние, но такое влияние носит вторичный характер. Постановка вопроса о том, п о ч е м у сформировались те или иные закрепленные в языке мировоззренческие константы, какие социокультурные механизмы послужили основанием для этого, позволяет преодолеть характерный для работ, связанных с реконструкцией языковой
картины мира, лингвоцентризм и ввести их в более широкое соцокультурное поле.
История развития человека как в филогенезе, так и в онтогенезе
показывает некорректность сформулированного выше постулата А).
Ребенок осваивает язык, включаясь в систему разнообразных социокультурных практик, которые формируют его языковую интуицию и
семантическую компетентность. Освоение второго языка уже сформировавшимся человеком также осуществляется через привязку словарных значений к его собственному социокультурному опыту, через
построение связанных с этим опытом перцептивных символов15. Семантическая эволюция слов в рамках культурных эпох и, особенно,
при переходе от одной эпохи к другой отвечает на сформированные
культурные запросы, отражает трансформацию социокультурного
опыта16.
В последующих главах книги мы конкретизируем сделанные
утверждения, обратившись к описанию сложноорганизованного динамического взаимодействия между природной и/или социокультурной реальностью, отражением этой реальности в языке и воспринимающим и преобразующим эту реальность человеком. Следует отметить, что, несмотря на заявленные теоретические постулаты, из
подобной модели в значительной степени исходят и авторы ново-
Глава 7. Концепт, концептосфера, языковая картина мира
151
московской школы концептуального анализа при работе с конкретным материалом.
Используемая ими методология оказывается разной в разных статьях, но выход за пределы языка, обращение к материалу, традиционному для философов и культурологов, осуществляется в анализируемой
монографии постоянно. Приведу несколько иллюстраций. Обращаясь
к статье А.Д. Шмелева «Широта русской души» (Зализняк и др. 2012,
с. 24–34), мы с удивлением обнаруживаем, что вес «лингвистического
анализа языковых данных» в ней крайне невелик, а основное место
занимают ссылки на тексты Н. Бердяева, А. Солженицына, Ф. Искандера, П. Вайля и А. Гениса, Д. Лихачева, Г. Гачева и др. Важно отметить, что предмет интереса цитируемых авторов – не язык, а фундаментальные черты русского характера, русской культуры, русской
«ментальности», т. е. указанные работы отсылают не к «языковой картине мира», а к системе культурных стереотипов, связанных с понятием национальной идентичности.
Показательным является выход за пределы собственно языковых
данных в анализе А.Д. Шмелевым лексемы удаль. Иллюстрируя свои
наблюдения, он обращается к рассказу С. Алексеева «Сторонись!», в
котором любящий лихую езду курьер сшибает в снег самого фельдмаршала А.В. Суворова, а потом получает от него перстень в награду «за
удаль, за русскую душу, за молодечество». Очевидно, что и для автора
рассказа, и для его героя речь не идет о «языковых фактах»: в рассказе
оценивается вполне конкретный культурный сценарий и воспроизводятся устойчивые представления о русском характере, русской душе и т. д.
Также за рамки лингвистики выходит анализ А.Д. Шмелевым понятия «смирение» (там же, с. 260−265). В использованных им фрагментах текстов Ал. Толстого, митрополита Антония (Блума), Ал. Ельчанинова авторы обращаются не к слову смирение, а к особому состоянию
духа, им описываемому; их интересует не язык, а непосредственно та
реальность, к которой он отсылает.
Еще более явно выход за пределы лингвистического анализа и обращение к социокультурным аргументам проявляется в описании
И.Б. Левонтиной семантической эволюции слова сейшн (там же,
с. 430−432). Связь отмеченной эволюции с рядом социокультурных
процессов (легализация рока, «отход от хипповских ценностей») показывает, каким образом язык реагирует на запросы культуры и изменяется в соответствии с этими запросами.
Приведенные примеры, число которых можно многократно умножить, показывают, что понятие «языковая картина мира» не работает
для авторов новомосковской школы концептуального анализа в качестве методологической рамки при осуществлении конкретных исследований. Как и исследователи, использующие категорию концепта, в
�152
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
непосредственной работе они опираются на иные принципы, не эксплицированные и, кажется, не отрефлексированные ими.
В целом, размытость методологии, пожалуй, основная проблема
обсуждаемых работ. Описывая специфику своего метода, авторы говорят о свободной форме изложения результатов, но вопрос вызывает не
это. Остается непонятным, как эти результаты получены, какие методологические операции за ними стоят. В частности, многим разделам
монографии недостает корпусного анализа. Это ведет к тому, что целый
ряд интересных и продуктивных наблюдений, сделанных исследователями, страдает приблизительностью и неточностью, которой легко
можно было бы избежать при экспликации строгой методологической
рамки, оформляющей аналитические процедуры.
Покажем эту неточность на двух примерах. Первый из них – упомянутое выше слово удаль. Вот как характеризует его А.Д. Шмелев:
«Другое характерное русское слово – это удаль. Это слово называет
качество, чем-то родственное таким качествам, как смелость, храбрость, мужество, доблесть, отвага, но все же совсем иное… Пытаясь
объяснить или понять, что такое удаль, мы неизбежно сталкиваемся с
некоторым парадоксом. Все попытки рационального объяснения удали заставляют признать, что в ней нет ничего особенно хорошего; во
всяком случае, она не является таким превосходным качеством, как
мужество, смелость, храбрость, отвага, доблесть... В то же время слово удаль в русском языке обладает яркой положительной окраской.
Типичное сочетание с этим словом – удаль молодецкая. По-видимому,
существенный смысловой компонент слова удаль соответствует идее
любования (впрочем, иногда речь, скорее, может идти о самолюбовании того, чьи поступки отличаются удалью). Говоря об удали, мы любуемся тем, какие удалые действия может совершить человек, и уже
это сообщает слову положительную окраску. Кроме того, для удали
важна идея бескорыстия, удаль противостоит узкому корыстному расчету» (там же, с. 28−29). Приведенная характеристика требует существенного уточнения, по крайней мере, в двух отношениях.
Во-первых, не вполне корректно помещение удали в лексический ряд
мужество, смелость, храбрость, отвага, доблесть, предполагающее ее
отнесение к качествам воина, бойца. Действительно, этот компонент
крайне важен, но он не является определяющим для понимания семантической структуры удали. Удаль может проявляться, например, в песне
или танце. Приведу показательный фрагмент из «Казаков» Л.Н. Толстого:
В ауле, расположенном около ворот, татарин на крыше сакли сзывал
правоверных к молитве; песенники заливались с новой удалью и энергией17.
С другой стороны, высказывание песенники заливались с новым мужеством или с новой отвагой звучало бы, по меньшей мере, странно. Не
имея возможности проводить здесь подробный анализ, отмечу, что клю-
Глава 7. Концепт, концептосфера, языковая картина мира
153
чевым смысловым компонентом в удали является стихийная мощь,
разрушающая все рациональные модели и ожидания. Удаль бескорыстна, как бескорыстна стихия. Эта стихия может проявляться в битве, но
может – в песне, танце или других культурных сценариях.
Во-вторых, нуждается в корректировке представление об удали как
характеристике русской культуры, русского мироощущения. Лексемы
удалой и удалец весьма частотны в русских средневековых текстах (например, Они же рекоша царю: «Мы со многими цари во многих землях, на
многих бранех бывали, а таких удалцов и резвецов не видали, ни отци наши
возвестиша нам» (Повесть о разорении Батыем Рязани в 1237 г.)), но
они оказываются малоупотребительными, по крайней мере, у ряда
значимых авторов XIX века, характеризуя в их текстах не столько русскую культуру, сколько культуру народов Кавказа. Так, у Лермонтова
слово удаль не встречается вообще, удалец встречается 10 раз, в 5 случаях описывая поведение горцев (например, Из гор Ичкерии далекой /
Уже в Чечню на братний зов / Толпы стекались удальцов (Валерик)),
удалой – 6 раз, в трех из них также отсылая к жизни горских народов.
В большинстве оставшихся фрагментов Лермонтов характеризует с
помощью указанных лексем контрабандистов, разбойников, корсаров,
т. е. людей, не принимающих законы цивилизации, живущих по естественным, доцивилизационным правилам и нормам. Единственный
текст у Лермонтова, в котором удаль соотносится с мироощущением
русского человека – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова», стилизованная под народную историческую песню.
У Толстого лексема удаль встречается 6 раз, удалец – 1 раз, удалый –
3 раза, связываясь, в основном, с гусарской этикой или мироощущением горцев. Приведу характерный фрагмент из письма Толстого
Т.А. Ергольской (6 января 1852 г.): С а д о позвал меня к себе и предложил
быть к у н а к о м . Я пошел; угостив меня по их обычаю, он предложил мне
взять, что мне понравится: оружие, коня, чего бы я ни захотел. Я хотел
выбрать что-нибудь менее дорогое и взял уздечку с серебряным набором;
но он сказал, что сочтет это за обиду, и принудил меня взять ш а ш к у ,
которой цена, по крайней мере, 100 р. сер. Отец его человек зажиточный,
но деньги у него закопаны, и он сыну не дает ни копейки. Чтобы раздобыть
денег, сын выкрадывает у врага коней или коров и рискует иногда 20 раз
своей жизнью, чтобы своровать вещь, не стоящую и 10 р.; делает он это
не из корысти, а из удали. Самый ловкий вор пользуется большим почетом
и зовется д ж и г и т - м о л о д е ц .
Какой-либо связи удали с мировоззрением русского человека мы у
Толстого не находим18.
Сделанные замечания, повторюсь, не претендуют на отражение
всего спектра идей, связанных с категорией удали в русской культуре.
�154
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Их цель – показать, что реальная картина оказывается более сложной,
чем это представлено в статье А.Д. Шмелева, и диахронный анализ
корпуса текстов русской литературы XIX–XX вв. помог бы существенно уточнить ее.
Второй пример связан со словом уют. А.Д. Шмелев пишет: «Защититься от душевного дискомфорта и опасностей, связанных с холодным ветром простора, можно отгородившись от него, спрятавшись
в небольшом закрытом теплом помещении, как об этом говорится в
«Раковом корпусе» Солженицына: «...хочется только спрятаться под
крышу, поближе к огню и к родным». Любовь к небольшим закрытым
помещениям, отгороженным от холодного «простора», отражена в
прилагательном уютный и соотносительном существительном уют»
(там же, с. 618). Однако есть целый ряд языковых фактов, свидетельствующих, что уюту противостоит не простор, а другая категория, и
параметр величины не является здесь определяющим. Вот несколько
иллюстраций:
Как хорошо, Саша, как хорошо! – говорила жена. – Право, можно
подумать, что всё это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит
этот лесок! Как милы эти солидные, молчаливые телеграфные столбы!
Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там, где-то, есть
люди... цивилизация... А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха
ветер слабо доносит шум идущего поезда? (А.П. Чехов. Дачники);
А как тепло, как мягки на вид облака, разбросанные в беспорядке по
небу, как кротки и уютны тени тополей и акаций, – тени, которые
тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома
до самых балконов и вторых этажей! (А.П. Чехов. Учитель словесности);
2 6 а в г у с т а . Пошел к Берсам пешком, покойно, уютно. Девичий
хохот (Л.Н. Толстой. Дневник, 1862 г.).
Приведенные примеры показывают, что наличие «небольшого закрытого помещения» не является обязательным для достижения состояния уюта. Можно чувствовать себя уютно в небольшой комнате,
но можно и на улице, в лесу, в поле. Ключевой в данном случае оказывается оппозиция п р и в а т н о е / п у б л и ч н о е . Человек ощущает уют, оказавшись наедине с самим собой или своими близкими, уже
не испытывая нужды в парадном костюме и необходимости играть
требуемую от него социальную роль. Уют характеризует состояние
внутренней гармонии и равновесия. То, что именно оппозиция п р и в а т н о е / п у б л и ч н о е является в данном случае определяющей,
иллюстрируют два следующих примера:
В самом блиндаже было тихо: только солдаты, еще дичась нового
офицера, изредка переговаривались, прося один другого посторониться
или огню – трубочку закурить; крыса скреблась где-то между камнями,
Глава 7. Концепт, концептосфера, языковая картина мира
155
или Вланг, не пришедший еще в себя и дико смотревший кругом, вздыхал
вдруг громким вздохом. Володя на своей кровати, в набитом народом
уголке, освещенном одной свечкой, испытывал то чувство уютности,
которое было у него, когда ребенком, играя в прятки, бывало, он залезал
в шкаф или под юбку матери и, не переводя дыхания, слушал, боялся
мрака и вместе наслаждался чем-то. Ему было и жутко немножко и
весело. (Л.Н. Толстой. Севастополь в августе 1855 года);
Русские умилились духом. И им захотелось участвовать в процессии.
Они взяли свои бутылки и смешались с толпой. Процессия остановилась
на полянке за отелем. Вышел на средину какой-то старичок и сказал
что-то. Ему аплодировали. Какой-то бурш взобрался на стол и произнес
трескучую речь. За ним – другой, третий, четвертый... Говорили, взвизгивали, махали руками... Петр Фомич умилился. В груди его стало светло, тепло, уютно. При виде говорящей толпы самому хочется говорить.
Речь заразительна. Петр Фомич протискался сквозь толпу и остановился около стола. (А.П. Чехов. Патриот своего отечества).
Последний фрагмент наглядно показывает, что чувство уюта может
возникать, когда публичное пространство трансформируется в частное,
когда человек забывает о своей социальной роли и становится самим
собой, воспроизводя органичные ему модели поведения. Характеристики физического пространства, в котором он находится, оказываются в данном случае второстепенными.
Подведем итог. Завершая данную главу, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что ни категории концепт и концептосфера, ни категория языковая картина мира не могут выступать в качестве методологической
рамки при непосредственной работе с культурно-значимыми понятиями. Использующие их исследователи в действительности опираются на
иные, принимаемые ими «по умолчанию» постулаты, и методологическая размытость оснований ведет к размытости и приблизительности
результатов. Возможная методологическая рамка для проведения исследований подобного рода будет предложена в 11 главе монографии.
Примечания
В случае интеллигенции эта национальная специфика очевидна, но и интенсивность
обсуждения категории концепта тоже, как мне кажется, представляет собой чисто российское явление (во избежание недоразумений следует особо подчеркнуть, что речь
именно о русском слове концепт и системе смыслов, к которой оно отсылает; английское concept отличается от русского концепт в ряде важных моментов).
2
См. об этом 14 главу, а также Глебкин 2002, Глебкин 2002б.
3
В основном, указанный массив составляют работы по лингвистике и культурологии,
хотя встречаются также исследования философов, историков и др.
4
Некоторые влиятельные отечественные исследователи, часто включаемые в число
теоретиков концепта, не делают акцента на различии между концептом и понятием,
используя их как синонимы. В этом контексте показательно следующее высказывание
Н.Д. Арутюновой: «…нужно проанализировать метаязык культуры, и прежде всего ее
1
�156
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
ключевые термины, такие, как “истина” и “творчество”, “долг” и “судьба”, “добро” и
“зло”, “закон” и “порядок”, “красота” и “свобода”. Эти понятия существуют в любом
языке и актуальны для каждого человека. Немногие, однако, могут раскрыть их содержание, и вряд ли двое сделают это согласно. Вместе с тем нет философского сочинения,
в котором бы эти концепты не получали различных интерпретаций» (Арутюнова 1991,
с. 3). Ср.: Арутюнова 1993, с. 3–4.
5
В основном, указанный массив составляют работы по лингвистике и культурологии,
хотя встречаются также исследования философов, историков и др.
6
Этой размытости соответствует размытость представлений о концепте, изложенных в
первой главе работы. См., например, следующую характеристику: «В современной лингвистике, равно как и в смежных гуманитарных науках, такие сложные, многоаспектные
явления, как любовь, принято именовать концептами» (Кузнецова 2005, с. 20).
7
Н.В. Подзолкова обращает внимание на то, что для отечественной философской традиции концепт «одиночество» не был актуальным.
8
«Это резко негативное отношение к мещанству в части русского общества революционной поры возникло в значительной мере под влиянием большевистской пропаганды,
вследствие общей оппозиции мещанства революционному движению, как результат
прямого антагонизма части русского мещанства, группировавшейся в консервативные
охранительные союзы (см. Черная сотня) к большевизму» (Степанов 2001, с. 661).
9
«Под влиянием мещанства все переменилось в Европе. Рыцарская честь заменилась
бухгалтерской честностью, изящные нравы – нравами чинными, вежливость – чопорностью, гордость – обидчивостью, парки – огородами, дворцы – гостиницами, открытыми для всех (то есть для всех имеющих деньги).
Прежние, устарелые, но последовательные понятия об отношениях между людьми
были потрясены, но нового сознания настоящих отношений между людьми не было
раскрыто. Хаотический простор этот особенно способствовал развитию всех мелких и
дурных сторон мещанства под всемогущим влиянием ничем не обуздываемого стяжания. (...)
Вся нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий – хранить и увеличивать свою собственность; флаг, который поднимают на рынке для открытия нового торга, стал хоругвию нового общества. Человек de
facto сделался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную борьбу
из-за денег...» (Герцен 1956, с. 381-383). Подробнее см. Глебкин 2002б, с. 112-113; Глебкин 2007г.
10
Подробнее см. об этом 14 главу и Глебкин 2002б.
11
Хотя здесь есть значимые исключения. В частности, Ю.С. Степанов, как мы видели,
рассматривает концепт как эволюционирующую сущность.
12
Подробный анализ см. в четырнадцатой главе.
13
Обратим внимание, что, говоря о языковой картине мира, авторы активно используют понятие концепта. «Языковая картина мира формируется системой ключевых
концептов и связывающих их инвариантных ключевых идей (так как дают «ключ» к ее
пониманию). Ключевые для русской языковой картины мира концепты заключены в
таких словах как душа, судьба, тоска, счастье, разлука, справедливость (сами эти слова
тоже могут быть названы ключевыми для русской языковой картины мира). Такие слова
являются лингвоспецифичными (language-specific) – в том смысле, что для них трудно найти лексические аналоги в других языках. Наряду с такими культурно-значимыми
словами-концептами к числу лингвоспецифичных относятся также любые слова, в значение которых входит какая-то важная именно для данного языка (т. е. ключевая) идея»
(Зализняк и др. 2012, с. 12). Как видно, вопрос о различии слова и концепта и о путях
движения от слова к концепту авторами не ставится, и использование ими слова концепт порождает всю совокупность проблем, обсуждаемых выше.
14
Именно за такое обращение авторы критикуют А. Вежбицкую (Зализняк и др. 2012,
с. 613).
Глава 7. Концепт, концептосфера, языковая картина мира
157
О понятии перцептивных символов см. раздел 3.3 данной монографии.
Разумеется, нельзя отбрасывать описанные в работах по исторической семантике
лингвистичекие механизмы семантических изменений, такие как аналогия, влияние
грамматических конструкций (Bynon 1977; Anttila 1989), но они носят периферийный
характер.
17
Ср. у Пушкина: «Так старый хрыч, цыган Илья, / Глядит на удаль плясовую / Да чешет
голову седую, / Под лад плечами шевеля» (Отрывки, 1831).
18
Единственный фрагмент, дающий какие-то основания для такой связи – сказка
«Вольга-богатырь» из «Третьей русской книги для чтения», также стилизованная под
историческую песню.
15
16
�Глава 8. Социокультурная история метафоры механизма
Глава 8. Социокультурная история
метафоры механизма
Как уже отмечалось в четвертой главе, теория Лакоффа–Джонсона в ее
первоначальном виде почти полностью игнорирует социокультурную
составляющую метафоры1. Социокультурные исследования, упомянутые
там же, вводят в теорию важные дополнительные измерения, однако
большинство из них обладает двумя существенными недостатками.
Во-первых, теоретически допуская, что метафорическая система
языка может эволюционировать со временем, на практике они работают с ней как со статичной структурой. Когда та или иная первичная
метафора появляется в языке? Почему она появляется именно в этот
период, а не ранее или позднее? Такие вопросы не принято задавать в
данном контексте, однако они оказываются важными для понимания
социокультурной природы ряда базовых метафор. Например, метафора время – деньги (выраженная в таких оборотах как тратить время,
занимать время, транжирить время и т. д.) появляется в русском языке
лишь в середине XIX века одновременно с интенсивным развитием
капиталистических отношений и практически не встречается до этого2.
Хотя авторы теории когнитивной метафоры «по умолчанию» считают
эту метафору первичной3, мы видим ее глубинную связь с социальноэкономическим контекстом.
Во-вторых, крайне редко встречаются работы, в которых исследуется обратное влияние абстрактных понятий на формирование первичных метафор4. Утверждение о том, что движение от области-цели
к области-источнику – это движение от категорий базового уровня к
абстрактным категориям, не предполагающее обратного процесса,
воспринимается большинством исследователей концептуальной метафоры как трюизм.
Предваряя дальнейшее исследование, в качестве исключения из
указанного правила мне хотелось бы обратиться к работам Д. Герартса
и его коллег, анализирующим культурный контекст и эволюцию метафоры гнева как нагретой жидкости в сосуде (Geeraerts, Grondelaers
1995; Gevaert 2005; Geeraerts 2006, p. 227–251)5. В противоречии с рядом
159
работ, выводящих такие метафоры, как Он буквально вскипел от гнева,
из особенностей нашего физиологического состояния (когда мы в
гневе, мы ощущаем, как повышается температура нашего тела), Герартс
показывает, что они связаны с античной теорией четырех жидкостей
(черная желчь, желтая (красная) желчь, флегма и кровь), определяющих
жизнедеятельность организма, а также характер и поведение человека.
Гнев связан с холерическим темпераментом и преобладанием желтой
желчи в человеке. Эта теория оставалась базовой в Средние века и даже
в ранее Новое время. В частности, ее следы можно видеть в текстах
Шекспира. Позднее представление об эмоциональных процессах оторвалось от определяющей их физиологической почвы, но традиция
использования данной модели в языке осталась. При этом описанная
картина получила уже не буквальный, а метафорический смысл6. Общее
утверждение бельгийского исследователя состоит в том, что концептуальная метафора может возникать не только при описании новых
абстрактных областей, для которых необходимы точки опоры в перцептивном, проприоцептивном или социокультурном опыте, но и
когда буквальное значение трансформируется в метафорическое из-за
устаревания использующей это значение теории.
В проводимом ниже исследовании мы обратим внимание на другие
стороны того, как фундаментальная теоретическая рамка влияет на
формирование базовых метафор, обратившись к метафоре механизма.
Метафора механизма является системообразующей для западной
культуры Нового времени, до сих пор сохраняя свое значение в качестве
одного из базовых элементов западной культурной модели. Образы
человека, общества, мира в целом как сложноорганизованной машины
или конкретных типов машин в изобилии встречаются на страницах
философских и политических трактатов (Гоббс, Декарт, Лейбниц, Руссо и др.)7, наполняют художественные и публицистические тексты8.
Механистический вектор в восприятии мира и человека отчетливо прослеживается и в русской культуре, начиная с середины XIX века. В
качестве показательной иллюстрации можно обратиться к текстам
Л.Н. Толстого, мировоззрение которого, на первый взгляд, следует назвать антимеханистическим (одним из сквозных мотивов его творчества,
как известно, было противопоставление органических форм естественной жизни, таких как семья и община, механической формализованности политических и культурных институтов). Тем не менее, в его
мировоззрении заметны отчетливые механистические черты. Так, в
письме А.А. Толстой (18–20 октября 1857 г.), сопровождая свою модель
несколькими весьма выразительными чертежами, он описывает устройство человеческого мозга как системы движимых пружинами ящиков,
разделенных на две части коридором: «Ящики могут выдвигаться по
несколько с каждой стороны, оставляя проход в коридоре. Когда же, по-
�160
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
средством хорошей погоды, лести, пищеваренья и т. п. пожата правая
пружина, то все ящики сразу выскакивают, и весь коридор занимается
ящиками правой стороны… и наоборот, когда дождик, дурной желудок,
правда пожмут левую, тоже коридор весь загораживается… Кроме того,
надо знать, что каждый ящик имеет пропасть подразделений. Подразделения зависят от человека. У одного делятся на придворные и не придворные; у другого на красивые и не красивые; у третьего на умные и
глупые и т. д., и т. д., и т. д. У меня разделяются на воспоминания о хороших, очень хороших и серьезно хороших и людях ничего… Итак, едучи
верхом, пружина хорошего расположения пожалась, и ящики выскочили
все. В том числе и ваш ящик. Потом стали убираться понемногу, а ваш
ящик, бог знает по какому праву, выскочил весь, – стал поперек в коридоре и загородил всю дорогу» (Толстой 1965, с. 172–173)9. Другим показательным примером являются тексты отечественного историка
В.О. Ключевского, исторические взгляды которого также трудно упрекнуть в излишнем механицизме. Тем не менее, механистические метафоры весьма частотны в его текстах. Например: «На мировые события
летописец смотрит самоуверенным взглядом мыслителя, для которого
механика общежития не составляет загадки: ему ясны силы и пружины,
движущие людскую жизнь» (Ключевский 1987–1990, т. 1, с. 113); «Внук
Донского попал в такое счастливое положение, не им созданное, а им
только унаследованное, в котором цели и способы действия были достаточно выяснены, силы направлены, средства заготовлены, орудия приспособлены и установлены, – и машина могла уже работать автоматически,
независимо от главного механика» (Ключевский 1987–1990, т. 2, с. 46).
Целый ряд европейских и отечественных философов в XX – начале
XXI века пишут о серьезной опасности, связанной с подобными механистическими установками, и видят в них одну из основных причин
глубокого кризиса, в котором оказались современная им культура
(Гуссерль 1986 (1935); Хоркхаймер, Адорно 1997 (1948), с. 40–45; Гайденко 2003, с. 9–29).
Описанный мировоззренческий фон находит прямое отражение и
в теории концептуальной метафоры. Метафора механизма, основными
видами которой являются «тело – это машина», «мозг – это машина»,
«общество (государство, демократия и т. п.) – это машина», признается ее авторами одной из базовых (Johnson 1987, p. 130–131; Lakoff,
Johnson 1999, p. 247–255; Kövecses 2005, p. 11–112; Kövecses 2010,
p. 155–161). Следует отметить, что подобные метафоры широко распространены как в повседневной речи, так и в журналистике и в научной литературе10. В то же время, машина – это не человеческое тело
и во многих случаях ее работа скрыта от непосредственной перцепции.
Уже этот факт наводит на мысль, что для полноценного понимания
метафоры механизма мы должны учесть социокультурные факторы,
Глава 8. Социокультурная история метафоры механизма
161
сопровождающие ее появление и эволюцию. Крайне продуктивным и
во многом неожиданным в данном случае оказывается выход за пределы современности и обращение к истории культуры, или, точнее,
анализ формирования и эволюции данной метафоры в Античности и
Средневековье.
8.1. Семантические образы механизмов в классической
и поздней Античности
Говоря о семантических образах механизмов в Античности, мы должны,
прежде всего, заметить, что концептуализация мира и человеческой
деятельности тогда кардинально отличалась от привычной нам. В частности, труд скульптора, инженера, строителя и ремесленника воспринимался как единый тип деятельности и обозначался словом (искусство
или ремесло, другими словами, деятельность, осуществляемая руками)
в противоположность επιστμη (наука, знание, т. е. интеллектуальная
деятельность)11. В качестве яркого примера таких представлений можно
привести историю Дедала, знаменитого персонажа древнегреческой
мифологии. В соответствии с древними источниками, он был выдающимся скульптором (D.S. IV, 76, 1–3; Apollod. II, 6, 3; Paus. 7, 4, 4–7; 9,
11, 4–5: 9, 39, 8; 9, 40, 3–4), инженером (D.S. IV, 76, 1–9; Apollod. III, 1,
4), архитектором (D.S. IV, 76, 2). Эти, весьма различные для нас, виды
деятельности связывались идеей подражания природе. Вследствие этого, некоторые из его произведений, которые мы обычно воспринимаем
как механизмы (т. е., следуя традиционному определению, совокупности
взаимосвязанных элементов, предназначенные для передачи или преобразования механической энергии с целью совершения полезной работы), интерпретировались древнегреческой культурой в принципиально ином ключе. Античные авторы подчеркивали способность Дедала
подражать природе и восхищались точностью подражания (D.S. IV, 76,
2; Apollod. II, 6, 3). Искусство Дедала не было искусством воздействия
на природу и преобразования ее для человеческих нужд, оно было искусством подражания природе. Это относится и к наиболее популярному «механическому» творению Дедала – созданной им деревянной корове. Слово «механический» здесь не случайно взято в кавычки. Хотя
Диодор Сицилийский называет это создание Дедала μηχνημα (механическое устройство) в противоположность (изображение, изваяние)
или γαλμα (статуя), – словам, которые обычно использовались для
наименования творений Дедала в древнегреческих текстах, – главная
цель этого «механического устройства» состояла не в том, чтобы совершать полезную работу, а в том, чтобы посланный Посейдоном Миносу
бык воспринял созданную Дедалом корову как настоящую и пожелал
совокупиться с ней (Apollod. III, 1, 4; D.S. IV, 77, 1–2).
�162
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Учитывая сделанные замечания, я определяю семантические образы механизмов как семантические структуры слов, соответствующих
объектам, которые функционировали в качестве механизмов (в современном понимании) в повседневной жизни древних греков, хотя
интерпретация этих объектов древнегреческой культурой могла существенно отличаться от привычной нам. Обращаясь к словарю
Лидделла–Скотта (Liddell, Scott 1961), мы находим только пять семантически связанных с механизмами слов, сколько-нибудь частотных в
древнегреческих текстах: μηχαν, μηχανομαι, μηχανε, μηχνημα и,
до определенной степени, μηχανικ. Наиболее важным из них является μηχαν, появляющееся в этих текстах порядка 260 раз12. Следуя
Лидделлу и Скотту, его первым значением является «механическое
приспособление, устройство (contrivance), в первую очередь, машина
для подъема грузов» с выделением специальных случаев: «осадная
машина», «театральная машина, благодаря которой боги появлялись в
воздухе во время спектакля»13. Например, Он (Перикл – В.Г.) построил
также осадные машины (κατεσκεασε δ κα μηχαν), называющиеся
«бараны» и «черепахи», сделав это первым из всех. Построил их ему Артемон из Клазомен. Осаждая город с удвоенной энергией и разрушив
стены осадными машинами (τα μηχανα καταβαλν τ τεχη), он подчинил себе Самос14 (D.S. XII, 28, 3)15.
Данный пример показывает, что действия осадной машины вполне
удовлетворяют современному определению механизма: она совершает
полезную для ее создателей работу, преобразуя механическую энергию.
В данном случае машина не подражает природе, она выполняет «техническую» функцию, служа средством для достижения главной цели:
подавить сопротивление осаждаемого врага. Подчеркну, что подобных
описаний в древнегреческих текстах довольно много. Следуя современным метафорическим схемам (мозг – это компьютер и т. д.), мы
могли бы ожидать здесь появления таких метафор, как σμα – это
μηχαν (тело – это машина), например, его руки работали как осадная
машина. Однако расширение базового значения происходит в принципиально ином направлении.
В соотвествии со словарем Лидделла-Скотта, второе значение
μηχαν – «хитроумное изобретение, конструкторская идея». Проиллюстрируем его примером из платоновского «Пира»: И вот Зевс и
прочие боги стали совещаться, как поступить с ними (людьми – В.Г.),
и не знали, как быть: убить их, поразив род людской громом, как когда-то
гигантов, – тогда боги лишатся почестей и приношений от людей; но и
мириться с таким бесчинством тоже нельзя было. Наконец Зевс, насилу
кое-что придумав, говорит:
– Кажется, я нашел способ (δοκ μοι χειν μηχανν) и сохранить
людей, и положить конец их буйству, уменьшив их силу. Я разрежу каж-
Глава 8. Социокультурная история метафоры механизма
163
дого из них пополам, и тогда они, во-первых, станут слабее, а во-вторых,
полезней для нас, потому что число их увеличится. И ходить они будут
прямо, на двух ногах. А если они и после этого не угомонятся и начнут
буйствовать, я, – сказал он, – рассеку их пополам снова, и они запрыгают у меня на одной ножке (Pl. Sym., 190с, пер. С.К. Апта) 16.
Два указанных значения исчерпывают культурные смыслы, стоящие
за употреблением μηχαν в древнегреческих текстах. Мне не удалось
найти в этих текстах метафор «мир – это механизм», «тело – это механизм», «общество – это механизм» или иных концептуальных метафор в смысле Лакоффа и Джонсона. Мы видим, что первое значение
связывает со вторым идея оригинального конструкторского решения.
Сначала мы наблюдаем метонимический сдвиг от самих устройств,
выступающих для μηχαν в качестве прототипов (в первую очередь,
осадная машина) к замыслам их создателей, а затем метафорическое
расширение значения от моделей для создания механизмов подобного
рода до любого находчивого решения нестандартной проблемы. Другими словами, μηχαν для древних греков – это, в первую очередь,
с л о ж н о у с т р о е н н ы й продукт человеческой деятельности, результат и з о б р е т а т е л ь н о с т и человека. Компонент «устройство
д л я в ы п о л н е н и я п о л е з н о й р а б о т ы » оказывается на глубокой периферии этой семантической структуры.
Возникает естественный вопрос о причинах сложившейся ситуации.
Можно было бы попытаться объяснить данный факт незначительной
ролью машин в социальной и экономической жизни Древней Греции,
однако эта роль оказывается вполне весомой для того, чтобы рассматривать μηχαν как образец для оригинальной, нестандартной идеи
или действия. Более того, в дальнейшем мы покажем, что в данном
случае прямая зависимость между социально-экономической ситуацией и появлением новых метафорических моделей отсутствует. Причины здесь следует искать в трех фундаментальных культурных установках, в значительной степени определивших облик древнегреческой
культуры.
Во-первых, древние греки воспринимали космос17 (κσμο) как
наиболее совершенную сущность и человека как космос в миниатюре,
микрокосм. Так, Платон утверждал, что «бог, пожелавши возможно
более уподобить мир (κσμο) прекраснейшему и вполне совершенному
среди мыслимых предметов, устроил его как единое видимое живое существо, содержащее все сродные ему по природе живые существа в себе
самом» (Pl., Tim. 30d–31a, пер. С.С. Аверинцева) и говорил о его максимально возможном совершенстве. Аристотель полагал, что νο (Ум)
«как действующее начало в космосе представляется наиболее божественным (Ξειτατον) из всего являющегося нам» (Arist. Metaph. XII 1074b16–
17, пер. А.В. Кубицкого) и все вещи стремятся к нему как к высшему
�164
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
совершенству (там же, 1072a20–1073b13). В этом аспекте природные
создания принципиально отличаются от рукотворных объектов. По
Аристотелю, каждый природный объект «имеет в самом себе начало
движения и покоя, будь то в отношении места, увеличения и уменьшения
или качественного изменения», в противоположность таким вещам, как
ложе, плащ и т. д., которые «поскольку образованы искусственно, не
имеют никакого врожденного стремления к изменению» (Arist. Phys. II
192 b8–30, пер. В.П. Карпова). Другими словами, между вещами, возникшими естественно, и вещами, возникшими искусственно, существует громадное различие, и первые намного более совершенны, чем
последние, в силу их значительно большей самодостаточности и независимости от внешних факторов.
Во-вторых, одной из определяющих черт полиса как экономической, политической и социальной системы была жесткая оппозиция
между свободными и рабами, которая имела онтологические основания. Считалось, что рабы рождены для выполнения грубой физической
работы, тогда как свободные – для осуществления различных форм
интеллектуальной деятельности18. Это представление проясняет оппозицию естественное – искусственно созданное: вещи, существующие
по природе, имеют начало своих действий в самих себе (соответствуя
в этом отношении свободным людям), в то время как искусственно
созданные объекты, как и рабы, движимы внешней силой. Кроме
этого, оно порождает еще одну фундаментальную черту античной системы ценностей: созерцание идеальных структур и искусство управления оказываются гораздо более совершенными видами деятельности,
чем создание или преобразование материальных объектов. Так, упомянутый выше νο «мыслит сам себя через сопричастность предмету
мысли: он становится предметом мысли, соприкасаясь с ним и мысля его,
так что ум и предмет его – одно и то же» (Arist. Metaph. XII 1072
b19–23, пер. А.В. Кубицкого)19. Созерцание является также высшей
формой деятельности для людей (Arist. Eth. Nicom. 1177a17–20)20. Возможно, одной из наиболее удачных иллюстраций такого пренебрежения к ручному труду является высказывание Плутарха: «Кто занимается лично низкими предметами, употребляя труд на дела бесполезные,
тот этим свидетельствует о пренебрежении своем к добродетели. Ни
один юноша, благородный и одаренный, посморев на Зевса в Писе, не пожелает сделаться Фидием, или, посмотрев на Геру в Аргосе – Поликлетом, а равно Анакреонтом, или Филемоном, или Архилохом, прельстившись
их сочинениями: если произведение доставляет удовольствие, из этого еще
не следует, чтобы автор его заслуживал подражания» (Plut. Per. 2.1–2,
пер. С.И. Соболевского).
И, в третьих, следует отметить еще одну важную черту древнегреческой культуры, относящуюся к идее изобретательности, которая
Глава 8. Социокультурная история метафоры механизма
165
обычно связывается в текстах с внезапным озарением, ведущим к решению сложной проблемы. Как кажется, эта черта объясняет направление описанного выше семантического сдвига от прямого значения
μηχαν к переносному. Речь идет о культурной функции мантиса
(μντι), т. е. прорицателя, предсказателя, деятельность которого имела в древнегреческом обществе важнейшее социальное значение.
Мантисы истолковывали оракулы богов, знаки, оставляемые богами
людям, и такая способность улавливания и правильной интерпретации
божественной воли, такая «чувствительность к трансцендентному»
была присуща не только им, но и ряду почитаемых политиков и военачальников, и в целом, с точки зрения греков, отличала их от других
народов21. Более того, эта способность потом была перенесена на природу, и с Геродота объяснение различных «загадок» природы, таких как
разливы Нила или прочность египетских черепов, проникает на страницы исторических и философских текстов (см, напр.: Her. 2.19–22,
3.12)22. В описанных рамках деятельность инженера и художника оказывается амбивалентной: с одной стороны, продукты этой деятельности – не более, чем бледные копии реальности, с другой – искусство
подражания природе, опирающееся на умение отгадывать ее загадки,
воспринимается как важная способность, присущая человеку, и остается в памяти культуры.
Резюмируя проведенный анализ, подчеркнем, что три выделенных
фундаментальных элемента определили специфику семантических
образов механизмов в Древней Греции.
Ситуация в римской культуре напоминала описанную выше. В соответствии с данными Оксфордского латинско-английского словаря
(OLD 1968), мы можем найти в латинском языке следующие слова с
нужной семантикой: machina, machinatio, machinor и, до некоторой
степени, machinatus, machinator, machinamentum. Machina – наиболее
частотное и наиболее важное из них. Его базовым значением является
«механизм, т. е. искусственно сделанное устройство для совершения
работы», что вполне соответствует древнегреческому случаю. Второе
значение также тесно коррелирует с древнегреческим: «схема, план,
изобретательная выдумка, особая уловка, хитроумный трюк». Более
подробный анализ текстов показывает близкое соответствие семантических структур греческого μηχαν и латинского machinа, и позволяет
заключить, что, несмотря на неоднократно подчеркиваемый римлянами практический характер их восприятия мира, механистические метафоры здесь не более популярны, чем в Древней Греции. Одним из
очевидных объяснений этому может служить значительное влияние,
которое древнегреческая культура в целом оказала на римскую23.
За исключением единственного фрагмента из поэмы Лукреция «О
природе вещей» мне не удалось найти в римских текстах таких метафор,
�166
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
как «мир – это машина», «человек – это машина», «социум – это машина». При этом фрагмент Лукреция достаточно интересен, чтобы
остановиться на нем подробнее:
Впрочем, не буду томить я тебя обещаньями дольше.
Прежде всего, посмотри на моря, на земли и небо;
Все эти три естества, три тела отдельные, Меммий,
Три столь различные формы и три основные сплетенья
Сгинут в какой-нибудь день, и стоявшая долгие годы
Рухнет громада тогда, и погибнет строение мира (multosque per annos
sustentata ruet moles et machina mundi).
(5.91–96, пер. Ф.А. Петровского)
Образ machina mundi, как мы уже отмечали, не встречается ни у
древних греков, ни у римлян, так как противоречит ряду базовых установок античной культуры. Тем не менее, он прекрасно соотносится с
атомистической парадигмой Лукреция. Исходя из этой парадигмы,
каждая вещь представляет собой систему, состоящую из множества
связанных между собой элементов (атомов), т. е. нечто соответствующее
по своей структуре механизму. Однако даже у Лукреция данное место –
единственное, где присутствует подобная метафора, да и здесь речь
скорее идет о громадных размерах мира (moles et machina mundi), чем о
его структуре.
Подводя итог, мы можем сказать, что концептуальные метафоры
механизма отсутствуют в Античности.
текста приблизительно равны. Такой анализ даст нам возможность
проследить семантические трансформации machina при переходе от
Античности к раннему Средневековью и его дальнейшую семантическую эволюцию в западной средневековой культуре.
Результаты анализа представлены в таблице 3. В таблице приведены число появлений слова machina в любой из форм в каждом из
выделенных значений, общее число появлений и выраженная в процентах относительная частота. Также в ней указано число авторов,
употребляющих это слово в данном значении, их частота по отношению к авторам, употребляющим его в каком-либо из значений в
данных томах Патрологии, а также по отношению к общему числу
авторов, представленных в этих томах. Статистика приведена отдельно для 1–47 и 182–221 тт. Так, запись «14 авторов (41,1%, 13,9%)»
означает, что в 1–47 тт. слово machina в первом значении употребляет 14 авторов, что составляет 41,1% от числа авторов, употребляющих
его в этих томах, и 13,9% от общего числа авторов, представленных
в них.
Приведенные данные требуют развернутого комментария, который
мы начнем с т. 1–47. Как видно, 34 автора (т. е. 36,6 % от общего числа авторов, представленных в этих томах) используют слово machina
по крайней мере однажды, общее число появлений слова в данном
массиве текстов – 12725.
Таблица 3. Частотные характеристики лексемы machina и ее семантических кластеров в Средние века
8.2. Семантические образы механизмов
в западном средневековье
В Средние Века положение дел кардинально изменяется. Для того,
чтобы продемонстрировать характер и масштаб происходящих в этот
период трансформаций, мы обратимся к наиболее полному, видимо,
на данный момент собранию теологических, исторических, философских текстов с начала II-го по XIII столетие – к латинской Патрологии
Миня (в дальнейшем, PL)24. Тщательное исследование семантических
образов механизмов, представленных во всех 220 томах собрания, потребовало бы, по крайней мере, монографии, поэтому я ограничусь
анализом всех случаев употребления слова machina в 1–47-м и 182–
221-м томах Патрологии. Первая выборка включает в себя авторов от
Тертуллиана до Августина, т. е. тексты с конца II-го по первую треть
V века, вторая – авторов от Бернара Клервоского до папы Иннокентия III, т. е. тексты XII века. Эти подборки соответствуют 1-му и 5-му
CD в электронном издании Патрологии, т. е. объемы анализируемого
167
Глава 8. Социокультурная история метафоры механизма
Т. 1-47 (конец
2-го – первая
треть 5-го вв.)
Т. 182-221
(12 в.)
Осадная
машина,
машина для
поднятия
грузов и т. д.
Хитроумный
замысел или
действие,
коварная идея
Физический
или социальный
объект (мир,
тело, церковь
и т. д.) как
механизм
Всего
46 случаев
(36,2%),
14 авторов
(41,2%,
13,9%)
57 случаев
(44,9%), 18
авторов (53%,
17,8%)
24 случая
(18,9%),
14 авторов
(41,2%, 13,9%)
127 случаев,
34 из
101автора
(36,6%)
169 случаев
(55,8%),
30 авторов
(37%, 19,5%)
67 случаев
(22,1%),
31 автор
(38,3%,
20,1%)
67 случаев
(22,1%),
31 автор
(38,3%, 20,1%)
303 случая,
81 из 154
авторов
(52,6%)
Первая группа значений совпадает с античной: осадная машина,
машина для поднятия грузов и т. д. Например, «Отброшенный им (Иосифом Флавием – В.Г.), Веспасиан вновь возвращается к осаде города,
сотрясает стены осадными машинами (machinis murum quatit) и таранит
�168
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
их» (Ambrosius Mediolanensis, De exidio urbis Hierosolymitanae, I, 10; PL
015, 2079B).
Вторая группа значений, на первый взгляд, также напоминает
античную: хитроумный замысел, коварная идея. Однако более внимательный взгляд выявляет и существенные расхождения между
ними. Прежде всего, мы можем заметить, что система связей между
первой и второй группами в Средние века заметно отличается от
античной. В Античности эти группы связывала идея изобретательности, находчивости, в Средневековье ситуация заметно иная: такие
процессы, как битва, осада, строительство здания, переносятся на
абстрактные сущности и становятся областью-источником для концептуальной метафоры. Приведу две иллюстрации данного утверждения:
«Ты поступил очень основательно и заботливо, милейший брат, отправив к нам аколита Никифора, который передал нам радостную весть
о славном возвращении исповедников и вполне оснастил нас против новых
губительных замыслов Новатиана и Новата, готовящих нападение на
Церковь Христову (adversus Novatiani et Novati novas et perniciosas ad
impugnandam Christi Ecclesiam machinas plenissime instrueret)» (Cornelius
papa, Epistola VII; PL 003, 725B–726A);
«Укреплен ведь Град Божий… Он защищен со всех сторон башнями,
откуда может быть замечен Дьявол, если начнет приближаться. Есть
у Дьявола войска, которыми он пользуется, чтобы осаждать обитающие
в Граде Божьем души, подводить осадные машины (consuevit admovere
machinas) для захвата укрепленных башен» (Ambrosius Mediolanensis,
Enarrationes in XII psalmos Davidicos; PL 014, 1154C).
Хотя метафоры осады или битвы не исчерпывают весь спектр возможностей в данной группе значений, они наглядно демонстрируют
две важные черты в задающей ее семантической структуре. Во-первых,
хитроумная идея в этих фрагментах – это не внезапное озарение, наподобие мысли, неожиданно пришедшей на ум Зевсу в «Пире» Платона, это замысел с весьма сложной и продуманной структурой, система
рационально связанных элементов, ментальная конструкция. Вовторых, такой замысел обычно трактуется источником негативно.
Обычно авторами machina в этом значении являются Дьявол и другие
враги Бога (40 случаев из 57; 70,2%). Христианской доблестью является простота, а не изобретательность и хитрость.
Вторая подгруппа значений в рамках данной группы обращает нас
к метафоре строительства. Она наиболее частотна у Августина. Так, в
одной из своих проповедей он проводит параллель между Рождеством,
земной жизнью и Распятием Христа и инструментами, используемыми
в строительстве. Эти инструменты выполняют вспомогательную функцию и отбрасываются после того, как здание построено, однако, здание
Глава 8. Социокультурная история метафоры механизма
169
будет стоять века; аналогично, земная жизнь Христа – это инструмент
(machinа) для того, чтобы построить здание христианской церкви, возглавляемой Христом, восседающим на небе26.
Важно отметить, что парадигмой для метафоры строительства здесь
оказывается творение мира Богом, который выступает в данном контексте как гениальный инженер и вдохновенный мастер, создавший
вещь, громадную по размерам и невероятно сложную по организации.
Яркой иллюстрацией сделанного утверждения является следующий
фрагмент «Исповеди» Августина: «Как же создал Ты небо и землю,
каким орудием пользовался в такой великой работе (quae machina tam
grandis operationis tuae)? Ты ведь действовал не так, как мастер, делающий одну вещь с помощью другой. Душа его может по собственному
усмотрению придать ей тот вид, который она созерцает в себе самой
внутренним оком. А почему может? Только потому, что Ты создал ее.
И она придает вид веществу, уже существующему в каком-то виде,
например земле, камню, дереву, золоту и тому подобному, а если бы Ты
не образовал всего этого, откуда бы оно появилось? Мастеру тело дал
Ты; душу, распоряжающуюся членами его тела, – Ты; вещество для его
работы – Ты; талант, с помощью которого он усвоил свое искусство и
видит внутренним зрением то, что делают его руки, – Ты; телесное
чувство, которое объясняет и передает веществу требование его души
и извещает ее о том, что сделано, – Ты; пусть она посоветуется с истиной, которая в ней живет и ею руководит, хороша ли работа. И всё
это хвалит Тебя, Создателя всего» (Aug. Conf. 11, V, 7; PL 32, 811; пер.
М.С. Сергеенко).
Этот фрагмент наглядно показывает, что все акты человеческого
творчества, все проявления и воплощения творческой энергии человека для Августина – лишь бледные тени процесса божественного
творения, и что Бог-Творец здесь – высший авторитет для ЧеловекаТворца. Такой образ Бога помогает нам понять структуру третьей
группы значений. Космос и его части, воспринимавшиеся как самодостаточные сущности в Античности, превращаются теперь в творения Бога, обозначаемые как machinae. Наиболее часто так называется универсум (mundus) (12 случаев из 24; 50%), но также небо (coelum)
(6 случаев; 25%), тело (corpus) (5 случаев; 20,8%), животное (animal)
(1 случай; 4,2%)27. Следует обратить внимание на принципиальную
разницу между данной и предыдущей группами значений: такие сущности, как универсум, не являются инструментами в традиционном
смысле, они не используются для практических целей, таких, как
строительство, например. Обычно о них говорится как о самостоятельных творениях Бога. В связи с этим возникает вопрос о причине,
по которой они называются machinae28. Кажется, что универсум, небо
и другие творения Бога могут быть рассмотрены как инструменты в
�170
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
более широком смысле. О них можно говорить как об орудиях для
реализации Божественного замысла, неизвестного людям. Здесь мы
сталкиваемся с кардинальной трансформацией античных представлений о космосе и его частях. Как уже отмечалось, в античной культуре и космос в целом, и любой природный объект мыслились как
самодостаточные сущности, имеющие причину своего движения и
изменения в самих себе29. В средневековой культуре причина их движения приобрела внешний характер, оказавшись за их пределами,
другими словами, природные объекты стали подобны механизмам по
своей структуре.
Подведем промежуточный итог сделанным наблюдениям. Мы
видели, что семантическая структура слова machina существенно изменяется при переходе от Античности к Средним векам. В частности,
в средневековых текстах мы находим концептуальные метафоры трех
типов, связанные с этим словом: метафора замыслов (обычно, нечестивых) как осадной машины, метафора духовного строительства
как строительства в материальном мире и духовного акта как вспомогательного инструмента в этом строительстве и метафоры мира,
неба, тела, животного как механизмов. Эти трансформации сложно
объяснить сдвигами в социально-экономической сфере: период с
конца II по первую треть V в. известен как закат Римской империи,
и характеристика его как времени технологического прогресса звучала бы странно. Более того, проанализированные выше тексты не
оставляют никакого сомнения в том, что технологический базис для
новых метафор остался таким же, как и в Античности (осадные машины и т. д.). Изменения, которые происходят, затрагивают наиболее фундаментальные константы культуры, открывая новые возможности для интерпретации старых объектов. Трансформация базовых элементов культурной модели от Античности к Средним векам
ведет к большому числу локальных трансформаций и обеспечивает
актуализацию связей, которые до этого находились в латентном состоянии.
Анализ текстов XII века подтверждает и уточняет сделанные наблюдения. Легко заметить, что и число появлений слова machina в
текстах, и процент употребляющих это слово авторов заметно возрастает. Семантические модели, которые были неочевидными и предполагали наличие специальных контекстов в раннем Средневековье,
теперь воспринимаются как привычные и используются без специальных оговорок в широком круге текстов. Обратимся к более подробному анализу.
Из таблицы 3 видны два значительных изменения в семантических
«весах» трех выделенных групп значений в сопоставлении с периодом
конца II – первой трети V века30.
Глава 8. Социокультурная история метафоры механизма
171
Во-первых, вторая группа в определенной степени теряет свою
значимость (мы видим одновременно уменьшение и числа авторов, и
числа употреблений). Этот факт может быть объяснен институциональной и догматической консолидацией Западной церкви. Изматывающая борьба с ересями постепенно отходит в историю, христианская
доктрина обретает жесткий каркас. В связи с этим метафоры осады и
битвы становятся менее востребованными.
Во-вторых, третья группа становится более влиятельной: и общее
число употреблений, и процент авторов (по отношению ко всем авторам, представленным в данных томах) ощутимо возрастают, и такие
выражения, как machina mundi, rerum machina используются уже почти
как клише31. Спектр объектов, к которым применяется метафора механизма, выглядит следующим образом: универсум (mundus) – 51
случай из 67 (76,1%); Церковь (Ecclesia) – 8 случаев (11,9%)32; тело
(corpus) – 4 случая (6%)33; небо (coelum) – 2 случая (3 %)34; человечество
(humanitas) – 1 случай (1,5 %)35; храм (templum) – 1 случай (1,5 %)36.
Относительным изменением по сравнению с аналогичным спектром
конца II – первой трети V века оказывается трактовка авторами, принадлежащими данному периоду, Церкви как механизма. Вот краткая
иллюстрация подобного употребления:
«Несущие колонны в этом доме – епископы, поддерживающие здание
Церкви (machinam Ecclesiae) словом и делом» (Sicardus Cremonensis, Mirale
sive Summa de officiis ecclesiasticus; PL 213, 22B).
Обратим внимание на любопытную инверсию, произошедшую в
области-источнике: если в Античности механизмы воспринимались
как скульптурные или архитектурные объекты, то теперь архитектурные сооружения называются machinae. Это, разумеется, частная, но
весьма показательная иллюстрация описанных выше трансформаций
базовых элементов культурной модели от Античности к Средним
векам.
8.3. Дальнейшая эволюция метафоры механизма
Дальнейшая история эволюции механистических метафор хорошо
известна. Такие метафоры как «мир – это машина», «человек – это
машина», «тело – это машина» становятся широко распространенными в эпоху Ренессанса (например, в трактатах Леонардо да Винчи)37
и раннего Нового времени и, как уже отмечено в начале данной главы,
в значительной степени формируют облик европейской философии
и политической мысли XVII–XVIII веков. Труды Декарта, Лейбница,
французских просветителей, политические трактаты Гоббса и Руссо
насыщены подобными метафорами, которые начинают проникать из
философских текстов также и в повседневную жизнь38. Однако основания для их интенсивного роста заложены в христианской культурной
�172
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
модели. Для иллюстрации этого утверждения я хотел бы обратиться к
философии Лейбница. Он неоднократно называет тело и душу
automata39, т. е. считает их механизмами определенного рода, и полагает, что они не могут взаимодействовать непосредственно, обосновывая согласованность их действий законом предустановленной
гармонии:
«Таким образом, будучи с самого начала убежден в принципе гармонии
вообще и, следовательно, в п р е ф о р м а ц и и и предустановленной гармонии между всеми вещами, между природой и благодатью, между решениями Бога и нашими предвидимыми действиями, между всеми частями
материи и даже между будущим и прошедшим, – будучи убежден в полном
согласии всего этого с высочайшей мудростью Бога, деяния которого находятся в величайшей гармонии, какую только можно себе представить,
я не мог не прийти к этой системе, согласно которой Бог с самого начала
создал душу в таком виде, что она развивается и в строгом порядке представляет все, что совершается в теле, а тело – в таком виде, что оно
само собой исполняет то, что требует душа. И это совершается таким
образом, что законы, приводящие мысли души в порядок для достижения
конечных целей сообразно с развитием представлений, должны вызывать
образы, гармонирующие и согласующиеся с телесными впечатлениями в
наших органах; равным образом и законы движения в теле, обнаруживающиеся в порядке действующих причин, тоже гармонируют и согласуются
с мыслями души так, что тело вынуждено действовать именно в то время,
когда этого желает душа.
И эта теория не только не причиняет ущерба свободе, но даже наиболее благоприятна ей. Г-н Жакло в своей книге о соответствии разума
и веры очень хорошо показал, что это совершается так же, как если бы
кто-либо, зная все то, что я прикажу на другой день своему слуге, сделал
автомат, который был бы совершенно похож на этого слугу и который
на другой день со всей точностью выполнил бы то, что я ему прикажу…
Как тот автомат, который исполняет функции слуги, будет зависеть
от меня идеально, в силу знания того, кто, предвидя мои будущие приказания, сделал его способным служить мне с определенного момента на
весь следующий день, так и знание моих будущих желаний побуждает к
деятельности того великого творца, который затем создаст автомат:
мое влияние при этом будет объективное, а его – физическое. Ибо поскольку душа обладает совершенством и отчетливыми мыслями, Бог
приноровил тело к душе и заранее устроил его так, что оно расположено
исполнять приказания души; а поскольку душа несовершенна и ее представления смутны, Бог приноровил душу к телу таким образом, что душа
увлекается страстями, возникающими из телесных представлений; этото и производит такое действие и такое кажущееся состояние, как
будто бы одно зависит от другого непосредственно и в силу физического
Глава 8. Социокультурная история метафоры механизма
173
влияния. Именно посредством этих смешанных мыслей душа представляет себе окружающие ее тела» (Лейбниц 1989 (1710), с. 167–1694; пер.
К. Истомина).
Я думаю, не будет большим преувеличением сказать, что модель
Лейбница в основе своей представляет собой весьма изощренную
философскую актуализацию новых возможностей, открытых христианством в Средние века. Идея предустановленной гармонии и, в частности, метод гармонизации действий тела и души выглядят как трансформация средневекового образа Бога-Творца, предельного основания
всех событий и действий, осуществляющихся в мире.
В заключение вернемся к двум обозначенным в начале главы проблемным полям и подведем общие итоги.
Первый из выводов относится к области философии и истории
культуры. Проведенный анализ показывает, что авторы инвектив,
осуждающих культуру Нового времени за крайний рационализм и
механицизм, заметно упрощают ситуацию. Истоки этого механицизма
и рационализма находятся в культуре Средних веков, опиравшейся на
христианскую мировоззренческую парадигму40. Безусловно, актуализация новых возможностей, предоставляемых христианством, могла
осуществляться по-разному, и ее интенсивность прочно связана с происходящими в XIII–XVIII веках социально-экономическими и социокультурными процессами41. Однако сделанное замечание не отменяет
общего тезиса о значимости христианских истоков механистического
мировоззрения.
Второй вывод относится уже непосредственно к теории концептуальной метафоры Лакоффа – Джонсона. Анализируя эволюцию
таких метафор, как «мир – это машина», «тело – это машина», «животное – это машина», мы видели, что причины их появления и
дальнейшей трансформации не связаны непосредственно с сенсомоторным опытом человека или с его социально-экономической деятельностью. Их основанием послужили такие абстрактные и далекие
от повседневной жизни культурные сценарии, как творение Богом
мира42. Следовательно, базовые постулаты теории Лакоффа и Джонсона оказываются не всегда корректными и требуют дополнения и
уточнения.
Конкретизируем последнее утверждение. На первый взгляд, между
проведенным в работе анализом и основами теории концептуальной
метафоры нет существенного расхождения. Мы имеем дело с типичной
концептуальной метафорой: область-источник (конструирование,
структура и работа машины), область-цель (творение Богом мира) и
система проекций первой области на вторую. Однако такая схема носит слишком общий характер и немногое объясняет в процессе метафоризации. Во-первых, деятельность машины может задавать разные
�174
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
направления концептуализации. В Античности, как мы видели, это
направление выразилось в идее оригинального замысла, изобретательного решения. То, какие элементы в семантической структуре слова
актуализируются, определяется весьма сложной системой факторов, в
которой в данном случае доминируют абстрактные культурные сценарии. Другими словами, то, что мир воспринимается как machina, связано не с возросшей ролью механизмов в повседневной жизни, а с тем,
что представления о структуре космоса кардинально изменились, и
здесь, скорее, область-цель выступила в качестве генератора трансформаций, ища для себя подходящую область-источник. Во-вторых,
будучи первоначально производным от работы конкретных механизмов, представление о мире как механизме и Боге как его творце, гениальном Инженере, в дальнейшем стало для культуры базовым и превратилось в основание для других метафор, т. е. переместилось в
область-источник из области-цели.
Если распространить высказанные идеи на процесс семантической
эволюции в целом, следует обратить внимание на еще одно слабое
место в модели Лакоффа–Джонсона. Эта модель исходит из представления о языке как гомогенном с социокультурной точки зрения
образовании. Однако такое допущение оказывается слишком сильным
для построения динамической семантической теории, отражающей
эволюцию языка не как вневременной структуры, а в режиме «реального времени». Лакофф и Джонсон опираются на представление о
языке, едином для всех представителей одного языкового ареала,
универсальном средстве внутрикультурной коммуникации. Однако в
таком языке можно выделить области, связанные с различными типами деятельности, различными коммуникативными моделями. Заметно упрощая ситуацию, проиллюстрирую основную идею на примере трех подструктур: повседневный язык, отражающий повседневную жизнь; философские тексты, за которыми стоят базовые для
культуры мировоззренческие идеи; художественная литература, также формирующая мировоззренческие и поведенческие нормы, но не
с помощью теоретических конструкций, а посредством художественных образов. Каждая из этих подструктур обладает определенной
степенью самостоятельности и одновременно возможностью экспансии в другие области, открывающей новые возможности для
укоренившихся там культурных и семантических моделей. И хотя
движение от повседневного языка к философским и литературным
текстам является, видимо, доминирующим, мы не должны забывать
и об обратных процессах, также весьма существенных для понимания
эволюции лексической системы в целом43. Лишь когерентный анализ
эволюции всех базовых подсистем, учитывающий их влияние друг на
друга, даст нам возможность корректного динамического описания
Глава 8. Социокультурная история метафоры механизма
175
лексической системы языка. Частично эта проблема будет затронута
в 11 главе.
Примечания
Содержание данной главы в значительной степени воспроизводит работы Глебкин
2012, Glebkin 2013.
2
Это утверждение обосновано в курсовой работе П. Зябухиной «Метафора “время –
деньги” в русской литературе», выполненной в 2009 г.
3
См., напр.: Lakoff, Johnson 1980, p. 7–9, а также Kövecses 2005, p. 142–151.
4
Взаимовлияние области-цели и области-источника анализируется, хотя и в ином контексте, в работе: Barnden et al. 2004.
5
См. также любопытную работу Pagán Cánovas 2011.
6
Похожие идеи лежат в основе работы: Sweetser 1990 (см., напр.: р. 32–48).
7
Характерным образцом, демонстрирующим тотальность механистической модели,
являются первые строки «Левиафана» Гоббса: «Человеческое искусство (искусство, при
помощи которого Бог создал мир и управляет им) является подражанием природе как во
многих других отношениях, так и в том, что оно умеет делать искусственное животное. Ибо, наблюдая, что жизнь есть лишь движение членов, начало которого находится в
какой-нибудь основной внутренней части, разве не можем мы сказать, что все автоматы
(механизмы, движущиеся при помощи пружин и колес, как, например, часы) имеют искусственную жизнь? В самом деле, что такое сердце, как не пружина. Что такое нервы, как
не такие же нити, а суставы – как не такие же колеса, сообщающие движение всему телу
так, как этого хотел мастер? Впрочем, искусство идет еще дальше, имитируя разумное
и наиболее превосходное произведение природы – человека. Ибо искусством создан тот великий Левиафан, который называется Республикой, или Государством (Commonwealth, or
State), по-латыни – Civitas, и который является лишь искусственным человеком, хотя и более крупным по размерам и более сильным, чем естественный человек, для охраны и защиты
которого он был создан» (пер. А. Гутермана, Гоббс, 1991 (1651), с. 6).
8
См. об этом, напр.: Mac Cormac 1985; Haken etc. 1993; Cook 2007; Goalty 2007, p. 100–118.
9
Ср. проанализированный в четвертой главе фрагмент из «Войны и мира», где описываются психологические переживания Николая Ростова, возвращающегося домой из
армии, а также фрагмент из дневника Толстого: «В глубокой старости обыкновенно думают и другие и часто сами старики, что они только доживают век. Напротив, в глубокой
старости идет самая драгоценная, нужная жизнь и для себя, и для других. Ценность жизни
обратно пропорциональна в квадратах расстояния от смерти. Хорошо бы было, если бы это
понимали и сами старики, и окружающие их» (18 февраля 1906 г.).
10
Приведу два примера из современного русского языка: В Европе последующие реформы воздвигнутых революцией институтов восстанавливают равновесие и систему сдержек внутри государственной машины, а также между государством и гражданским обществом…(С. Пашин. Краткий очерк судебных реформ и революций в России. 2003); Но
мне плевать на это, лишь бы не мешало работе, не сбавляло темпа, мозг прямо-таки живой
компьютер, главное, чтобы никто не помешал, иначе собьешься, и тогда прощай порыв...
(Ю. Азаров. Подозреваемый. 2002)
11
Подробный анализ понятия τχνη см., напр., в работах: Roochnik 1996, Roberts 2007,
Angier 2008.
12
Здесь я использую базу данных Perseus Digital Library (http://www.perseus.tufts.edu).
13
Непосредственный анализ текстов подтверждает данные словаря и показывает, что
данное значение доминирует в них.
14
См. также: Her. 2.125, Aesch. Sept. 132, Thuc. 2.76, Pl. Crat. 425d, Clit. 407a и т. д..
15
Если переводчик не указан, перевод осуществлен автором книги.
16
См. также: Her. 2.160, 3.83, 3.152; Eur. Andr. 66, I. T. 112; Pl. Sym. 191b и т. д. В этих
примерах явно видно, что такое хитроумное решение далеко не всегда связано с конструкторской деятельностью.
1
�176
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Наши ассоциации, связанные со словом космос, отличаются от образов, возникавших
у древнего грека. И однокоренные слова (κσμημα – украшение; κοσμητ – уборщик,
румянщик; κοσμτωρ – устроитель войска, вождь, повелитель), и сама семантика слова
κσμο – украшение, наряд, краса, честь, слава, порядок, государственное устройство,
строение, мир, вселенная, небо – указывает на связь представлений о космосе с идеей
порядка, упорядоченности. Ср. с русским косметика.
18
Аристотель прямо говорит об этом в «Политике» (см., напр.: 1254b27–33).
19
См. также: Parmen. Fr. 7; Arist. Metaph. XII 1074b15–1075a10.
20
См. также: Pl. Sym. 210e–211b, Phd. 107c–108c, RP VII 514a–517c.
21
См., напр.: Her. 1.67–68, 5.92, 7.57, 7.140–141. Корректности ради замечу, что речь
здесь идет о «доперикловой» системе ценностей, отраженной, например, у Гомера и Геродота. Во второй половине V в. до н. э. этой системе ценностей противопоставляется
другая, основу которой составляют религиозный скептицизм и холодный политический
расчет. Столкновение двух ценностных систем ярко выражено, например, в диалоге
афинян и мелосцев в «Истории» Фукидида (Thuc. 5.84–116).
22
Подробно см. об этом в: Глебкин 2002а, с. 129–148.
23
Здесь уместно вспомнить знаменитые строки Горация: Graecia capta ferum victorem cepit
et artes intulit agresti Latio (Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, в Лаций
суровый искусства внеся) (Horat. Epist. 2.1.156–7).
24
Несмотря на то, что за уже более чем полтора века, прошедших со времени первого
издания, это собрание в определенной степени устарело, оно до сих пор остается весьма
авторитетным среди медиевистов, и для проведенного в данной работе анализа, носящего статистический характер, его можно считать оптимальным вариантом.
25
Это число получено путем суммирования всех случаев появления слова machinа в
любых формах за единственным исключением: я считал за один «языковой факт» все
упоминания одного объекта (например, конкретной осадной машины) или одинаковых
по типу объектов в рамках одного описания (одна осадная машина… другая осадная машина) в исторических хрониках.
26
«Machinae autem per quas aedificatum est, transierunt… Omnia haec machinae deputantur, ut
aedificaretur per has machinas illud quod manet in aeternum. Haec autem resurrectio Domini nostri
Jesu Christi in coelo posita est» (Aug. Sermones de diversis; PL 039, 1615). См. также: Sermones
de diversis; PL 039, 1519; Enarrationes in Psalmos; PL 037, 1084; De doctrina Christiana, I, 39;
PL 034, 36; De sermone Domini in monte, I, 2; PL 034, 1233 и т. д.
27
См., напр.: Auctor incertus, De laudibus Domini; PL 6, 45C; Auctor incertus, Hymnus
ad Matutinum; PL 17, 1177; Auctor incertus, De vocatione gentium; PL 17, 114B–C; Coelus
Sedulius, Carmen Paschale; PL 19, 577A; Auctor incertus (Rufius Aquileiensis) Commentarius
in Joel prophetam; PL 21, 1049A, 1051B; Auctor incertus (Hieronymus Stridonensis) Regula
monacharum, 30, PL 394A–B.
28
В некоторых случаях слово machina может быть понято как указание на громадную
массу объекта аналогично употреблению у Лукреция. См., например, описание слона
в «Гексамероне» Амбросия Медиоланского: «И он не сгибает своих коленей, потому
что его голени должны быть тверды как колонны, чтобы они могли нести громадную
массу его тела (quo velut columnis tanta possit membrorum machina sustineri)». (Ambrosius
Mediolanensis, Hexameron; PL 14, 253 B–C). Однако такое объяснение оказывается корректным только для небольшого числа случаев.
29
На первый взгляд, творение мира божественным Творцом (δημιουργ) в «Тимее» Платона
(Tim., 27d–29d) противоречит этому утверждению. Однако Творец появляется только в прологе, а затем космос описывается как самодостаточное живое существо с душой и телом.
30
Резкое возрастание числа употреблений, относящихся к первой группе значений, не
выражает какой-либо тенденции. Большинство подобных случаев (90 из 169) фиксируется в двух исторических хрониках: “Historia rerum gestarum in partibus transmarinis” Гийома
Тирского and “Historia ecclesiastica” Ордерика Виталиса. Сопоставимый с данным массив
исторических текстов отсутствует в сопоставляемый период.
17
Глава 8. Социокультурная история метафоры механизма
177
См., напр.: Alanus de Insulis, De planctu naturae; PL 210, 445A; Absalon Spinckirsbacensis,
Sermones; PL 211, 173C–D; Petrus Pictaviensis, Sententiae; 211, 958C.
32
См.: Gerhohus Reicherspergensis, Expositio in Psalmos; PL 194, 595A; Philippus de
Harveng, Commentaria in Cantica canticorum; PL 203, 221B и т. д.
33
См.: Hugo Eterianus, De anima corpore exuta; PL 202, 208B; Robertus Pullus, Sententiae;
PL 186, 691A и т. д.
34
См.: Petrus Lombardus, Commentaria in Psalmos; PL 191, 1196C; Aelredus Rievallensis, De
bello Standardii; PL 195, 704C–D.
35
См.: Alanus de Insulis, Anticlaudianus; PL 210, 499D.
36
См.: Nicolaus Claraevallensis, In nativitate Domini; PL 184, 827D–828C.
37
См. об этом: Гарэн 1986, с. 236–255, особ. 250–252.
38
См. об этом, напр.: Des Chene 2001; Bertman 1991; Brandt 1986; Smith, Nachtomy
2010.
39
См.: Лейбниц 1989 (1710), с. 392, а также Лейбниц 1982 (1710), с. 416, 424–425; Лейбниц 1989 (1710), с. 138, 161, 167–170.
40
Дополнительным аргументом для этого утверждения является изменение отношения
к числу на рубеже Античности и Средних веков, ведущее к потере числом своей эйдетичности и его алгоритмизации. См. об этом: Глебкин 2009; ср.: Касатонов 2011, с. 13–14.
41
В этой связи интересно проследить эволюцию механистических метафор в культуре
Византии. Исходя из общих соображений можно предположить, что они не играли там
роли, сопоставимой с западным Средневековьем.
42
Разумеется, появление новых механизмов в XVIII–XX веках активно влияет на распространение механистических метафор, порождая новые семантические модели и создавая линии эволюции механистических метафор, дополнительные к описанной здесь
(об этом см., напр., Goalty 2007, p.107–118, 361–365). Более того, может создаться впечатление, что появление пантеистических моделей (таких, как философия Спинозы)
возвращает нас к ситуации самодостаточного космоса, вызывающей прямые ассоциации с Античностью. Тем не менее, в этом случае место Бога занимает Природа, а остальные объекты остаются механизмами, служащими воплощению ее замыслов. Эта связь
ясно видна, например, в приведенной в начале главы цитате из Гоббса.
43
О воздействии литературных моделей на повседневное поведение см., напр.: Лотман 1994, с. 331–384; Лотман 1996, с. 106–122. О решающем влиянии литературных и
политических текстов на семантическую эволюцию таких слов, как «пошлость» и «мещанство» см.: Глебкин 2007г, Глебкин 2007д, также стилизованная под историческую
песню.
31
�Глава 9. Когнитивные основания метонимии и метафоры
Глава 9. Когнитивные основания
метонимии и метафоры
Материал девятой главы непосредственно примыкает к сюжетам, обсуждаемым в четвертой и восьмой главах. Он связан с вопросом о
когнитивных основаниях метонимии, а также с различиями метафоры
и метонимии как когнитивных процессов1. И если в базовых подходах
к построению когнитивной теории метафоры между исследователями
существует определенный консенсус, то концептуальный базис когнитивной теории метонимии и, более того, даже корректное определение
метонимии оказываются предметом непрекращающихся дискуссий2.
Также нерешенным и активно обсуждаемым остается вопрос о возможности и принципах проведения строгой демаркационной черты между
метафорой и метонимией и о возможных промежуточных состояниях
между ними3. Проблематика данной главы находится в обозначенном
проблемном поле. Ее цель состоит в том, чтобы предложить когнитивную модель метонимии и подход к описанию когнитивных различий
между метонимией и метафорой, опирающиеся на различия в фундаментальных типах мышления, описанных Л.С. Выготским и другими
представителями отечественной школы культурно-исторической психологии.
Прежде чем говорить о когнитивных основаниях метонимии, необходимо пояснить, что имеется в виду под самой метонимией, о каком
явлении мы говорим. Очевидно, что метонимия не является ни объектом реальности, таким как дерево или камень, ни фактом языка,
таким как слово яблоко, например; правильнее назвать ее средством
для описания ряда языковых фактов. Другими словами, вопрос о метонимии относится к компетенции лингвистов, а не обычных носителей языка. Тогда корректное определение метонимии должно удовлетворять следующим требованиям: а) оно должно исходить из прототипических языковых фактов, идентифицируемых как метонимия в
рамках общей лингвистической традиции, берущей свое начало в
Античности, и б) его не следует распространять слишком широко и
включать в него факты, интуитивно воспринимаемые как качественно
179
отличные от прототипического ядра. В противном случае понятие размывается, и работа с ним в значительной мере теряет смысл.
Приведу одну иллюстрацию важности сформулированных требований. В одной из своих работ З. Ковечеш и Г. Радден предлагают понимать как метонимическую конструкцию язык в целом: «Сама природа языка основывается на метонимическом принципе, который
Лакофф и Тернер описывают как СЛОВА ЗАМЕЩАЮТ ПОНЯТИЯ,
КОТОРЫЕ ОНИ ВЫРАЖАЮТ. Так как использование формальных
структур является единственным средством для выражения понятий и
оперирования с ними в процессе коммуникации, язык, также как и
другие коммуникационные системы, оказывается по необходимости
метонимией» (Radden, Kövecses 1999, p. 42). Это утверждение вызывает ряд вопросов. Если, предельно упрощая ситуацию, рассмотреть два
соответствия: между какой-либо цифрой и обозначаемым ей числом
(например, цифрой 5 и числом «пять»), и между огнем и Гефестом в
классическом фрагменте из Гомера, приводимом как образец метонимии в античных пособиях по риторике4 (Но утробы, пронзив, над пылавшим огнем (в греческом тексте – Гефестом – В.Г.) обращали5) или
между посетителем «Макдональдса» и бутербродом с ветчиной в ставшем уже классическим примере Лакоффа The ham sandwich is waiting for
his check (Бутерброд с ветчиной ждет свой счет)6, можно заметить существенное отличие между этими соответствиями. Безусловно, цифра
5 выступает здесь как знак понятия пять так же как бутерброд с ветчиной является знаком ожидающего счета посетителя. Однако в отличие от цифры 5 бутерброд с ветчиной не только имеет специфическую форму, за ним стоит и вполне конкретный набор культурных
смыслов: мы знаем, что это пища, которую мы можем купить в определенных местах, что она, может быть, не слишком полезна для нашего
здоровья и т. д. Другими словами, он играет самостоятельную роль в
сценарии, его функция не сводится лишь к знаковой. Если опираться
на прототипические образцы, наличие у знака подобной роли является необходимым условием для метонимии, поэтому утверждение Ковечеша и Раддена выглядит как неоправданное расширение границ
термина.
Итак, говоря о когнитивных основаниях метонимии, я буду иметь
в виду прототипические образцы наподобие бутерброда с ветчиной и
ожидающего счета посетителя и дистанцироваться от расширений
значения понятия, аналогичных приведенному выше. В указанных
границах обычный взгляд на когнитивную функцию метонимии выглядит следующим образом: благодаря метонимии одна концептуальная структура выступает посредником, проводником при движении
познающего интеллекта к другой концептуальной структуре в рамках
единой концептуальной области, что отличает метонимию от метафо-
�180
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
ры, имеющей дело с различными концептуальными областями7. Однако здесь возникает естественный вопрос о цели такого посредничества. Несколько упрощая ситуацию, его можно сформулировать следующим образом: если референт высказывания может быть обозначен
непосредственно, то в чем когнитивный смысл осуществляемой посредством метонимии опосредованной референции, какое познавательное значение она имеет? Действительно, если в случае концептуальной метафоры, как уже отмечалось, проецирование связей между
категориями базового уровня на абстрактные категории считается
основным способом описания абстрактного пласта в языке, то в случае
метонимии такой тезис о соотношении области-источника и областицели неверен: в частности, мы можем прямо назвать посетителя «Макдональдса», не используя для этого бутерброд с ветчиной, или сказать
«Он любит читать романы Толстого» вместо «Он любит читать Толстого». Можно говорить о языковой мотивации использования метонимии
в данных контекстах, но ее когнитивная функция, по крайней мере
здесь, неочевидна.
Мне удалось найти лишь два возможных варианта ответа на поставленный выше вопрос среди когнитивных лингвистов. Один из
них состоит в том, что метонимия дает возможность сфокусировать
внимание на наиболее важных элементах целого (иллюстрация, предложенная Лакоффом и Джонсоном: There are a lot of good heads in the
university (В этом университете много светлых голов) (Lakoff, Johnson
1980, p. 36) – интеллект, традиционно локализуемый в голове, является определяющей характеристикой человека в данном контексте);
другой – в том, что метонимия обеспечивает доступ к менее заметным
областям семантической структуры с помощью более заметных
(Feyaerts 2000, p. 74; ср. Lakoff 1987, p. 77). Обе интерпретации оставляют много вопросов. Действительно, рассмотрим приводимое Лакоффом предложение Washington is insensitive to the needs of ordinary
people (Вашингтон безразличен к нуждам простых людей), (Lakoff
1987, p. 77). Странно было бы утверждать, что место является наиболее важным элементом понятия правительство США в данном
контексте или настаивать на том, что такой опосредованный способ
обозначения референта открывает более доступный путь к нему, чем
прямая референция.
Другими словами, можно констатировать, что на вопрос о когнитивных основаниях и познавательной функции метонимии пока не
найдено убедительного ответа. Вместе с тем, как уже отмечалось в
третьей главе, описанная Л.С. Выготским модель «мышления в комплексах» открывает путь к пониманию метонимии как когнитивного
явления. Странным образом, она не попала еще, насколько мне известно, в поле зрения исследующих метонимию лингвистов. Базовый
Глава 9. Когнитивные основания метонимии и метафоры
181
психологический материал, на который опирается данная модель, изложен в разделе 5.3 пятой главы, поэтому ниже мы перейдем к непосредственному описанию структурного подобия между метонимией и
«мышлением в комплексах».
9.1. «Мышление в комплексах» и метонимия
Представление о том, что слова повседневного языка соответствуют
комплексным структурам с диффундирующими границами, открывает новые возможности для ответа на вопрос о когнитивных основаниях метонимии8. Как ребенок из приведенного в пятой главе примера
Л.С. Выготского объединяет в своем сознании воду из пруда, в котором
плавает утка, с текущим из бутылки молоком, так официант, исходя
из ситуационного контекста, связывает в единый комплекс бутерброд
с ветчиной и заказавшего этот бутерброд посетителя. Более того, проведенная параллель дает возможность обозначить общий алгоритм
исследования проблемы, которую существующие когнитивные теории
метонимии интерпретируют как выходящую за рамки их компетенции:
почему из всего многообразия связей по смежности с данным объектом
или ситуацией актуализируется лишь небольшая часть таких связей и
что является причиной для их актуализации9.
Путеводной нитью в данном случае является рассмотренный нами
в третьей главе постулат об аффективном характере мышления, который занимает весомое место в поздних работах Выготского. Попадание
того или иного объекта в фокус внимания ребенка, поддержанное его
эмоциональным интересом к объекту, задает направление сдвига референции, обеспечивая эволюцию комплексной структуры. Ключевым
моментом здесь оказывается не наличие о б ъ е к т и в н ы х связей
по смежности между предметами, а соседство их в с у б ъ е к т и в н о м
опыте ребенка. Аналогично и в ситуации в кафе область деятельности
официанта определяет фокус его внимания и задает направление метонимического сдвига, явно периферийного по отношению к объекту
в целом (официанта не интересует уровень образования, интеллект,
семейное положение или спортивные пристрастия посетителя, ключевой его характеристикой в данном контексте становится сделанный
им заказ). В более сложных случаях можно говорить о социальном или
культурном интересе, направляющем фокус внимания социума или
культуры и определяющем метонимические трансформации под воздействием социокультурных факторов10.
С проблемой когнитивных оснований метонимии связан вопрос
о соотношении когнитивных функций метонимии и метафоры. Пожалуй, первый системный ответ на этот вопрос был предложен в
рамках структуралистского подхода. Так, Роман Якобсон рассматривал метафору и метонимию как универсальные познавательные мо-
�182
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
дели, связывая первую с позиционным подобием, а вторую – с семантической смежностью (Якобсон 1990 (1956), c. 126–130)11. Однако такой взгляд предполагает метафорическое расширение базового
значения понятий, напоминающее по своей структуре рассмотренный
выше пример из работы Ковечеша и Раддена. Опираясь на приведенные в данной главе соображения и проанализированные в предыдущих главах исследования Лакоффа и Джонсона по концептуальной
метафоре, можно предложить иную модель, исходящую не из стремления расширить базовое значение термина, придав ему универсальный смысл, а из установки на поиск соответствия между этим значением и фундаментальными психологическими процессами. Тогда
метонимия связывается с комплексным мышлением и повседневной
речью, а концептуальная метафора – с описанием абстрактных областей в языке. Если говорить о культурогенезе, то метонимические
сдвиги оказываются базовой формой семантической эволюции для
дотеоретических культур, таких как традициональные культуры или
культуры первой древности (Древний Египет, Древняя Месопотамия
и др.), а метафора появляется в теоретических культурах (например,
в древнегреческой) вместе с формированием абстрактных областей в
языке.
Сформулированный тезис порождает ряд очевидных вопросов и
требует уточнения. На первый взгляд, абстрактные сущности (такие,
как любовь или деньги) присутствуют и в повседневной жизни, и для
оперирования с ними не обязательно обращаться к особым абстрактным областям. Хорошо известно также, что метонимия может связывать между собой и абстрактные понятия (например, в предложении
Вашингтон безразличен к нуждам простых людей).
Отвечая на первую реплику, замечу, что абстрактность и конкретность – характеристики не самого понятия, а способа взаимодействия этого понятия с использующим его человеком. Так, понятие
«мать» обладает сложной структурой и требует знания целого ряда
абстрактных моделей, необходимых, например, для понимания конструкции «генетическая мать» (см.: Lakoff 1987, p. 74–76). Тем не
менее, для 3-4-летнего ребенка слово «мать» наделено рядом предельно конкретных смыслов (она готовит, играет с ребенком, иногда
ругает его и т. д.). Аналогичная ситуация описана в работе А.М. Селищева, где приводятся определения некоторых понятий, предлагаемые советскими рабочими и крестьянами с низким уровнем образования: «пионеры (пяонеры) – это когда ходят с барабаном и поют»,
«сельской совет – это где председатель бывает» (Селищев 1928,
с. 214–215).
Высказанные соображения дают ключ к пониманию метонимии в
предложении Вашингтон безразличен к нуждам простых людей. Данное
Глава 9. Когнитивные основания метонимии и метафоры
183
предложение служит эквивалентом предложения Американское правительство безразлично к нуждам простых людей, в котором абстрактное
понятие американское правительство предстает как живое существо,
способное размышлять и испытывать эмоции. Другими словами, мы
можем говорить о «материализации» этого понятия, конструировании
его перцептивного аналога. Именно этот аналог подвергается в данном
случае метонимическому замещению.
Предложенная модель дает основания для разделения метафоры и
метонимии в случаях, которые объявляются исследователями сомнительными или допускающими различную интерпретацию. Так описание
знать через видеть (например, я вижу, у тебя что-то нехорошее на уме),
интерпретируемое обычно как концептуальная метафора, может быть,
с точки зрения некоторых исследователей, понято и как метонимия,
если считать, что зрительное восприятие и мысленное восприятие принадлежат одному когнитивному домену (Deignan 2005, p. 59–60). Однако подобный взгляд в значительной степени представляет собой
недоразумение, которое снимается при обращении к социокультурным
основаниям когнитивных процессов. Ключевым моментом в разрешении этого недоразумения становится анализ того, как та или иная
культура представляет себе их протекание. Так, в ранней Античности
у Гомера процессы зрения и мышления соотносились с процессами
дыхания и движения особых флюидов12, и здесь в отдельных случаях
можно было говорить о метонимии, а в отдельных – и о буквальном
значении, но когда мышление стало связываться с особой абстрактной
областью, отделенной от области зрительного восприятия, метонимия
трансформировалась в метафору.
В заключительной части главы я хотел бы проиллюстрировать сделанные утверждения на примере семантической эволюции слова λη,
латинский эквивалент которого (materia), вошел в русский и основные
европейские языки и стал одним из ключевых терминов для западной
философской традиции.
9.2. Семантическая эволюция слова λη
На основании статьи в словаре Лидделла и Скотта можно реконструировать структуру комплекса λη. Она представлена на рис. 7. Мы видим
здесь как явное сходство отдельных его фрагментов со структурой
комплекса «ква», приведенного на рис. 6, так и важные отличия, связанные с появлением метафорической составляющей (материя как
философская категория, как материал для литературного произведения
и др.). Для корректного разделения метафорических и метонимических
сдвигов нам следует обратиться к диахроническому описанию семантики слова и перейти от данных словаря к непосредственному анализу текстов.
�184
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Рис. 7. Структура комплекса λη
Наиболее ранние случаи употребления слова λη мы находим у
Гомера. В «Илиаде» оно вместе с дериватами встречается 39 раз, в
«Одиссее» – 23. Основным значением здесь является «лес, лесная местность» – 45 случаев употребления (72,6%) (напр., Но высокий утес и
густая тенистая роща (δσκιο) зверя спасают (Il., 15, 273–274, пер.
Н.И. Гнедича)); следующее по частотности значение – топливо для
костра (в первую очередь, погребального) – 11 случаев (17,7%) (напр.,
Ты, владыка мужей, повели, Агамемнон, заутра леса (λην) к костру навозить и на береге все уготовить, что мертвецу подобает, сходящему в
мрачные сени (там же, 23, 49–51)). В трех случаях λη обозначает топоним, название места, в двух – кустарник, и в одном – материал, используемый при строительстве корабля.
У Геродота это слово встречается 8 раз, из них в четырех случаях
оно означает лес, группу деревьев, в трех – топливо и в одном – материал для строительства; у Фукидида – 9 раз: в пяти случаях – лес, в
двух – хворост, в одном – сухостой и в одном – кустарник; у Еврипида – 4 раза, все со значением «лес», «лесная местность».
Приведенные данные, при всех необходимых оговорках, дают представление как о востребованности слова в языке, так и о направлениях метонимического сдвига. Мы видим, что основным вектором здесь
является сдвиг значения от леса к топливу для костра, что вполне соответствует базовому направлению использования леса в повседневной
практике, направлению социального интереса. Реже встречается значение леса как материала для строительства, что тоже непосредственно отражает социальную практику. Никаких метафорических значений
λη мы не обнаруживаем в этих текстах.
Ситуация начинает меняться у Платона, для которого это слово
тоже не слишком характерно. У него мы находим 13 случаев исполь-
Глава 9. Когнитивные основания метонимии и метафоры
185
зования слова λη. Из них в 7 случаях оно имеет базовое значение «лес»,
«лесная местность», в двух означает топливо, в двух – материал для
строительства. На двух случаях необходимо остановиться особо. Первый из них – фрагмент «Тимея»: «Теперь заготовленные причины разложены у нас по родам, как строительные припасы у плотников (Οτ
ον δ τ νν οα τκτοσιν μν λη παρκειται τ τν ατων γνη
διυλισμνα), и нам остается только выложить из них дальнейшую часть
нашего рассуждения» (Tim. 69a, пер. С.С. Аверинцева). Это классический пример концептуальной метафоры: областью-источником оказывается работа плотников, областью-целью – построение интеллектуальной конструкции, а λη становится материалом для такого
строительства. Здесь, в отличие от всех проанализированных ранее
текстов, взгляд Платона обращается на абстрактную область, описываемую с помощью концептуальной метафоры как важного инструмента анализа. Второй пример из «Филеба»: «Я утверждаю, что лекарства и всякого рода орудия и вещества (νεκα φρμακ τε κα πντα
ργανα κα πσαν λην) применяются ко всему ради становления, каждое же определенное становление становится ради определенного бытия,
все же становление в целом становится ради всего бытия» (Phil. 54c,
пер. Н.В. Самсонова). Данный пример демонстрирует метафорическое
расширение значения от конкретного материала при строительстве до
любого материала, изменяемого в процессе деятельности и используемого для других целей. Этот шаг важен для понимания дальнейших
трансформаций значения у Аристотеля.
Сразу следует сказать, что у Аристотеля ситуация изменяется кардинально. Это, проявляется, прежде всего, в частоте употребления: в
его текстах слово λη встречается более 570 раз, что заметно больше,
чем у всех предшествующих авторов, вместе взятых. Далее, хотя базовое значение (лес, лесная местность) встречается в его текстах, оно
составляет лишь малый процент от всех употреблений (12 раз, менее
2%). Подробный анализ особенностей использования данного слова
Аристотелем и философской нагрузки, которую оно несет, потребовал
бы отдельной монографии, но некоторые замечания, непосредственно
связанные с сюжетом метонимии и метафоры, необходимо сделать.
Ключевой для Аристотеля становится связь семантики λη с идеей
возможности, потенциальности. Приведу в качестве иллюстрации
характерный фрагмент из трактата «О душе»: «Итак, под сущностью
мы разумеем один из родов сущего; к сущности относится, во-первых,
материя, которая сама по себе не есть определенное нечто ( λην,
καθ ατ οκ στι τδε τι); во-вторых, форма или образ, благодаря которым она уже называется определенным нечто, и, в-третьих, то, что
состоит из материи и формы. Материя есть возможность (στι δ μν
λη δναμι), форма же – энтелехия, и именно в двояком смысле – в
�186
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
таком, как знание, и в таком, как деятельность созерцания» (De anima,
412a7–12; пер. П.С. Попова). В данном, как и во множестве других
фрагментов, мы можем видеть, как маргинальная по сути интерпретация уже не базового, а одного из полученных путем метонимии значений λη как материала при строительстве, актуализуется Аристотелем
и становится у него основанием для общей концептуальной метафоры,
интерпретирующей материю любой вещи как данную вещь в в о з м о ж н о с т и , а также для ряда частных концептуальных метафор:
первой материи как возможности для четырех первоэлементов (земли,
огня, воздуха, земли), не имеющей никакого действительного статуса,
материи как предмета рассуждений (рассуждение будет удовлетворительным, если удастся добиться ясности, сообразной предмету, подлежащему рассмотрению (ει κατ τν ποκειμνην λην διαφηθεη) (Eth.
Nicom. 1094b12–14)), материи как субъекта, к которому применяются
различные предикаты (De caelo. 268а20–23) и др. Другими словами,
использование концептуальной метафоры вызвано теоретическими
задачами, стоящими перед самим Аристотелем, необходимостью выработки языка описания для исследуемых им абстрактных областей.
После Аристотеля эти значения начинают восприниматься как привычные, и произошедшие семантические трансформации закрепляются, постепенно проникая из философских текстов в литературный и
повседневный язык.
Итак, возвращаясь к поставленным в начале главы проблемам, мы
можем следующим образом сформулировать результаты проведенного
анализа:
А) Не являясь непосредственно универсальными познавательными
операциями, как это утверждалось структуралистами, метонимия и
концептуальная метафора опираются на значимый когнитивный базис
и соответствуют двум фундаментальным типам мышления: мышлению
в комплексах, используемому во множестве ситуаций в повседневной
жизни, описываемых повседневным языком, и теоретическому мышлению, связанному с описанием различного рода абстрактных пространств.
Б) Говоря о соотнесении семантической эволюции с базовыми социокультурными типами, можно утверждать, что метонимия является
единственной формой такой эволюции в дотеоретических культурах
(первобытной, традициональной и культурах первой древности). Метафоры появляются в теоретических культурах одновременно с возникновением абстрактных областей в языке.
В) Первичные концептуальные метафоры не анонимны, как это
следует из описаний Лакоффа и его коллег, но, по крайней мере, в ряде
случаев обладают индивидуальной и весьма запутанной биографией,
реконструкция которой дает весьма важный материал и для построения
Глава 9. Когнитивные основания метонимии и метафоры
187
диахронной когнитивной теории метафоры в целом. Авторами таких
метафор являются конкретные люди, решающие собственные теоретические задачи. В статье мы видели это на примере Аристотеля, но
похожие трансформации мы можем найти и у Платона (например, со
словом χρα (пространство)), и у ряда других авторов. Освящаясь
авторитетом своих создателей, такие метафоры закрепляются в философском языке и затем понемногу проникают в литературу и повседневную жизнь.
Примечания
Содержание данной главы в значительной степени воспроизводит работу: Глебкин
2012а.
2
См., например, весьма бурную полемику Д. Герартса и И. Пирсмана с В. Крофтом вокруг когнитивного определения метонимии (Peirsman, Geeraerts 2006; Croft 2006; Peirsman, Geeraerts 2006a). Представление о спектре современных взглядов на эту проблему
можно получить в работе Barselona 2011.
3
См., напр.: Goossens 1995; Bartsch 2003; Dirven 2003; Deignan 2005, 53–74; Deignan
2005a.
4
См. об этом: Arata 2005, p. 59.
5
Пер. Н.И. Гнедича. В греческом тексте: σπλγχνα δ ρ μπεραντε περεχον
Ηφαστοιο (Hom., Il., 2, 426).
6
См.: Lakoff, Johnson 1980, p. 35.
7
См.: Langacker 1993; Radden, Kövecses 1999; Croft 2002; Peirsman, Geeraerts 2006,
p. 269–275. Различные авторы используют здесь различную терминологию (domain,
domaim matrix, Idealized Cognitive Model), однако эти терминологические различия не
имеют существенного значения в данном контексте.
8
На первый взгляд, представление о соответствующих словам ментальных структурах как
комплексах близко подходу Лакоффа (Idealized Cognitive Model; Lakoff 1987, p. 68–76) или
Крофта (domain matrix, Croft 2002), однако, принципиальное отличие состоит в том, что
и у Лакоффа, и у Крофта предложенные ими структуры оказываются статичными и носят
вневременной характер. Они описываются просто как «факт языка», без акцентированной связи с социокультурным контекстом. Комплекс же представляет собой развернутое
во времени образование, реагирующее на изменение социокультурной ситуации.
9
Обсуждение этого вопроса см., напр., в: Croft 2006, Peirsman, Geeraerts 2006a.
10
Необходимо отметить и важное различие между двумя описанными процессами. Для
официанта бутерброд с ветчиной и заказавший этот бутерброд посетитель принадлежат
к одной локальной категории, определяющейся сделанным «здесь и теперь» заказом.
При этом он хорошо понимает, что эти сущности обладают слишком большими различиями, чтобы быть членами одной категории вне данного контекста (разумеется, мы
можем найти такую категорию, например, материальные объекты, но было бы странно
рассматривать бутерброд с ветчиной как репрезентативного представителя категории
материальных объектов). В то же время для ребенка нет разницы между «в целом» и
«здесь и теперь»: он рассматривает описанную цепь объектов как представителей одной
категории, называемой «ква».
11
О дальнейшей эволюции и развитии идей Якобсона см., напр.: Лотман 1992, c. 170–
171.
12
См., напр.: Онианс 1999, c. 86–102.
1
�Глава 10. Термин и его интерпретация: что мы имеем в виду...
Глава 10. Термин и его интерпретация:
что мы имеем в виду, говоря о кризисе
культуры
Десятая глава возвращает нас к теоретическим проблемам, обсуждаемым в седьмой главе. Она посвящена проблеме соотношения значения
слова в повседневном употреблении, его терминологического значения
и интерпретации этого значения различными исследователями1. Эта
проблема оказывается крайне актуальной в первую очередь для гуманитарных исследований, в которых указанные составляющие часто
смешиваются, и сущностное обсуждение материала подменяется «спором о словах» (Глебкин 1998, с. 6–8). Область исторической науки,
называемая «историей понятий» (Begriffsgeschichte), делает акцент на
одном из аспектов данной проблемы, формулируя его как необходимость различать слово и понятие: с одной стороны, разные слова могут
соответствовать одному понятию, с другой – понятийной содержание,
соответствующее конкретному слову, может меняться со временем2.
Так, слова state, Staat, etat, государство соответствуют понятию «государство»; с другой стороны, содержательное наполнение слова государство оказывается разным в разные исторические периоды, и значение этого слова, например, в XVI веке заметно отличается от современного3. Распространенная ошибка исследователей, занимающихся
политической историей, состоит в том, что они без должной рефлексии
переносят собственные представления о государстве, законе, прогрессе и т. д. на другие исторические периоды. Используемые в современном политическом языке категории, такие как закон, государство,
власть, имели в прошлом существенно иные значения, и реконструкция этих значений принципиально важна для адекватного понимания
прошлого.
Указанная установка породила множество выполненных в рамках
«истории понятий» конкретных исследований, важных не только для
социальной и политической истории, но и для лингвистики4. Нас,
однако, здесь будет интересовать другой сторона описанного выше
«понятийного треугольника»: работая с базовыми социокультурными
категориями, используемыми как инструмент исследования, исследо-
189
ватель часто без должной степени рефлексии порождает собственную
интерпретацию, воспринимая ее как факт объективной реальности. Я
проиллюстрирую сделанное утверждение на примере понятия «кризис
культуры», которое разделяет общую судьбу базовых для европейской
традиции понятий. Часто используясь в самых разнообразных контекстах, оно «размывается», теряет свою смысловую определенность и
становится благодатным материалом для философски ориентированной эссеистики, но порождает массу вопросов при попытке корректного использования в научных исследованиях. Не вызывает сомнений,
что столь широкое и нагруженное смыслами употребление европейской
культурой XX века слова «кризис» («политический кризис», «финансовый кризис», «подростковый кризис», «кризис среднего возраста»,
«творческий кризис», «кризис жанра» и т. д.) не имеет аналогов ни в
Античности, ни на Востоке, ни в самой европейской традиции предшествующего периода, и говорит об этой культуре что-то очень существенное. Но что? Бытовые наблюдения подсказывают, что понятие
кризиса применяется для придания нормативного статуса событиям,
воспринимающимся как анормальные и вызывающим настороженность и тревогу. Достаточно связать вызывающее поведение собственного ребенка с подростковым кризисом, как все становится на свои
места, – родительское раздражение проходит, уступая место стоическому осознанию неизбежности: так бывает со всеми, надо смириться
и потерпеть5. Подобным терапевтическим эффектом обладают и понятия «экономический кризис» или «кризис культуры»: обозначаемая
ими напряженность не исчезает, но смягчается, ей придается статус
нормы. Однако попытка более глубокого анализа такой способности
слова «кризис» объяснять непонятное не снимает недоумения и порождает лишь новые вопросы. Что стоит за ним, какая реальность?
Означает ли оно, что по сравнению с соседями и предшественниками
изменились географические, экономические, социальные рамки существования европейского человека? Или он не так, как они, смотрит
на эти рамки, и то, что не беспокоило их, беспокоит его? А может быть,
он гораздо более пристально рассматривает себя и замечает изменения
в своем состоянии, на которые они не обращали внимания? А если
важны все упомянутые факторы, то каково их соотношение?
Отмеченная неясность проявляется и в противоречивости предлагаемых определений кризиса. Так, с точки зрения одних исследователей, любое изменение можно рассматривать как особый кризис, а
непрерывное развитие сводить к непрерывной цепи кризисов (напр.:
Холькин 2002, с. 83), с точки зрения других – кризис представляет
собой пороговые состояния социальной системы, противостоящие
стабильным изменениям (напр.: Плотинский 2001, с. 192; Кузьмин
1996, с. 112); одни говорят о кризисе как об объективной характери-
�190
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
стике системы, другие – об оценочном характере понятия, фиксирующего не внешние изменения, а реакцию субъекта на них (напр.: Голикова 2002, с. 17), а третьи – о том, что объективные процессы порождают соответствующую психологическую реакцию, поэтому в кризисе
следует выделять объективную и субъективную составляющие (напр.:
Сидорина 2002, с. 23–25). Дополнительные терминологические сложности, связанные с категорией культуры, с корректностью параллели
между культурой и личностью, культурой и организмом возникают при
обращении к понятию «кризис культуры».
Подчеркнем, что причина подобной терминологической разноголосицы во многом состоит в интуитивной очевидности слова, которая
выводит за уровень рефлексии значительный массив первичных смыслов. Исследователи сразу начинают использовать понятие как инструмент для объяснения, недостаточно осознавая, каково устройство
этого инструмента и что он диагностирует. В преодолении этой методологической непроясненности и состоит основная цель данной главы
монографии, определяющая ее структуру. Первый ее раздел посвящен
семантической структуре слова «кризис» в повседневном языке 6,
определению рамок, которые она задает для построения термина. Во
втором разделе мы обратимся к некоторым ставшим уже классическими исследовательским описаниям кризиса европейской культуры ХХ
века, анализируя их соответствие культурным смыслам, эксплицированным в первой части. В последнем разделе будет сделана попытка
выявления диагностического потенциала понятия «кризис культуры»
и способов работы с ним.
10.1. Семантическая структура слова «кризис»
в повседневном языке
Этимологически слово «кризис» происходит от дренегреческого κρσι
с значениями: «суждение», «мнение» (κρσι οκ αληθ – «мнение
не есть истина» (Soph., OT, 30)), «толкование снов и знамений»; «судебное решение»; «событие», «исход». Особо отметим значение из
медицины: поворотная точка в болезни, внезапное изменение от
лучшего к худшему, встречающееся у Гиппократа и Галена. Затем это
медицинское значение укореняется в латыни и через нее входит в
европейские языки.
The Oxford English Dictionary дает в качестве базового значения –
«точка в развитии болезни, когда происходят важные изменения, ведущие к выздоровлению или смерти; поворотная точка в болезни,
ведущая к улучшению или ухудшению», иллюстрируя его следующими
примерами: «Crisis sygnifyeth iudgement, and in this case, it is vsed for a
sodayne change in a disease (Traheron, 1543). – Кризис означает решение
Глава 10. Термин и его интерпретация: что мы имеем в виду...
191
и в этом случае используется для характеристики внезапных изменений
в болезни»; «When he found I had enjoyed a favourable crisis, he congratulated
me (Smollett, 1748). – Когда он нашел, что кризис разрешился благополучно, он поздравил меня». Здесь интересно также устаревшее, но сохраняющееся еще в XVII веке астрологическое значение кризиса как
такой конфигурации планет, которая определяет исход болезни или
критическую точку в течение событий.
Более общее значение появляется как расширение базового: «кризис – жизненно важная или решающая стадия в развитии чего-либо;
поворотная точка; также состояние дел, при котором надвигаются
решительные изменения к лучшему или к худшему; в настоящее время
применяется, главным образом, к временам трудности, опасности,
неопределенности в политике или коммерции». Приводимые примеры
также весьма показательны: «This is the Chrysis of Parlaments; we shall
know by this if Parliaments live or die (Rudyard, 1627) – Это кризис парламента, в результате которого мы узнаем, жив парламент или мертв»;
«The ordinary statesman is also apt to fail in extraordinary crises (Jowett,
1875) – Рядовой государственный деятель тоже склонен впадать в далеко не рядовые кризисы».
Значения «приговор», «решение», а также «точка зрения, критерий»
почти перестают встречаться к XVIII веку и приводятся словарем как
устаревшие.
Аналогичная картина наблюдается во французском языке. Обращаясь к La Robert dictionnaire de la langue francaise, мы видим, что базовое
значение crise – «момент болезни, характеризующийся внезапным и,
как правило, решительным изменением к лучшему или к худшему»,
следующее за ним – «внезапная и резкая эмоциональная реакция» с
характерным crise de nerfs и потом – «сложный период в развитии вещей, событий, идей» с подразделениями «индивидуальный, психологический» (la crise de trois ans; la crise de l’adolescence), «коллективный,
экономический, социальный» и с пометкой «абстрактное» – «кризис
морали, ценностей, духовный кризис, нравственный кризис, ментальный кризис».
В Der Grosse Brockhaus die Krise определяется как кульминационная
точка или поворотный пункт в опасной ситуации с подразделами:
а) поворотный пункт в течении болезни, б) решающая фаза внутреннего и/или внешнего развития организма, с примерами «пубертатный
период», «климакс» и т. д.; в) внезапное изменение цен товаров или
курсов акций, которое при определенных циклах экономической
конъюнктуры ведет к депрессии («тюльпанный» кризис 1637 г. в Голландии и т. д.).
Итак, в целом мы обнаруживаем почти полное единодушие в трактовке слова в различных европейских традициях7. Подводя предвари-
�192
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
тельный итог, можно выделить в интуиции, формируемой в нас языком,
следующие составляющие:
а) кризис – свойство эволюционирующих систем, образцом для
которых выступает организм (прежде всего, человеческий);
б) у этих систем существует естественный, нормальный режим
функционирования или изменения, и кризис представляет собой резкое отклонение от существующей нормы;
в) это отклонение имеет критический характер, оно может привести
к гибели всей системы.
Посмотрим теперь, какие рамки задает языковая интуиция для возможного построения термина:
• работая с понятием «кризис культуры», мы сразу оказываемся
в поле представлений о культуре как организме. Так как мы
должны согласовывать модели культуры или язык описания
культуры, который мы избираем явно, с интуициями, скрытыми в используемых нами понятиях, мы сразу сталкиваемся с
ограничениями в выборе возможных моделей. Например, для
семиотического подхода понятие кризиса кажется неорганичным. Образу семиосферы как постоянно обновляющегося
океана текстов чужда идея развития, как она чужда атомизму
Демокрита или Эпикура: новые конфигурации атомов, образующих физические тела, принципиально не отличаются от
старых;
• говоря о кризисе, мы обязаны сначала описать норму, т. е.
описать объект, о котором мы говорим (некая «культура Х»
(русская, советская, хайкеров, панков и т. д.)), как целостную
систему и определить режим ее нормального функционирования. При этом некоторые проявления дестабилизации, ослабления идентичности, бифуркационные феномены могут быть
присущими непосредственно норме и не предполагать кризисности. Например, эсхатологические мотивы, неопределенность
статуса человека лежат в основании культуры западноевропейского Средневековья и, возможно, даже в большей степени,
русской средневековой культуры; размытая идентичность характерна для вторичных культур и составляет один из ключевых
мотивов русской культуры после Петра, с предельным напряжением выраженный в «Первом философическом письме»
П.Я. Чаадаева. Укладываясь в понятие кризиса по некоторым
внешним признакам, эти черты, тем не менее, входят в культурную норму;
• говоря о кризисах культуры, мы должны отличать их от экономических, политических, личных и других кризисов. Текст,
выражающий личный кризис пишущего или говорящий об
Глава 10. Термин и его интерпретация: что мы имеем в виду...
193
экономическом или политическом кризисе, совсем не обязательно будет проявлением кризиса культуры;
• говоря о кризисе, мы должны предполагать степень отклонения
от нормы, которая может стать губительной для системы в целом. Вопрос в этом случае должен ставиться о ее выживании.
Для иллюстрации опасностей, которые таит в себе деформация
описанной выше языковой интуиции при построении теоретической
конструкции, можно обратиться к работам отечественного «эмпириомониста» и теоретика «организационной науки» А.А. Богданова, наследие которого в последние годы становится предметом активного
обсуждения. В третьей части его «Текстологии» заметное место уделено
понятию кризиса. Определяя в общем случае кризис как разрушение
границы между комплексами (целостностями) или образование границы внутри комплекса (Богданов 2003 (1922), c. 113), он затем обращается к описанию отдельных типов кризисов и находит их в математическом анализе (переход от нуля к «бесконечно малой величине» (там
же, с. 345)), в плавлении твердых тел (там же, с. 346), и даже в ускоренном движении. Последний фрагмент имеет смысл процитировать:
«Тектологическое понимание кризисов ведет к тому, что они обнаруживаются во многих таких случаях, где обыденное мышление вовсе
их не находит. Так, предположим, что тело движется с ускорением,
потом это ускорение теряется, а затем сменяется замедлением. В том
пункте, где ускорение становится равным нулю, очевидно, получилась
полная дезингрессия между силой, его порождавшей, и какими-то
противодействующими. Для обычного наблюдения ничего особенного не произошло – движение продолжается, и притом по прежней
линии. В действительности, тут есть кризис – глубокая перемена в
самом характере движения. Математика выражает ее тем, что “производная скорости” здесь из положительной величины превращается в
нуль, который, как мы знаем, и есть символ кризиса» (там же,
с. 347).
Языковая интуиция упорно сопротивляется тому, что физический
или математический объект, в частности, физическое тело, меняющее
знак ускорения в процессе движения, может испытывать кризис. В
данном случае мы сталкиваемся с ситуацией семантического сдвига
в понятии, предлагаемом исследователем. За этим семантическим
сдвигом стоит отчетливо артикулируемая исследовательская установка: отсутствие принципиальных границ между живым и неживым,
подчинение развития живого организма логике развития любых систем, т. е. одна из форм характерного для позитивизма механицистского редукционизма8. Неявно проводимая трансформация семантической структуры работает на обоснование этой исследовательской
установки9.
�194
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
10.2. Идеально-типические модели «кризиса культуры»
Переходя к описанию основных идеальных типов «кризиса», конструируемых исследователями, следует заметить, что обычно они вырастают из анализа развития европейской культуры в ХХ веке и опираются на организмическую модель. При этом характеристики европейской культуры у Освальда Шпенглера, Георга Зиммеля, Теодора
Лессинга, Альфреда Вебера, Альберта Швейцера, Эдмунда Гуссерля,
Питирима Сорокина и других во многом повторяют друг друга, различаясь лишь глубиной разработки и степенью непротиворечивости
соответствующих теоретических конструктов. Поэтому в данной работе мы остановимся на исследованиях П. Сорокина и Э. Гуссерля, в
которых понятие кризиса разработано наиболее глубоко, лишь пунктиром обозначая иные интерпретации, не несущие в себе принципиально нового содержания.
Прежде чем говорить о трактовке Питиримом Сорокиным понятия
кризис, следует вкратце описать его общие теоретические установки.
Критикуя Данилевского, Шпенглера, Тойнби за модели культурорганизмов, в которых каждый культурный тип связывается с определенной локализацией в пространстве и времени, он выделяет в качестве базовых категорий три глобальные культурные суперсистемы:
чувственную (sensate), идеационную (ideational) и идеалистическую
(idealistic). Каждая из этих систем присутствует в любой локальной
культуре и проявляется в ее подсистемах: искусстве, науке, философии, религии, социальных и политических институтах, организации
повседневной жизни. В определенный исторический период одна из
них доминирует, и все характерные черты культуры определяются
именно ей 10.
Чувственная форма опирается на представление, что истинной
реальностью и ценностью обладает для человека лишь то, что воспринимается чувствами; вне предметов, которые можно видеть, слышать,
осязать, обонять, ощущать во вкусе, нет ни подлинной реальности, ни
подлинных ценностей (Sorokin 1964, p. 17). Эта форма ведет к прагматизму, утилитаризму и гедонизму в жизненных установках, различным
видам реализма и натурализма в литературе и изобразительном искусстве, чувственному восприятию Бога, доступного и убедительного
лишь в своих материальных проявлениях, демократии, линейному
восприятию истории, основанному на идее прогресса и т. д. (Sorokin
1964, p. 17–18; Sorokin, 1951, p. 3–4). Добившись заметных результатов
в материальном наполнении жизни, в обеспечении комфорта, культура, в которой данная форма доминирует, совершенно беспомощна при
обращении к сверчувственным ценностям, умело заботясь о теле, она
не дает качественной пищи душе.
Глава 10. Термин и его интерпретация: что мы имеем в виду...
195
Идеационная культура считает, что истинная реальность и высшая
ценность не могут быть постигнуты чувствами, они сверхчувственны
и сверхрациональны. Высшим критерием истины для такой культуры
является божественное откровение, а свидетельства чувств связаны с
грехом, с отклонением от истины. Для этой культуры материальный
мир – отражение, символ идеального, и поэтому забота о материальном
обустройстве этого мира занимает ее в наименьшей степени. Ей соответствуют символические формы в искусстве, альтруизм в этике, «вертикальные» структуры государственного устройства, подчинение научных ценностей религиозным и т. д. (Sorokin, 1964, p. 18–22).
Идеалистическая культура представляет промежуточный тип и
опирается на идею бесконечного разнообразия (Infinite Manifold). Она
не делает акцента на чувственной или идеационной составляющей –
лишь бы их синтез приводил к целостным и законченным формам (там
же, p. 22–23).
Для иллюстрации своих положений Сорокин обращается, главным
образом, к опыту античной и западной культуры, практически не касаясь культур Востока. Так, по его мнению, в Древней Греции до VI
века до н. э. господствовала идеационная суперсистема, со второй половины VI по конец IV века – интегральная, а затем чувственная.
В Европе VI–XII веков основу культуры составляет идеационная форма, которая с конца XII века приходит в упадок, уступая первенство
интегральной, а затем с конца XV века – чувственной, преобладание
которой сохраняется до XX века11.
Кризис, по Сорокину, наступает тогда, когда одна из суперсистем
перестает доминировать, уступая свое место другой. Это приводит к
разрушению связанных с ней культурных институтов, к потере равновесия и дисбалансам. В заданной системе координат описывает Сорокин и кризис западной культуры ХХ века: «…нынешний кризис
нашей культуры и общества состоит как раз в дезинтеграции чувственной системы современной евро-американской культуры. Доминируя
в течение нескольких столетий, чувственная форма запечатлела себя
во всех главных компонентах западной культуры и общества и сделала
их также преимущественно чувственными. При дезинтеграции чувственной формы произошел также распад этих компонент нашего
общества и культуры. По этой причине данный кризис – не выход из
строя того или иного одиночного компонента, но, скорее, разрушение
подавляюще большой части этих секторов, внедренных в чувственную
суперсистему. Будучи “тотальным” или интегральным по своей природе, он несравненно глубже и сильнее обычного кризиса. Он имеет
настолько глубокие корни, что за последние три тысячелетия только
четыре кризиса в истории греко-римской и западной культур можно с
ним сопоставить. Однако и те четыре были меньших размеров, чем
�196
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
нынешний, с которым мы столкнулись лицом к лицу. Мы живем и
действуем в один из поворотных моментов человеческой истории,
когда одна фундаментальная форма существования культуры и общества – чувственная – клонится к закату и иная форма зарождается.
Этот кризис экстраординарен еще и в том смысле, что, как и предшествующие, он отмечен невероятным всплеском войн, революций,
анархии и кровопролития; социальным, моральным, экономическим,
политическим и интеллектуальным хаосом; возрождением отвратительной жестокости и животных инстинктов; временным отказом от
больших и малых человеческих ценностей; несчастьями и страданиями
миллионов – потрясениями, намного превосходящими хаос и дезорганизацию обычных кризисов. Такие переходные периоды всегда были
подлинными dies irae, dies illa» (Sorokin, 1941, p. 21–22).
Далее Сорокин пытается выявить конкретные параметры кризиса,
обосновывая тем самым свой весьма жесткий диагноз. Он говорит о
кризисе чувственного искусства, чувственной формы науки и философии, этики и законодательства, кризисе контрактной семьи, политических и экономических структур, межнациональных отношений.
Остановимся подробнее на характеристике отдельных блоков.
Описывая современное ему чувственное искусство, Сорокин выделяет шесть «болевых точек»: а) функция доставления эстетического
наслаждения, центральная для такого искусства, теперь сводит эти наслаждения на примитивный, животный уровень, характеризующийся
набором «вино, женщины и песни»; музыка Бетховена или Баха превращается в приложение к рекламе масла, автомобилей, круп или
слабительных, творения Рембрандта и Праксителя выступают в качестве
лейблов для мыла, бритвенных лезвий и т. д., становясь «сателлитами»
более «солидных» удовольствий, таких как кружка пива или пакет попкорна; б) вместо того чтобы отражать чувственную реальность, современное искусство становится искусством иллюзии, принимая все более
размытые и исчезающие формы; в) современное искусство делает акцент на изображении не нормы, а патологии, не прекрасного, а безобразного; г) это же касается не только содержания, но и форм современного искусства: гармонии и упорядоченности оно предпочитает дисгармонию и хаос; д) обилие используемых для доставления удовольствия
технических приемов и средств выхолащивает внутреннее содержание
искусства; е) чувственное искусство – искусство профессионалов, опирающееся на идею специализации, что на поздних стадиях его развития
ведет к удалению художника от окружающего его социального целого,
отделению от реальности все более и более массивной стеной цеховых
интересов (Sorokin, 1941, p. 55–56, 60).
Говоря о чувственных системах поиска истины, Сорокин видит их
проявление в материализме, в утилитарном, гедонистическом, праг-
Глава 10. Термин и его интерпретация: что мы имеем в виду...
197
матическом, инструментальном характере науки и философии. Черты
кризиса таких систем он находит в философии Канта или Маха, отказывающих внешнему миру в возможности объективного познания,
в релятивистских теориях современной науки, предельно размывающих само понятие истины, в сведении человека на уровень комплекса ощущений, элиминирующем его человеческую сущность, во все
большем отрыве узкого и ограниченного эмпиризма от иных человеческих ценностей – религии, добродетели, красоты (Sorokin, 1941,
c. 116–125).
Не останавливаясь на авторской характеристике других блоков,
перейдем к критическому анализу концепции. С одной стороны, не
вызывает сомнения справедливость и точность значительного числа
частных наблюдений, сделанных Сорокиным, вполне соответствующих
реакции многих интеллектуалов на культурную ситуацию ХХ века.
С другой стороны, стремление автора к универсализму и глобализму
(также характерное, заметим, для многих его современников), противоречит, кажется, многообразию и сложности реального положения
дел. Прежде всего, порождает вопросы характеристика европейской
культуры Нового времени как чувственной по основным своим характеристикам. Если говорить об искусстве, где проделанный Сорокиным
анализ наиболее подробен, то вызывает сомнения уже предложенная
им дефиниция чувственного искусства. Точнее, таких дефиниций две –
искусство, опирающееся на постигаемую чувствами реальность, и
искусство, имеющее своей главной целью доставление чувственного
наслаждения. Очевидно, что одно не тождественно другому и со вторым
определением никак не соотносится большинство вершинных достижений европейской литературы, музыки, изобразительного искусства
Нового времени, авторы которых стремились не доставлять читателю
удовольствие, а просвещать его, будить мысль и чувство, обращать его
к подлинным ценностям, трансцендентным воспринимаемому чувствами миру. Первое определение шире, но и оно оставляет за скобками творчество Баха, Рембрандта, романтиков, и даже многих авторов,
традиционно относимых к реалистам (например, Толстого, для которого, при всем его реализме, крайне значимым всегда оставался трансцендентный пласт). Кроме того, следует отметить противоречивость в
трактовке Сорокиным самого понятия кризиса. Кризис описывается
им как отклонение от определяющей для чувственного искусства нормы, в результате которого в рамках этого искусства создаются произведения, вступающие с ней в резкое противоречие (пункт б, указывающий на появление в чувственном искусстве, основанном на реализме,
все более и более ирреальных форм), но он говорит о кризисе и вне
соотнесения с нормой, просто как об упадке культуры, причем критерием этого упадка выступает чувство разочарования в ней, испыты-
�198
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
ваемое интеллектуалом (пункт а). Кажется, что Рембрандт в качестве
лейбла для мыла или Бетховен как обрамление к рекламе автомобиля
могут и не быть проявлениями кризиса системы, т. е. факторами, характеризующими ее движение к гибели или к перерождению, а просто
выражать эволюцию «чувственной» нормы, пусть крайне неприятную
для кого-то, но, тем не менее, неизбежную12.
Еще более сомнительно описание чувственного способа познания
истины. Проводимые Сорокиным подсчеты процента принадлежащих
различным эпохам философских текстов, в которых доминируют
идеационные и идеалистические системы13 не убеждают, потому что
при таких подсчетах не учитывается культурная значимость базовых
текстов. У каждого, кто знаком с историей европейской философии,
не вызывает сомнений, что идеалистическая линия в ней (Декарт,
Спиноза, Лейбниц, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель и др.) является
одной из доминант для Нового времени и никак не может быть элиминирована.
Неоднородны и не согласованы между собой выделяемые Сорокиным черты кризиса чувственного способа познания. Сведение человека на уровень комплекса ощущений характерно для сенсуализма, который, как уже было отмечено, нельзя признать доминирующим в
Новое время, но если, следуя Сорокину, придать ему формообразующий статус, то отмеченная черта – характеристика нормы, а не отклонения от нормы. Аналогично обстоит дело и с кантовским трансцендентальным идеализмом, вырастающим из рационализма Декарта,
скептицизма Юма и т. д., т. е. глубоко укоренным в традиции Нового
времени, а не противостоящем ей.
Отметим, что общий подход к описанию кризиса культуры, выявленный в исследованиях Сорокина, в менее разработанном виде мы
найдем в работах А. Вебера (Вебер 1995 (1924)), А. Швейцера (Швейцер
1992 (1923), с. 92–96), в «Закате Европы» О. Шпенглера (хотя там непосредственно понятие кризиса и не становится предметом рефлексии)
и т. д. Схема рассуждений в общем случае такова: сначала предлагается некоторая модель описания европейской культуры, носящая организмический или квазиорганизмический характер14 (у Сорокина это –
нововременная культура как чувственная суперсистема), причем на
фактах, удовлетворяющих модели, делается акцент, они попадают в
«полосу света», а факты, противоречащие ей, просто не замечаются.
После этого в модели выявляются черты кризиса, часто связанные с
явлениями, которые существовали и ранее, но теперь перемещаются
из тени на свет, а часто вполне укладывающиеся в описанную моделью
культурную норму, но вызывающие протест интеллектуалов обмельчанием и упрощением высокой культуры предшествующих эпох. Никаких принципиально иных схем описания мне обнаружить не удалось.
Глава 10. Термин и его интерпретация: что мы имеем в виду...
199
Отметим также, что для всех упомянутых авторов европейская
культура – объективная реальность, а ее развитие – объективный факт,
аналогичный развитию человека, и фиксируемый ими кризис столь же
объективен. Они выступают в качестве медиков, ставящих диагноз и
выявляющих причины заболевания, реальность которого не вызывает
у них сомнений.
У Альфреда Вебера проводимые организмические аналогии приобретают механицистский оттенок, и его описание значительно более
метафорично, чем у Сорокина. Европейской идеей он объявляет «гуманность», связывая ее с идеей гармонии, равновесия сил и утверждает, что «система европейской гармонии до последней трети XIX в.
находилась в безграничном поле динамического силового воздействия.
Она действительно обретала внутреннее равновесие, передавая свою
избыточную энергию этому силовому полю» (Вебер 1995 (1924), с. 285).
Причины кризиса он видит в нарушении системы европейского равновесия, связанном с расширением европейской ойкумены, столкновением имперской и неимперской моделей развития.
В терминах равновесия описывает современную ему культурную
ситуацию и А. Швейцер, находя причину кризиса в том, что материальная сторона европейской культуры развилась намного сильнее, чем
духовная (Швейцер, 1992 (1923), с. 92). В целом его описание вполне
соотносится с описанием Сорокина, но также носит значительно менее
структурированный и значительно более метафоричный характер.
Особо следует остановиться на последней, пожалуй, крупной работе Э. Гуссерля «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» и кратко излагающем ее основные идеи докладе «Кризис
европейского человечества и философия» (Husserl 1954; Husserl 1954а;
русский пер.: Гуссерль 1986; Гуссерль 1992). Концепция Гуссерля вполне сопоставима с концепцией Сорокина по уровню разработанности,
но заметно отличается по сути. Отметим, прежде всего, строгое соответствие между описанной нами в первой части языковой интуицией
и структурой понятия. Медицинская семантика, стоящая за понятием
«кризис», эксплицирована в самом начале работы, и хотя организмическая модель в чистом виде Гуссерлем отрицается15, он говорит о духовном образе (geistige Gestalt) Европы и духовном телосе европейского человечества, определяющем его развитие. Далее он обозначает
момент начала заболевания, представляющего собой резкое отклонение
от нормального развития, фиксирует критический характер этого отклонения, которое может погубить европейскую цивилизацию, и
указывает возможный путь лечения, которым является, по сути, ретроспективно обозреваемый им феноменологический проект.
Остановимся на каждом из этих моментов подробнее. Гештальт
европейского человечества Гуссерль соотносит с рождением теорети-
�200
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
ческой установки (die theoretische Einstellung), установки θαυμζειν (испытывать изумление), и связанным с этой установкой возникновением философии16. «Человека охватывает страсть к созерцанию и познанию мира, свободная от всяких практических интересов, и в замкнутом
кругу познавательных действий и посвященного ей времени преследуется и творится не что иное, как чистая theoria. Другими словами,
человек становится незаинтересованным наблюдателем, озирающим
мир, он превращается в философа; или, скорее, жизнь его мотивируется новыми, лишь в этой установке возможными целями и методами
мышления, и в конце концов возникает философия – и он сам становится философом», – пишет Гуссерль (Гуссерль 1986, с. 108).
Далее Гуссерль говорит о болезни, о кризисе европейской идеи,
связывая начало этого кризиса с Галилеем, с процессом арифметизации
геометрии и, обобщая, с «прагматизацией» рационализма, «с его извращением “натурализмом” и “объективизмом”» (Husserl 1954a,
S. 337–345). В Новое время из theoria выхолащивается ее глубинная
созерцательная установка, и человек и социум начинают мыслиться
по законам материального мира, дух превращается в одну из трансформаций тела. Человек становится исчисляемой сущностью,
ньютоновско-лапласианская парадигма превращается в базисную объясняющую модель. Однако выход из тупика, по Гуссерлю, состоит не
в иррационализме, который приведет, с его точки зрения, к новому
варварству, а в очищении от эмпирики, от наивного натурализма. «Дух,
один только дух, существующий в себе самом и для себя самого, независим, и только в этой независимости и может изучаться по-настоящему
рационально, по-настоящему, до последних оснований научно» (Husserl
1954a, S. 345). Реализации этой установки, приданию философии статуса строгой науки и был посвящен весь феноменологический проект
Гуссерля, и этот доклад как бы подводит его итог.
Перейдем теперь к критическому анализу концепции. С одной
стороны, сложно отрицать, что теоретическая установка напрямую
связана с актом созерцания17 и составляет важнейший элемент мироощущения древнего грека18.
С другой стороны, вызывает сомнения утверждение о theoria как
единственной основополагающей установке даже для греков, не говоря
уже о европейской культуре в целом. Наряду с философской традицией,
за которой стоит фигура мантиса-профета, постигающего истину
благодаря мистической интуиции, не меньшее значение, несмотря на
более позднее время формирования, для греков имела и риторическая
модель; диалог школы Платона и школы Исократа как двух типов
пайдейи, является системообразующим для поздней античности как в
ее греческом, так и в римском варианте. В этом смысле γορεειν не
менее значимо для грека, чем θαυμζειν. Поэтому то, что Гуссерль
Глава 10. Термин и его интерпретация: что мы имеем в виду...
201
считает болезнью, кризисом, представляет собой, кажется, трансформацию одной из установок, заложенных в основании культуры, т. е.
принадлежит норме, а не отклонению от нее.
Сопоставляя установки Гуссерля и Сорокина, мы видим, что они
находятся в отношении тезиса и антитезиса. То, что для Гуссерля
выглядит как проявление кризиса единой европейской культуры, для
Сорокина – ее определяющая характеристика (чувственная культура),
а кризис, с его точки зрения, происходит лишь в XX веке. Способ
снятия тезиса и антитезиса в таких ситуациях был указан еще в
кантовских антиномиях: реальность, о которой идет неразрешимый
спор, не объективна, а субъективна; и понятие культуры, и понятие
«кризиса культуры» не характеризуют внешний человеку пласт бытия,
а выступают как продукты человеческого сознания, как реакция
сознания на процессы, происходящие во внешнем мире.
10.3. «Кризис культуры» и экзистенциал
Отталкиваясь от последнего замечания, попробуем разобраться с тем,
какая реальность стоит за понятием «кризис культуры».
Прежде всего, необходимо определиться со статусом понятий «европейская культура» или «русская культура», «китайская культура» и
т. д. Несмотря на очевидность замечания, напомню, тем не менее, что
это – не объекты внешнего мира, постигаемые органами чувств, такие
как стол, стул, камень, и даже не такие произведения, как «Лунная
соната» или «Преступление и наказание», имеющие свои материальные
воплощения, это нечто гораздо более размытое и эфемерное. Чтобы
сложность проблемы стала более очевидной, можно переформулировать вопрос о статусе какой-либо культуры в вопрос о критерии отнесения к ней того или иного культурного факта. Как доказать, что
«Критика чистого разума» – произведение европейской культуры? Как
доказать, что «Анна Каренина» – произведение русской культуры?
Первые приходящие в голову ответы (язык, описание социальных
реалий и т. д.) после недолгих размышлений отбрасываются. И тогда
возникает веберовский образ культуры как «идеального типа»19, позволяющего исследователю или носителю культуры, выступающему в
качестве «наивного исследователя», упорядочивать бурлящую вокруг
него социальную, культурную, семиотическую реальность, подобно
тому, как ребенок в описанных разными исследователями психологических экспериментах видит в находящемся перед ним бесформенном
чернильном пятне облако, слона и т. д.
Однако опыт собственного бытия, бытия не в качестве исследователя, а в качестве носителя культуры активно протестует против сведения европейской культуры или русской культуры к идеальному типу
или совокупности идеальных типов. Кажется, что это – нечто онтоло-
�202
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
гически более плотное, весомое и тонкое одновременно. Реальности
подобного рода можно описать с помощью понятия экзистенциал,
характеризующего объекты, принадлежащие особому, отличному от
материальных предметов и идеальных сущностей, онтологическому
пласту окружающей человека реальности20. Его смысл можно проиллюстрировать, обратившись к христианской традиции. Открыв или,
точнее, сделав предметом тщательного анализа третье, наряду с ratio и
sensus, измерение в человеке – voluntas, волю – христианство не обнаружило в окружающей человека реальности класса объектов, который
соотносился бы с ней, как вещи соотносятся с чувством, а понятия – с
разумом. Трехмерный образ человека христианство, после долгих поисков альтернативы, описывает на разработанном Античностью бинарном языке (эйдосы – вещи) или просто замолкает в апофатическом
изумлении. Первый путь реализуется, например, в «Сумме теологии»
Фомы Аквинского, где уже в первом вопросе теология, основанная на
божественном откровении, описывается по той же схеме, что и любая
наука (есть неопределяемые понятия, есть аксиомы, есть положения,
выводимые из них, и т. д.)21, второй – в сочинениях Дионисия Ареопагита.
Экзистенциалы можно охарактеризовать как класс объектов, соответствующих волевому измерению в человеке. Обозначая их отличие
от материальных предметов, следует заметить, что экзистенциалы не
допускают восприятия органами чувств, не имеют веса, вкуса, цвета и
запаха. Обозначая их отличие от идеальных сущностей, понятий, нужно сказать, что они возникают, эволюционируют и исчезают, проходя
стадии развития, в определенной степени аналогичные стадиям развития организма.
Одна из основных проблем при описании экзистенциалов состоит
в том, что на них невозможно «показать пальцем», увидеть извне при
отсутствии соответствующего онтологического опыта. Проще всего
подойти к ним через понятие ритуала. «Живая» социальная группа
отличается от «мертвой», формальной, в частности, тем, что создает
особые ритуалы, которые бессмысленны с точки зрения повседневной
логики, но воспринимаются всеми членами группы как один из
определяющих моментов их существования. Наиболее очевидный пример таких ритуалов – обряды, разработанные различными религиозными объединениями и сектами. Однако подобную ритуальную нагрузку могут нести и повседневные действия, а общности, за которыми
стоят экзистенциалы – оказаться совсем небольшими (семья, класс в
школе и т. д.). Так, воскресная уборка квартиры или совместный обед
бывают пустой формальностью, но могут переживаться и как выражение особой экзистенциальной целостности «семья К-овых» и в этом
случае вызывать трепетное, эмоционально напряженное чувство. Важ-
Глава 10. Термин и его интерпретация: что мы имеем в виду...
203
но, что различия между двумя типами семей не выражаются на понятийном уровне: и в том, и в другом случае понятие «семья К-овых»
одинаково входит в предложения. Однако в одном случае экзистенциал есть, а в другом он отсутствует. Похожая ситуация имеет место и с
другими общностями, такими как класс в школе, группа в институте
и т. д. Наглядно различие между понятием и экзистенциалом можно
продемонстрировать на примере отношения к числу «десять» (декаде)
современного школьника и гипотетического представителя пифагорейского ордена. В одном случае это объект для арифметических манипуляций, в другом – сущность, вызывающая переживание, которое
вполне можно назвать религиозным.
Следует также заметить, что класс экзистенциалов не исчерпывается подобными общностями, он значительно более широк. Статус
экзистенциала имеют литературные герои (Базаров, например), исторические персонажи (Писарев, Достоевский), в этом статусе осознается человеком и собственная личность («Я», self). Определенным
критерием появления экзистенциала может служить употребление соответствующего ему понятия в предложении в позиции субъекта,
осуществляющего сенсорный, когнитивный или волевой акт: «родина
слышит», «партия приказала», «народ решил», «Москва слезам не верит» и т. п.
Экзистенциалы во многом определяют для человека область нормативных действий: «я как христианин должен...», «я как носитель
русской культуры должен…», «я как член семьи К-овых должен…», «я
как Алексей К-ов должен… (иначе я просто перестану себя уважать)».
Из приведенных характеристик видно, что экзистенциалы могут
быть описаны организмической моделью, т. е. с использованием понятий «рождение», «развитие», «кризис», «смерть». Так, «кризис»
будет характеризовать состояние экзистенциала, при котором его
распад воспринимается как вполне вероятное развитие событий.
Внешне это проявляется в превращении связанного с экзистенциалом
мифа в нарратив, ритуалов в церемонии, или, другими словами, в
потере значимости тех действий или сюжетов, которые раньше были
значимыми. Например, кризис семейных отношений в семье К-овых,
или кризис экзистенциала «семья К-овых», наступает, когда научные
занятия мужа, литературное творчество жены или спортивные успехи
детей перестают быть окрашенными сакральным ореолом и начинают восприниматься как обычный бытовой факт (надоела эта его
наука, лучше бы деньги зарабатывал!), кризис личности (или кризис
экзистенциала «Я») наступает, когда некоторые мои базовые представления о себе перестают быть значимыми (я как Алексей К-ов
должен, а потом оказывается, что должен, но не могу, или перестаю
�204
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
понимать, почему должен – это обычно и называется кризисом личности).
Теперь обратимся непосредственно к кризису европейской (или
русской, китайской и т. п.) культуры. Такой кризис является фактом
жизни сознания и наступает, когда для некоторой «критической массы»
людей перестают быть значимыми базовые элементы экзистенциала
«европейская культура». Некоторые наиболее чувствительные «европейцы» фиксируют это состояние, воспринимая его как ощущение
личной болезни, но болезни, охватившей человека не как атомарную,
самодостаточную личность, а как элемент целого, в данном случае, как
европейского человека. Другими словами, кризис культуры – это кризис личности как носителя определенной культурной традиции. Теоретики, размышляющие над причинами такого положения дел (Сорокин, Гуссерль, А. Вебер, Швейцер и др.), пытаются выразить испытываемое ими болезненное ощущение на рациональном языке,
переводят экзистенциал в «идеальный тип», создают свои интерпретации происходящего. Чем-то их действия напоминают попытку говорить
об уходящей любви на языке фактов и цифр – занятие сколь неизбежное, столь же и безнадежное.
Примечания
Материал данной главы воспроизводит с небольшими изменениями статью: Глебкин
2005.
2
Такая постановка проблемы близка описанной в седьмой главе проблеме соотношения слова и концепта.
3
Как уже отмечалось, один из основателей Begriffsgeschichte Рейнхард Козеллек включает эту проблему в более фундаментальное проблемное поле: история есть нечто иное,
чем текст, но она не может быть понята иначе, чем через текст (Koselleck 2004, p. 223; ср.
Pocock 2009, p. 106–119).
4
В качестве иллюстрации можно упомянуть работы: Koselleck 2002, p. 170–247; Koselleck 2004, p. 43–57, 222–254; Хархордин 2002; Heller 2006.
5
Ср. высказывание Тургенева в «Отцах и детях»: «Василий Иванович оживился немного. –
Слава богу! – твердил он, – наступил кризис... прошел кризис. – Эка, подумаешь! – промолвил Базаров, – слово-то что значит! Нашел его, сказал: “кризис” – и утешен. Удивительное
дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дурака и не пришьют, он опечалится; назовут его умницей и денег ему не дадут – он почувствует удовольствие» (XXVII).
6
Под семантической структурой слова в повседневном языке я подразумеваю набор
характеристик, определяющих повседневное употребление слова, т. е. употребление,
которое не предполагает рефлексии и каких-либо специальных контекстов. Определенным аналогом этой категории является понятие «наивной картины мира» у Ю.Д. Апресяна (Апресян 1995 (1974), с. 57–58).
7
Это впечатление только усиливается при обращении к русскому языку, где слово начинает использоваться лишь в XIX веке и, главным образом, в медицинском значении.
Так, например, у Л.Н. Толстого: «Князь Андрей обрадовался, увидав мальчика, так, как
будто бы он уже потерял его. Он нагнулся и, как учила его сестра, губами попробовал, есть
ли жар у ребенка. Нежный лоб был влажен, он дотронулся рукой до головы – даже волосы
были мокры: так сильно вспотел ребенок. Не только он не умер, но теперь очевидно было,
что кризис совершился и что он выздоровел» (Война и мир, II, 2, 9).
1
Глава 10. Термин и его интерпретация: что мы имеем в виду...
205
Возможна и противоположная когнитивная траектория, при которой органические
модели переносятся на неорганический мир. См., например, характерное высказывание: «Жизненный путь звезд, светящихся газовых скоплений вещества, представляет собой законченный цикл – рождение, рост, период относительно спокойной активности,
агония, смерть, напоминающий жизненный путь отдельного организма. В некоторых
случаях можно говорить об оставленном звездами “потомстве”, о последовательных поколениях звезд» (Арманд 1999, с. 7).
9
Ср. с обсуждаемым в четвертой главе расширением значения слова метафора Лакоффом и Джонсоном.
10
П. Сорокин говорил также и о промежуточных типах: эклектичном (eclectic), случайным образом объединяющем элементы первых трех, и в отдельных случаях (например,
при обсуждении способов познания) также об интегральном (integral), соединяющем
базовые типы в упорядоченное целое. См.: Sorokin 1951, p. 245–247. Впрочем, используемая Сорокиным терминология менялась со временем. Так, позднее он употреблял
понятие «интегральный тип» вместо понятия «идеалистический тип» (Sorokin 1964,
p. 22–23).
11
Следует отметить, что, несмотря на стремление сохранить при описании суперсистем
объективность, Сорокин явно отдает предпочтение идеационной суперсистеме, с периодически прорывающимся раздражением характеризуя чувственную. См., например,
его характеристику чувственного искусства: «Как хорошенькая, но глупая красотка, она
(чувственная форма искусства. – В.Г.) имеет успех лишь до тех пор, пока наряжена и
сохраняет свою поверхностную красоту. Чтобы сохранить свое обаяние, она должна
неумеренно расточать богатство, устраивать пышные и величественные церемонии, использовать ошеломляющие технические эффекты и другие средства для внешнего украшения» (Sorokin 1941, p. 33).
12
Именно так говорит об этом, например, Р. Гвардини. См.: Гвардини 1990.
13
От 80% до 100% с 600 по 1000 гг. и от 30 до 12% в XIX и XX столетии (Sorokin, 1941,
p. 93)
14
Как уже отмечалось, Сорокин в своих поздних работах критикует организмические
представления о культурах, характерные для Данилевского, Шпенглера, Тойнби и др.
(см.: Sorokin, 1951, p. 209), однако сам создает квазиорганические модели на ином уровне, на уровне суперсистем. Выделенные Сорокиным суперсистемы ведут себя как организмы, и хотя он декларирует, что каждая конкретная культура содержит в себе элементы всех суперсистем, в реальных описаниях «забывает» об этом. В классическом же
своем труде «Социальная и культурная динамика» он воспроизводит организмические
представления предельно отчетливо («…каждый существенный аспект жизни, организации и культуры западного общества находится в величайшем кризисе… Его тело и ум
больны и сложно найти место … не пораженное язвой, и какие-нибудь нервные окончания, которые нормально функционируют…» (Sorokin 1937, p. 535).
15
«Зоологии народов, по сути дела, не существует», – пишет Гуссерль (Husserl 1954a,
S. 320).
16
Ср. у Платона: «Ибо как раз философу свойственно испытывать такое изумление.
Оно и есть начало философии (οκ λλη αρχ φιλοσφια τ θαυ μζειν)» (Tht., 155d).
17
Напомню, что θεωρω изначально обозначало «смотреть, наблюдать, созерцать» (например, за Олимпийскими играми), θεωρα – процесс созерцания в театре или на играх,
θερημα – само зрелище (хотя иногда θεωρα также может обозначать зрелище, например, το Διονσου θεωρα – Дионисийские торжества у Платона). После Аристотеля
эти понятия были перенесены из физического мира в геометрическое пространство и
стали характеризовать особое, интеллектуальное созерцание, его продукт и его объект.
18
В качестве наглядной иллюстрации этой доминантной для античности созерцательной
установки можно привести следующий фрагмент из «Тускуланских бесед» Цицерона:
«По словам Гераклида Понтийского, виднейшего ученого и ученика Платона, когдато Пифагор во Флиунте вел ученую и красноречивую беседу с флиунтским правителем
8
�206
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Леонтом; Леонт так поразился уму и красноречию собеседника, что спросил, откуда у
него такие знания; а Пифагор ответил, что никаких знаний он за собою не знает, а просто он философ, то есть «любомудр». Удивленный новым словом, Леонт спросил, кто же
такие философы и чем они отличаются от других людей. Пифагор ответил, что жизнь
человеческая напоминает ему тот праздничный торг, который устраивается при самых
пышных общегреческих играх. Одни люди там стараются снискать венок славы и известности упражнениями закаленных тел, другие приходят, чтобы нажиться, что-нибудь
продавая и покупая, а третьи, самые умные, не ищут ни рукоплесканий, ни прибыли,
а приходят только посмотреть, что и как здесь делается. Так и мы: словно явились из
другой жизни в эту жизнь, как на праздничный торг из какого-то другого города, и одни
природою призваны служить славе, другие — служить наживе, и лишь немногие, отбросив все остальные дела, внимательно всматриваются в природу вещей,— они-то и
называются “любителями мудрости”, то есть философами; и как на состязаниях благороднее всего смотреть и ничего для себя не искать, так и в жизни лучше всего созерцание
и познание вещей». (Cic. Tusc. Disput. V, 3, 8–9, пер. М.Л. Гаспарова).
19
См. об этом Вебер 1995а (1904), особ. с. 580–603.
20
Дальнейшее описание категории экзистенциала следует работам: Глебкин 1998,
с. 21–24; Глебкин 2007з.
21
«Dicendum sacram doctrinam esse scientiam (Необходимо сказать, что священная доктрина является наукой)» (S.Th., q.1, ar.2, co.).
Глава 11. Общие контуры социокультурной
теории лексических комплексов
В данной главе мы соберем воедино разбросанные по предыдущим
разделам идеи и элементы инструментария в единый теоретический
каркас и, исходя из базовых принципов культурно-исторического подхода, опишем общие контуры семантической теории с условным названием социокультурная теория лексических комплексов (далее СТЛК)1.
Название делает акцент на двух ключевых элементах теории: во-первых,
на ее социокультурной основе, т. е. на представлении о том, что язык
является открытой системой, понимаемой как часть более обширной
целостности, различные аспекты которой выражаются категориями
социума и культуры, и, во-вторых, на идее комплекса (в смысле Выготского) как основе для описания семантической эволюции. Начнем
с общих утверждений, характеризующих мировоззренческие основания
теории.
а) представление об объективном, не связанном с человеком мире
является теоретической абстракцией. В реальности образ мира складывается в процессе взаимодействия человека и окружающих его природной и социокультурной сред. Этот образ индивидуален для каждого человека, однако в нем можно выделить инварианты, общие для
некоторой социальной группы, субкультуры, культуры (русской, японской и т. д.), а также человечества в целом:
б) язык является одним из средств формирования данного образа
в процессе социокультурной коммуникации и одновременно его аббревиатурой, компактной формой хранения. В понимаемом таким
образом языке мы можем выделить несколько уровней: индивидуальный язык (идиолект), язык, соответствующий определенной социальной общности, субкультуре или профессиональной группе (жаргон,
диалект), язык в традиционном понимании (русский, английский и
т. д.), набор общих для всех языков смысловых инвариантов.
в) в системе языка можно выделить два модуля, обладающих значительной степенью самостоятельности: лингвистический модуль,
отвечающий за внутреннюю организацию системы как средства хра-
�208
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
нения и упаковки образа мира, и концептуальный модуль, хранящий
сам образ.
Сформулированные постулаты требуют следующих комментариев.
А) Первый постулат является непосредственным отражением трансформации базовых мировоззренческих установок, имевшей место в
европейской философии XX века. Она была описана в первом разделе
третьей главы. Представление о мире и человеке как рационально
действующих машинах, характерное для философии Нового времени,
постепенно смещается на периферию мировоззренческого поля, и его
место занимает образ человека как телесно-духовной целостности,
встроенной в сложную систему социальных коммуникаций, и мира как
целостности, воспринятой и наделенной смыслами человеком. Как
уже отмечалось во введении, мировоззренческая парадигма, в которой
представление об объективном, не зависящем от наблюдателя мире
сменяется образом мира, возникающем во взаимодействии наблюдателя и окружающей его реальности, оказывается одним из важных
итогов развития науки в XX веке, проявляя себя в экологическом подходе Дж. Гибсона, концепции идеальных типов М. Вебера и находя,
пожалуй, наиболее системное воплощение в базовом для квантовой
механики постулате о зависимости результата измерения от способа
взаимодействия между прибором и объектом (см.: Glebkin 2009).
Б) В работах по когнитивной лингвистике, изложенных в третьей
главе (в частности, в исследованиях Л. Барсалоу и Э. Рош), показано,
что восприятие языка человеком обладает рядом важных особенностей
(специфика процесса категоризации, выделение лингвистической и
концептуальной систем и т. д.). Эти особенности должны учитываться
и при создании теории языка как онтологического объекта. Описанные
в третьей главе психолингвистические эксперименты дают наглядное
подтверждение того, что слово, соответствующее некоторому процессу, активизирует у слушателя или читателя значительную часть тех же
нейронных сетей, которые возбуждаются и у непосредственных участников этого процесса. В. Эванс предлагал воспринимать слово как
«точку доступа» к определенной концептуальной информации (см.
гл. 6). Однако можно сделать и более сильное утверждение, говоря об
использовании слов как способе свертывания и развертывания, упаковки и хранения информации, соответствующей определенной ситуации или группе ситуаций.
Образ мира у каждого человека индивидуален, соответствует уникальности характеризующей человека жизненной траектории и является важной составляющей его индивидуальности в целом. Индивидуальности образа мира соответствует и индивидуальность языка, на
котором говорит человек (идиолекта); специфика концептуальной
информации, которую он соотносит с тем или иным словом или пред-
Глава 11. Общие контуры социокультурной теории лексических комплексов
209
ложением, определяется особенностями его жизненного опыта, особенностями ситуаций, в которых данное слово или предложение появлялось ранее и появилось теперь. Не существует объективных, не
связанных с нашим опытом значений данного слова (мы можем говорить о таких значениях только как о допустимой в определенных
пределах абстракции), более того, одно и то же слово или предложение
получает разные значения в зависимости от контекста, в котором оно
произносится. Тем не менее, опыт разных людей имеет более или
менее значительные области пересечения, открывающие путь для
продуктивной коммуникации. Именно так следует, на мой взгляд,
интерпретировать идею фрейма в изложении Филлмора: фреймы
представляют собой структуры, закрепляющие общий для людей социокультурный опыт, к которому они причастны как социокультурные
существа2.
Указанный взгляд на значение порождает очевидный вопрос. Если
значение слова или предложения перестает быть элементом языка и
становится характеристикой опосредованного языком взаимодействия
человека с его природным и социокультурным окружением, и если
такое значение различается у разных людей и даже у одного человека
в разные моменты времени, то как можно говорить о языке в целом и
присущих ему языковых закономерностях? Не распадается ли тогда
язык на совокупность идиолектов, индивидуальных языков, которые
не обладают устойчивой структурой, но меняются в зависимости от
контекста? Как тогда возможен процесс коммуникации?
Не претендуя здесь на сколько-нибудь подробный ответ на этот
вопрос, обозначу основную идею. Несмотря на все периферийные
вариации, определяемые ситуационным контекстом, в нашем восприятии тех или иных понятий существует устойчивое ядро. Нельзя
сказать, что это ядро не меняется со временем (так, представление
сельского жителя о собаках как домашних животных (вариациях их
внешнего облика, их функциях и т. д.) постепенно изменится, если он
переедет жить в город), но такие изменения происходят довольно
медленно, и для небольшого промежутка времени их можно считать
константой (если, конечно, мы говорим об эволюционном развитии и
не берем в расчет революционные скачки). Залогом успешной коммуникации становится значимое пересечение когнитивных моделей,
связанных с конкретными понятиями, близость имитаций, создаваемых различными людьми в процессе коммуникации. При этом сама
ситуация диалога дает возможность корректировать порождаемые
ментальные имитации и таким образом приходить к пониманию3.
Далее, существуют области, в которых значение задается явно. Это,
в первую очередь, области, связанные с научным дискурсом. Так,
«треугольник» в математике или «работа» в физике имеют общие для
�210
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
всех формальные определения и, хотя перцептивные репрезентации
этих понятий различаются у разных людей и имеют непосредственную
связь с перцептивным опытом человека4, для корректной коммуникации в описываемой области достаточно знания этого нормативно заданного ядра. Важнейшую роль в формировании такого ядра играет
письменный язык, упорядочивающий процесс коммуникации и открывающий для него новые сферы.
Обобщая, можно сказать, что передаваемая посредством разнообразных обучающих практик и зафиксированная в различных пособиях по грамматике и словарях система языка представляет собой
продуктивно работающую во многих областях, но имеющую ограниченную область применения модель (аналогичную материальной
точке в физике, например). Важная специфическая особенность этой
модели состоит в том, что она оказывает сильнейшее обратное влияние
на реальные языковые процессы, являясь для них одновременно a model
of и a model for5, т. е., с одной стороны, возникая как результат развития
человечества в целом и отдельных его групп в процессе их взаимодействия между собой, а также с окружающей их реальностью, и, с другой
стороны, задавая рамку для этого развития.
Проблема соотнесения индивидуального опыта и общих закономерностей неоднократно обсуждалась в теоретической лингвистике и
философии языка в форме вопроса о соотношении общего языка и
идиолекта. В первой главе мы кратко остановились на интерпретации
Н. Хомским взглядов английского философа М. Даммита на эту проблему. Здесь имеет смысл обсудить аргументацию Даммита чуть подробнее. Английский философ утверждает, что в паре «общий язык» –
«идиолект» основным является первый элемент, а второй выступает
как его несовершенная, ущербная версия. Как уже отмечалось, он
иллюстрирует этот тезис метафорой игры: знание игроком правил игры,
часто несовершенное, еще не свидетельствует о том, что он сам создает эти правила. Однако этот аргумент исходит из статичной модели
языка и идиолекта. Реальная ситуация намного сложнее, и она носит
динамический характер. Язык – носитель коллективного опыта людей
и, в частности, прошлого опыта, который не может быть воспринят
современным человеком непосредственно; язык – доминирующая
форма хранения этого опыта. Но коллективный опыт становится частью личного опыта индивида не благодаря осваиванию словарных
значений и формальных правил построения высказывания. Слово возникает во вполне конкретных ситуациях и связывается ребенком, а
потом и взрослым, с определенным ситуационным контекстом, превращаясь в элемент жизненного мира человека. При этом, воспринимая и усваивая такой опыт, человек получает возможность трансформировать его содержание, оказывая на его структуру обратное влияние.
Глава 11. Общие контуры социокультурной теории лексических комплексов
211
Общий язык становится объектом обратного воздействия идиолектов.
Мы видим, как значение слов в языке меняется со временем, появляются новые слова, какие-то слова выходят из употребления. Изменяются также и орфографические нормы, и синтаксические правила.
Индивидуальные языки, индивидуальные интерпретации заметно
влияют на этот процесс. Так, идиолект А.С. Пушкина сыграл ключевую
роль в трансформации семантической структуры слова «пошлость», а
идиолект А.И. Герцена – в подобной трансформации слова «мещанство» (Глебкин 2007г; Глебкин 2007д). В девятой главе мы видели, как
велика роль Аристотеля в семантических трансформациях слова λη6.
Только динамическое описание языка, учитывающее, в частности, обратное влияние на него идиолектов, может дать возможность построения теории языка, свободной от догматических пресуппозиций.
В) Как было отмечено в третьей главе, психолингвистические эксперименты показывают необходимость выделения в языке двух модулей, которые Л. Барсалоу называет лингвистической и концептуальной
системами. В целом, это соответствует предложенной выше модели
языка, в которой мы должны отделять внутреннее устройство системы,
упаковывающей информацию, от информации, которая упаковывается. Когда мы имеем дело с видеокамерой, мы также отличаем внутреннее устройство механизма и систему инструкций по работе с ним от
хранимого в механизме содержания. Камера обладает собственными
принципами организации, не связанными непосредственно с фиксируемым ей материалом (система питания и т. д.), и способы этой фиксации могут быть разными (цифровые камеры, аналоговые камеры и
т. д.), однако ее цель состоит в том, чтобы наиболее полно и точно отражать внешнюю информацию. В зависимости от поставленных задач
камера может работать в различных режимах, и функциональные улучшения в камере направлены на то, чтобы она более качественно и
надежно выполняла эти задачи. Степень самостоятельности языка
также ограничена его функциональным устройством, имеющим свою
логику организации, и именно здесь находятся границы и основания
теорий, описывающих язык как автономную систему. Однако при этом
нельзя забывать, что такая система не самодостаточна, а направлена
на достижение основной цели – хранение образа мира, обеспечивающее наилучшую коммуникацию с ним.
***
Перейдем теперь от мировоззренческих оснований к описанию структуры модели.
α) Ключевым для предлагаемой модели является понятие л е к с и ч е с к о г о к о м п л е к с а . Лексический комплекс представляет собой
упорядоченную пару, которую составляют определенное лексическое
�212
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
гнездо и соответствующее ему концептуальное содержание. Как было
показано в третьей и девятой главах, это содержание организовано по
модели комплекса (в понимании Л.С. Выготского), т. е. обладает размытыми границами и эволюционирующей во времени структурой.
Другими словами, лексический комплекс образует пара <лексическое
гнездо, комплекс>.
α1) Говоря о лексическом гнезде, я отталкиваюсь от традиционного
понимания (совокупность однокоренных лексических единиц, обладающих общими семантическими составляющими (Гинзбург 2010,
с. 164; ср. Виноградов 1977, с. 85; Тихонов 1996, с. 77; Ширшов 1996;
Пятаева 2006, с. 114–116)), однако, включаю в него и слова с другим
корнем, если соответствующее им концептуальное содержание полностью включается в соответствующий данному гнезду комплекс7. Так,
в лексическое гнездо, задаваемое глаголом открывать, включается
глагол отворить, но не включается глагол распахивать (т. к. охватываемое им концептуальное содержание выходит за рамки комплекса
открывать; в частности, можно распахнуть пальто, но нельзя открыть
пальто). С другой стороны, при выборе однокоренных слов, которые
следует включать в гнездо, важно ориентироваться на «живые функциональные отношения слов» (Гинзбург 2010, с. 166)8. Конкретные
принципы отбора будут продемонстрированы в последующих главах.
В целом, определяющими здесь оказывается не морфологические
связи, а то, что входящие в гнездо лексемы «высвечивают» различные
фрагменты составляющего комплекс концептуального содержания.
В качестве комментария к тезису α) обратимся к одной из крайне
актуальных для современной лингвистики проблем: соотношению
слова и связанного с ним концептуального содержания. В работах по
теории концепта, проанализированных в седьмой главе, эта проблема
трансформируется в проблему соотношения слова и одноименного с
ним концепта, а в работах, упомянутых в начале десятой главы – в
проблему соотношения слова и понятия9.
Одной из показательных иллюстраций разделения слова и понятия10
является история интерпретаций понятия интеллигенция. По утверждению целого ряда исследователей, интеллигенция как социальное
явление возникло задолго до появления слова интеллигенция в социальном значении. Второе событие датируется шестидесятыми годами
XIX в., первое, согласно одной из весьма распространенных точек
зрения, концом XVIII в. (подробнее см. 14 главу). Это дает некоторым
авторам основания разделять слово и понятие интеллигенция.
Попробуем реконструировать логические операции, которые они
при этом совершают. Осмысляя слово интеллигенция и его дериваты
сначала в процессе освоения культуры, а затем ее трансляции и культуротворчества, они формируют собственную интерпретацию соот-
Глава 11. Общие контуры социокультурной теории лексических комплексов
213
ветствующего слову содержания, в частности, выделяют набор качеств,
которыми, по их мнению, должен обладать представитель этой социокультурной группы. Затем они обнаруживают набор подобных качеств
у представителей других социокультурных групп и называют этих представителей интеллигентами, связывая с их появлением возникновение
концепта. Различие в датировках (так, Н.А. Бердяев датирует появление интеллигенции второй половиной XVIII в., а Б.А. Успенский –
30−40-ми гг. XIX в.) связано с различием в интерпретациях, с тем,
какие характеристики исследователи выделяют в качестве основных.
Следует отметить, что такой подход связан с серьезным упрощением реальной ситуации. Как уже отмечалось, слова, входящие в
лексическое гнездо «интеллигенция» (интеллигенция, интеллигент,
интеллигентный, позднее, интеллигентский и др.) возникают во вполне определенном социокультурном контексте, реагируя на отчетливый
культурный запрос. Сформированное этим запросом ядро понятия
образуют оппозиции «интеллигенция» – «народ» и «интеллигенция» –
«мещанство». Фиксируемая ими социальная конфигурация уникальна
и не имела места вплоть до 60-х годов XIX в. Однако отдельные фрагменты такой конфигурации, отдельные фрагменты концептуальной
структуры могли существовать и ранее, охватываясь другими лексемами. В частности, характеристики, дающие ряду исследователей основание использовать по отношению к московским масонам 70−80-х гг.
XVIII в. слово интеллигент, гораздо точнее соответствовали слову масон в том смысле, который вкладывался в него значительной частью
русского общества в этот период. Именование московских масонов
интеллигентами представляет собой искажение исторической реальности.
В целом, разговор о концептах или понятиях, существующих независимо от обозначающих их слов, не кажется продуктивным. В рамках
СТЛК процесс выглядит следующим образом. Исходной онтологической категорией в ней является ж и з н ь (в понимании Дильтея,
см. 3.1), т. е. поток социокультурной реальности, различные фрагменты которого изменяются с различной скоростью: какие-то из них испытывают радикальные трансформации в течение нескольких лет,
какие-то демонстрируют стабильность на протяжении десятилетий и
даже столетий. Некоторые из таких фрагментов остаются на протяжении определенного времени анонимными (культура во многих случаях не осознает, что «говорит прозой»: так, особенности провинциальной жизни, выраженные в лексическом комплексе провинция не
фиксируются в языке вплоть до середины XVIII в., хотя оппозиция
«центр» – «периферия» актуальна для русского общества, по крайней
мере, со второй четверти XVI в.), но значительная их часть получает
свою репрезентацию в языке. Хотя в этом потоке невозможно выделить
�214
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
самодостаточные структуры с жесткими и неизменными границами,
отдельные группы элементов обладают значительной структурной
устойчивостью. Маркируемые лексическими гнездами простейшие
группы таких элементов, своего рода «концептуальные молекулы»,
лежащие в основании более сложных концептуальных структур, и
являются комплексами в понимании СТЛК.
Важно еще раз подчеркнуть, что концептуальное содержание, соответствующее одному лексическому гнезду, может заметно изменяться со временем (так, лексический комплекс государство существенно
различается в XVI в. и в XX в.). С другой стороны, разные лексические
гнезда могут репрезентировать близкое концептуальное содержание,
которое, однако, никогда не бывает тождественным.
В данном месте имеет смысл опять вернуться к попыткам разделения слова и концепта (понятия). Сторонники такого разделения в
качестве аргумента часто приводят утверждение, что во многих ситуациях разные слова обозначают один концепт. Так, слова философия,
philosophy, philosophie, Philosophie соответствуют концепту «философия».
Однако внимательный анализ показывает, что это не так, и различия
в концептуальной структуре указанных слов огромны11. Даже когда
речь идет о конкретных объектах, данных нам в чувственном опыте,
концептуальные структуры слов из разных языков обычно не совпадают, и, более того, различие между ними иногда оказывается очень
значительным. Так, представления о теле в культурах древности тесно
коррелировали с представлениями об имуществе, и, в частности, в
древнеиндийской традиции царство воспринималось как часть тела
царя12.
β) Комплекс имеет сложную разноуровневую структуру, в которой
можно выделить два базовых уровня.
Уровень А выделяет концептуальное содержание, которое актуализируется у носителей языка при неосознанном, неотрефлексированном
использовании слов, входящих в соответствующее лексическое гнездо.
Другими словами, речь идет о ситуации, когда соответствующее слово
не выделяется из потока устной или письменной речи, не попадает в
фокус внимания. Основой для его употребления становится языковая
интуиция. Этот уровень мы условно обозначим как уровень повседневного употребления слова.
Во избежание недоразумений необходимо отметить, что понятия
«носитель языка» и «повседневное употребление» являются теоретическими абстракциями. Содержание и структура концептуальной
информации, соответствующей конкретному лексическому гнезду,
будет различаться для каждого идиолекта, но можно выделить в этой
структуре инварианты разного уровня общности, высший из которых
соответствует условной культурно-языковой норме (которую, соб-
Глава 11. Общие контуры социокультурной теории лексических комплексов
215
ственно говоря, и фиксируют общие толковые словари). Под носителем языка понимается человек, воспроизводящий эту норму для
всей лексической системы языка. Другими словами, мы оставляем
вне поля рассмотрения явления, связанные с жаргонами, диалектами,
сленгом и т. д. Описание жаргонов и диалектов в рамках СТЛК представляет собой отдельный сюжет, который требует дополнительного
обсуждения.
Кроме того, мы не обсуждаем здесь особенности описания различных подуровней уровня А, связанных с различной стилистической
маркировкой (книжное, обиходное), интенсивностью использования
слова и его соответствием современному контексту (редкое, устаревшее) и т. д. Для СТЛК принципиально подчеркнуть дистанцию между
уровнем А, со всей сложностью его структурной организации, и уровнем В.
Уровень В задают и н т е р п р е т а ц и и слова, т. е. факты его сознательного, отрефлектированного использования, при котором слово
попадает в фокус внимания, превращается в элемент определенной
теоретической конструкции13. Мы уже отмечали, что концептуальное
содержание, соответствующее конкретному комплексу, свое у каждого
носителя языка, однако на уровне А оно условно предполагается одинаковым благодаря общему социальному опыту. Предлагая собственную интерпретацию, ее автор трансформирует исходную концептуальную структуру и порождает на этой основе новое концептуальное образование. Особенно важен этот процесс для культурно значимых
категорий, с интерпретацией которых у автора связывается собственная
культурная идентификация. Так или иначе трактуя смысл слов свобода,
счастье, Россия, Запад, народ, интеллигенция, пошлость, мещанство,
скука и др., человек, живущий в пространстве русской культуры, обретает в ней свое место, а также включается в процесс ее дальнейшей
трансляции и обновления.
Следует отметить, что во многих случаях возникающие интерпретации оказывают обратное влияние на структуры уровня А, определяя
их позднейшую эволюцию. Яркая иллюстрация такого влияния – семантическая история комплекса пошлый (Глебкин 2007д). Прилагательное пошлый появляется в древнерусских текстах в XII веке и по XVII век
включительно имеет нейтральные или положительные коннотации
(«пошлый» означает «исконный», «давний», «настоящий», например,
А золото бы было пошлое, т. е. настоящее, действительное; пошлый купец
или гость – купец, являющийся полноправным старинным членом
корпорации, это звание переходило и на потомство). В XVIII веке
слово почти не употребляется. Кардинальная трансформация семантической структуры слова происходит в текстах А.С. Пушкина. Пожалуй, наиболее важным для понимания Пушкиным слова пошлый
�216
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
является словосочетание пошлые полуистины, приводимое им в черновиках статьи «Александр Радищев»: «...наряду с пошлыми полуистинами/
с примесью пошлых полуистин и преступного пустословия». Пошлыми
Пушкин называет рассуждения, имеющие характер общих мест, но,
тем не менее, выражающие стойкие и опасные заблуждения, удаляющие нас от истины. Такой взгляд можно проследить на различных
уровнях: философские доктрины (материализм, хотя и модный в обществе, но лишающий мир высшего смысла и цели, и поэтому крайне
опасный по сути), стиль поведения (человек ведет себя так, как принято, но это совершенно не соответствует внутренней логике ситуации,
сути вещей, требующей от него других поступков, других слов) и т. д.
Пошлой может быть названа как метафизика Гельвеция («Александр
Радищев»), так и мадригал, который Онегин шепчет Ольге, или сравнения у Батюшкова («Заметки на полях перевода Батюшкова из Парни “Мщение”»).
Не вдаваясь в подробности и не делая множество необходимых
оговорок14, можно в целом утверждать, что интерпретация Пушкина
существенно трансформирует исходную семантическую структуру, и
слово возвращается в повседневный язык заметно преображенным.
Похожую эволюцию мы можем увидеть и в употреблении Пушкиным
слова честь, в употреблении Герценом слова мещанство (Глебкин 2007г)
и т. д.
β1) Остановимся теперь более подробно на структуре уровня А.
β1.1) В каждом комплексе на уровне А можно выделить одно или
несколько структурных ядер (т. е. исторически первичных концептуальных фрагментов и/или фрагментов, актуализация которых лексемами, входящими в гнездо, воспринимается носителями языка как
естественная), и порождаемую определенными трансформациями этих
ядер периферию.
Яркую иллюстрацию данного положения представляют собой уже
упомянутые работы Д. Герартса по теории прототипов (Geeraerts 1997;
Geeraerts 2006; ср.: Глебкин 2007б, с. 31–34). Так, исследуя семантическую структуру и семантическую эволюцию неологизмов на примере
слова legging (леггинсы) в голландском языке, он показывает, что изменения этой структуры происходят путем расширения периферийной
области при сохранении семантического ядра. При наличии в культуре
интереса к появившейся категории объекты, которые ранее не связывались с новым словом, теперь начинают обозначаться им. При потере
культурного интереса область распространения сужается, и слово вообще может выйти из употребления (Geeraerts 1997, p. 32–83).
Обобщая наблюдения Герартса, можно сказать, что слово появляется как следствие определенного социокультурного запроса и маркирует при своем появлении некоторый фрагмент социокультурной ре-
Глава 11. Общие контуры социокультурной теории лексических комплексов
217
альности. Если этот фрагмент устойчив и сохраняет свою значимость
для социальной коммуникации в течение длительного времени (например, части человеческого тела), то он является устойчивым прототипом для соответствующего ему слова (скажем, голова человека или
животного для слова голова); если он возникает в результате локальной
социокультурной трансформации, то соответствующее ему слово через
какое-то время меняет прототип (возможно, получая обобщенное
значение) или просто выходит из употребления (волость или повытчик,
например).
При сохранении устойчивого ядра комплекс начинает экспансию
в другие области, расширяя свое концептуальное содержание15. В целом, за этой процедурой стоят модели комплексного мышления, описанные в девятой главе: слово переносится на новые контексты,
смежные с данным по тому или иному параметру. В качестве иллюстрации данного утверждения можно привести семантическую эволюцию слова попса. Обозначая изначально примитивную популярную
музыку и сохраняя до последнего времени это значение в качестве
прототипа (Где-то в комнате играла музыка – какая-то попса – и слышался мужской голос (А. Мельник. Авторитет. 2000)), слово начинает
употребляться для обозначения низкопробной, рассчитанной на массовую публику литературы (…я долго думал, что книга Булгакова – попса махровая с соплями (О. Гладов. Любовь стратегического назначения.
2000–2003)), деятельности (Но для меня эта работа все равно попса
(А. Карабош. Человек-утро. 2002)), моделей поведения (В туризме
попса приводит к выжженным лесам и горам мусора. (Т. Гордеева. Спортивный автостоп. 2003)) и т. д.
Более сложную картину представляет собой семантическая эволюция
слова ритуал. В литературном языке XIX века слово использовалось
крайне редко и в жестко заданной парадигмальной ситуации: оно было
связано, главным образом, с масонским и католическим религиозным
обрядом. Вот характерные примеры: «Странная вещь! Католицизм,
умевший создать такие храмы, умевший украсить их такими фресками,
такими картинами и статуями, не умел уладить торжественнее, поэтичнее свой ритуал в самом Риме» (А.И. Герцен. Письма из Франции и
Италии); «Это – ритуал одной ложи, – сказал он, но в это время, к неописанной радости Аггея Никитича, послышался стук и миленький голосок
пани Вибель» (А.Ф. Писемский. Масоны). Переносное значение слова
ритуал встречается у Герцена, но в единичных случаях.
После социальных и культурных трансформаций начала XX века
частота употребления слова заметно возрастает, прототипическое ядро
расширяется и одновременно происходит смещение его центра. Вопервых, в связи с общим изменением религиозных установок культуры
слово начинает применяться к любой религиозной церемонии. Во-
�218
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
вторых, в культуре возникает отсутствовавшая ранее область, по функции и значимости сопоставимая с православной религией, формируется коммунистическая идеология, и слово «ритуал» переносится на
новые символические действия, которые должны заменить собой религиозные («На необходимость хоть какого-нибудь свадебного ритуала
указывалось и многочисленными делегатками с мест на недавней сессии
ВЦИКа» (В.В. Вересаев. Об обрядах); «Необходимо, чтобы знамя было
обставлено специальным ритуалом почета» (А.С. Макаренко. Методика
организации воспитательного процесса)). В-третьих, благодаря размыванию социальных границ и общему процессу десакрализации
культуры слово начинает переноситься на бытовые контексты, в которых подчеркивается «излишняя» для повседневной практики смысловая составляющая, сначала скорее иронично, но потом и вполне серьезно16.
Отметим, что процесс обретения словом устойчивого лексического
положения, процесс формирования лексической нормы может быть
длительным, и его описание представляет собой интересную самостоятельную задачу. Сначала новое значение «нащупывается», слово
может употребляться в весьма неожиданных контекстах, но постепенно конструкция становится все более и более жесткой и интуиция,
соответствующая слову, обретает необходимую устойчивость. Например, для слова скука такая «размытость» значения особенно заметна в
первой половине XVIII в., когда весьма часто встречаются контексты,
исчезающие в дальнейшем. Интересно, например, следующее высказывание Меньшикова: Королевское величество зело скучает о денгах и
со слезами наодине у меня просил, понеже так обнищал, пришло так, что
есть нечего. Которую ево скудость видя, я дал ему своих денег десять
тысеч ефимиков (Письмо А.Д. Меньшикова Петру (26 сентября
1706 г.) // Петр Великий 1900, с. 1132).
β1.2) В концептуальной структуре слова на уровне А можно выделить
подуровни, соответствующие прямому значению слова и метафорическим расширениям. Это разделение существенно и для комплексов
базового уровня, таких как стул, бежать, красный (о понятии базового уровня см. раздел 3.3), но особенно значимо оно для абстрактных
концептуальных областей, не допускающих фиксацию в процессе непосредственной перцепции. Так, прямым значением комплекса скука
является особое эмоциональное состояние, непосредственное обращение к которому происходит, например, в выражениях Я вижу, что ему
скучно; Он откровенно скучал на этом собрании и т. д. Разумеется, мы
можем описать это состояние рациональными методами, наблюдая за
особенностями поведения человека, его мимикой и жестами, опираясь
на характеристику человеком своих внутренних ощущений, фиксируя
изменения в его периферийной нервной системе и т. д. (подробнее см.
Глава 11. Общие контуры социокультурной теории лексических комплексов
219
Глебкин 2010, с. 94−132). С другой стороны, важным дополнением к
такому описанию становится метафорический портрет, формирующий
чувственно воспринимаемый образ. Средством для подобного метафорического портрета становится концептуальная метафора в понимании Лакоффа-Джонсона.
Если оставить в стороне разнообразные авторские метафоры, то
доминирующей материальной репрезентацией скуки оказывается газообразная субстанция, обладающая запахом. Эта субстанция опасна,
в первую очередь, для психического здоровья человека и может привести к потере им человеческого облика, но она несет также непосредственную угрозу и для его жизни в целом:
• Скукой от доцента веяло смертной, и Женя не знала, как от него
избавиться (А. Берсенева. Возраст третьей любви);
• Вокруг Кремля сгустилась скука, которую лишь время от времени
удается разгонять неординарным людям, очутившимся «за зубцами» (Б. Грищенко. Посторонний в Кремле)
• Неровный сводчатый потолок низко нависал над головой, пахло
лекарствами и скукой (Т. Тронина. Никогда не говори «навсегда»);
• Скукой благополучия несло от него за милю (И. Бояшов. Путь
Мури);
• Однажды – фантазировал я, – они, вконец озверев от скуки, придумали сценарий игры и поклялись следовать ему при любых обстоятельствах (М. Петросян. Дом, в котором…);
• Помираешь от скуки и беспрерывно куришь, чтоб хоть чем-то
себя занять (М. Петросян. Дом, в котором…).
Другой характерный образ – агрессивное живое существо, преследующее человека:
• Дедок живет один, скука его гложет (Д. Донцова. Уха из золотой
рыбки);
• Инка заметила, что медленно, неслышно подползает скука, тоненькой пятнистой змейкой, капля яда которой, возможно, уложит табун кляч-тяжеловозов (У. Нова. Инка);
• Когда получаем газету, перво-наперво ищем Ваше фамилие, а если
нету, то и не читаем, скука одолевает, пишите, Татьяна, чаще
(А. Щеглов. Фаина Раневская: вся жизнь)17.
Складывающийся перцептивный образ (или совокупность образов)
служит важным дополнением к рационально фиксируемым элементам
концептуальной структуры и оказывает обратное влияние на конфигурацию этих элементов (в частности, проявляясь в самоописаниях
испытывающих скуку субъектов).
β1.3) Важной проблемой в данном контексте является проблема полисемии, т. е. принципов выделения значений лексем и разнесения их
�220
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
по разным лексическим гнёздам. В целом, этот вопрос требует отдельного обсуждения, однако следует отметить, что в отличие, например,
от НОССРЯ, излагаемый здесь подход опирается, скорее, на выявление
сходств между различными концептуальными подструктурами, чем на
подчеркивание различий. Приведу одну иллюстрацию. В первом выпуске НОССРЯ описываются синонимические ряды БЕСПОКОИТЬ 1,
ТРЕВОЖИТЬ 1 и БЕСПОКОИТЬ 2, ТРЕВОЖИТЬ 2. При этом значение
первого ряда определяется как «вызывать неприятное чувство, какое
обычно бывает, когда человеку неизвестно что-то важное о ситуации,
которая его касается, и когда он опасается, что эта ситуация изменилась
или может измениться к лучшему» (Отсутствие вестей от мужа беспокоило ее), а второго – как «на (короткое) время прерывать чье-л.
занятие или нарушать чей-л. покой» (Позвольте вас побеспокоить <потревожить>) (НОССРЯ 1997, с. 3, 5).
Не подвергая сомнению тщательность и аккуратность сделанных в
статьях наблюдений, замечу, что предложенное авторами (в данном
случае, Ю.Д. Апресяном) разделение кажется искусственным. Действительно, оба выделенных значения описывают выведение человека из
состояния покоя, внутреннего равновесия. Различие состоит лишь в
способах, которыми это равновесие нарушается. Первый из них связан
с системой идеальных смыслов, воздействующих на эмоциональнокогнитивную сферу, второй предполагает непосредственную перцепцию. Специфика описанных в статьях коммуникативных ситуаций
определяется спецификой способов воздействия. Близость выделенных
концептуальных областей становится отчетливой, если обратиться к
прилагательному беспокойный. Рассмотрим, например, следующую
реплику: Я плохо выспался. Ночь была беспокойной. Отмеченное в ней
беспокойство могло быть вызвано как отсутствием сына, вернувшегося домой под утро (БЕСПОКОИТЬ 1), так и шумной компанией, веселящейся всю ночь под окнами (БЕСПОКОИТЬ 2). Различие в способах
здесь не носит решающего характера, поэтому в рамках СТЛК лексемы
БЕСПОКОИТЬ 1 и БЕСПОКОИТЬ 2 являются подструктурами одного
комплекса.
β1.4) Особо следует остановиться на том, как отражается на структуре комплекса наличие соотносимого с этим комплексом экзистенциала. В целом этот вопрос касается относительно небольшого массива слов, но такие слова относятся к группе культурно значимых и непосредственно связаны с процессом формирования различных
идентичностей. Не имея возможности здесь обсуждать этот вопрос
подробно, ограничусь несколькими иллюстрациями. Как уже отмечалось в десятой главе, знаком возникновения экзистенциала в языке
часто становится появление соответствующего экзистенциалу слова в
субъектной позиции и наделение его волевыми, когнитивными или
Глава 11. Общие контуры социокультурной теории лексических комплексов
221
перцептивными характеристиками. В ряде случаев это сопровождается появлением новых слов в единственном числе, дополняющих уже
существующие формы множественного числа, что дает возможность
более отчетливой персонализации. Так, рождение в официальной советской идеологической модели экзистенциала, соответствующего
пионерской организации (причастность к которому, замечу, переживалась многими как важный элемент самоидентификации) выразилось
в появлении слова пионерия, дополняющего гораздо более естественное пионеры («Красногалстучная пионерия ухаживала за животными
и выращивала урожай на пришкольных участках, собирала металлолом
и макулатуру, училась культуре межнационального общения и искусству
уважать и любить свое Отечество, верно ему служить и достойно его
защищать» (А. Пудин. Ренессанс красных галстуков)). Другой вариант
образования подобной модели – слово дворянство18, полученное персонификацией присущего всем членам группы признака: Дворянство
есть душа и благородный образ всего народа (Н.М. Карамзин. Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени); Дворянство
наше, поставленное между активным влиянием царизма и пассивным
влиянием подвластных крестьянских миров (ассоциаций), начало
расти умом и властью, несмотря на подчинение царизму (К.Н. Леонтьев.
Византизм и славянство). Важно отметить, что в языке советской и
постсоветской эпохи такие конструкции встречаются крайне редко в
весьма специфической группе исторических текстов, что является
лингвистическим подтверждением исчезновения соответствующего
экзистенциала.
γ) Перейдем теперь к изложению способа описания концептуальной
структуры комплекса, который может быть положен в основу различных гнездовых словарей. Сразу хочу подчеркнуть, что речь идет об
изложении только концептуальной информации, к которой, в зависимости от типа словаря и установок его автора, может присоединяться
лингвистическая.
В общем случае такое описание предполагает три уровня:
• Уровень А0 (соответствует глобальной концептуальной области,
включающей в себя уровень А концептуальной структуры комплекса);
• Уровень А (соответствует уровню А концептуальной структуры);
• Уровень В (соответствует уровню В концептуальной структуры).
γ1) Как уже неоднократно отмечалось, во многих случаях радикальная трансформация значения уже существующих слов или появление
новых связаны с изменениями в социокультурной ситуации, они представляют собой ответ на сформированный этой ситуацией запрос. Разумеется, описание уровня А0 избыточно для комплексов базового
уровня (дерево, рука, бежать, открывать), отсылающих к стабильному
�222
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
и общему для всех социальному опыту, не требующему экспликации
вследствие своей очевидности. Однако оно становится существенным
для таких культурно-значимых категорий, как скука, мещанство, интеллигенция. В частности, резкое возрастание частотности и изменение
содержательного наполнения комплекса скука непосредственно связаны с секуляризацией русской культуры во второй половине XVII–
XVIII веке и освобождением дворянства от обязательной государственной службы, юридически закрепленным манифестом Петра III «О
даровании вольности и свободы дворянству» (1762 г.) и «Жалованной
грамотой дворянству» Екатерины II (1785 г.). Указанные процессы
приводят к изменению общей структуры повседневной жизни культурной элиты, когда жизнь лишается внешнего регулятива (спасение
души, служение государству и т. д.) и становится как бы равной самой
себе. Появляется необходимость в создании культурного института,
который придавал бы такой самодостаточности мировоззренческие
основания, задавал бы внешние регуляторы поведения в формирующейся структуре новой повседневности. Эту функцию и начинает
выполнять свет, светское общество, воспроизводя в основных чертах
уже сложившиеся западные (в первую очередь, французские) образцы.
Скука становится важнейшим атрибутом светского образа жизни. Без
осознания этих социокультурных трансформаций понимание концептуальной структуры комплекса оказывается крайне затрудненным
(подробнее см. Глебкин 2007е).
γ2) Если исходить из того, что ключевым для понимания концептуальной информации, репрезентируемой в языке, является не знание
словарных статей, а социокультурный опыт человека, основой описания на уровне А должна стать подробная характеристика ситуаций,
относящихся к концептуальным ядрам. Соотнесение этих ситуаций с
личным опытом человека дает возможность освоения им базовой концептуальной информации, создания собственных перцептивных символов (о перцептивных символах см. п. 3.3). Разумеется, отсюда не
следует, что в словарной статье нужно отказываться от определения,
однако определение в заданных рамках играет лишь вспомогательную
роль, основным инструментом для понимания становится описание
прототипических ситуаций.
Так, в случае комплекса скука такими ситуациями будут а) общение
со скучным собеседником; б) чтение скучной книги (просмотр скучного фильма или спектакля); в) однообразная, монотонная деятельность; г) отсутствие всякой деятельности, безделье; д) отсутствие
близкого человека19. Описание ситуации включает в себя по возможности подробную характеристику составляющих ее элементов и связей
между ними. Так, ситуация а) в случае двух собеседников содержит три
базовых элемента: субъет S, испытывающий скуку; агенс А, являю-
Глава 11. Общие контуры социокультурной теории лексических комплексов
223
щийся источником скуки; коммуникация между S и А. Характеристика агенса поясняет понятие «скучный собеседник» (психологический
портрет, особенности поведения, речевой деятельности), субъекта –
аналогичным образом описывает скучающего человека, коммуникации – специфику реализуемого дискурса (долгие паузы или доминирование монологической речи одного из собеседников и т. д.).
γ2.1) Важным элементом описания является характеристика особенностей концептуального содержания для каждого из слов, входящих в
гнездо, а также специфика характеризующих их коммуникативных
ситуаций, проявляющаяся в различных стилистических маркерах
(книжное, устаревшее и др.)20.
γ2.2) Отдельного описания требуют связанные с каждым из ядер
метафорические расширения, о месте которых в структуре комплекса
говорилось в п. β1.2).
γ3) Описание на уровне В предполагает характеристику наиболее
значимых интерпретаций, отличных по своей концептуальной структуре от базовой структуры комплекса А и оказывающих на нее обратное влияние.
Следует отметить в заключение, что для многих культурно-значимых
слов структура комплекса на уровне А существенно изменяется на
протяжении периода, который носители языка воспринимают как современный в языковом плане. Такие трансформации могут быть вызваны как внутренними причинами, так и воздействием изменений в
глобальном социокультурном контексте (уровень А0) или влиянием
интерпретаций (уровень В). В этом случае корректная модель представляет собой согласованное диахронное описание на всех трех уровнях. Примером такого описания для комплекса интеллигенция является 14 глава монографии. 12 и 13 главы посвящены иллюстрации модели на примере комплексов базового уровня открыть и камень.
Примечания
1
Особо подчеркну, что речь идет именно об общих контурах, а не о полном описании
теории, охватывающей всю лексическую систему языка. Для этого потребуется отдельная монография.
2
В современной когнитивной лингвистике обретает все больший вес утверждение,
что слово само по себе не обладает каким-либо априорным значением, значением слово наделяет произносящий или воспринимающий его человек (см., напр.: Turner 1994,
p. 92–94; Johnson 2007, p. 7–15). В четвертой и пятой главах приводилось описание
экспериментов (Boroditsky, Ramscar 2002; Glebkin 2009), показывающих, что значение
всегда контекстно и интенционально и представляет собой определенную траекторию,
определенный пучок связей, выделенных в массиве разнообразной концептуальной информации. Тем не менее, часто мы можем выявить определенные связи и закономерности, определенные регулярности, соответствующие тем или иным словам, обращающие
к устойчивым фрагментам концептуальной информации в содержании понятия, которые можно маркировать как фреймы.
�224
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Можно представить себе, например, такой диалог: – Завтра к нам Петр собирается
приехать. – Так его же в Москве нет! – Почему, он никуда не уезжал, насколько я знаю. Он
сегодня звонил мне, сказал, что приедет завтра. – Подожди, а ты какого Петра имеешь в
виду? и т. д.
4
Как уже было отмечено в третьей главе, что успешность человека в физике или математике проявляется в развитости связанных с абстрактными категориями элементов
перцептивной сферы.
5
Здесь используются категории, предложенные К. Гирцем для описания взаимодействия культуры и социума (Geertz 1966, p. 7–8).
6
Крайне любопытный материал, касающийся семантических различий французского
empirique и английского empirical и влияния на эти различия философских концепций,
в первую очередь, работ Декарта и Локка, приводится в книге А. Вежбицкой: Wierzbicka
2010, p. 6–22, хотя ее интерпретация собранного материала опирается на принципиально иные основания.
7
Ср. с принципами, заложенными в Новом объяснительном словаре русского языка
(НОСРЯ 1997, с. VII).
8
О проблемах, связанных с выделением границ лексического гнезда, см., напр., Ширшов 1996; Гинзбург 2000, с. 165−166. См. также работу Араева и др. 2010 и обсуждаемые в
ней понятия ситуатема и ситуация.
9
Следует отметить, что по работам одного из главных идеологов задаваемого указанной оппозицией направления исследований Р. Козеллека не вполне ясно, что он имеет в
виду под понятием (Begriff). С одной стороны, он ссылается на классическую для лингвистики триаду, обозначаемую им как «слово – значение – объект», и связывает понятие
со значением, а с другой – помещает слово и понятие в один ряд, интерпретируя последнее как частный случай слова (“Each concept is associated with a word, but not every word is
a social and political concept… The concept is connected to a word, but is ill the same time more
than a word: a word becomes a concept only when the entirety of meaning and experience within
a sociopolitical context within which and for which a word is used can be condensed into one
word” (Koselleck 2002, p. 84–85)).
10
Далее для краткости мы будем говорить о понятии интеллигенция, но все сказанное
будет справедливо, если мы заменим понятие на концепт.
11
См.: Глебкин 2009а, c. 85–88. Ср. Wierzbicka 2010, p. 6–22, где описываются семантические различия французского empirique и английского empirical.
12
См.: Романов 1978. Важно подчеркнуть, что речь идет не о метафоре, а о прямом значении. Ср. аналогичные представления в древнеегипетской культуре и культуре Древней
Месопотамии. См.: Глебкин 2000, с. 93−94, 163−164,167, 201.
13
Отдаленным аналогом этому уровню служит понятие «научной картины мира», выраженное в противопоставлении «наивной» и «научной картины мира», или научного
знания и повседневного знания (Апресян 1995, с. 56–60; Wierzbicka 1996, p. 338–344).
Однако осознанное употребление слова, при котором оно становится элементом определенной теоретической конструкции, далеко не всегда может быть описано понятием
«научная картина мира».
14
Наряду с Пушкиным, необходимо учитывать также роль Гоголя, предложившего
иную, но не менее влиятельную интерпретацию этого слова. Подробнее см.: Глебкин
2007д.
15
Как уже отмечалось, в данной модели опускаются описанные в работах по исторической семантике лингвистические механизмы семантических изменений, такие как аналогия, влияние грамматических конструкций (Bynon 1977; Anttila 1989), носящие в этом
процессе периферийный характер.
16
«...нет, видно такой ритуал, что когда математик приходит к отцу, то – приходит
молчать» – А. Белый, На рубеже двух столетий; «Если бы дать Исаю Бенедиктовичу волю,
он бы взял такси и носился по Москве наобум, без всякого плану, воображая, что таков
ритуал» – О. Мандельштам, Четвертая проза; «Скупой прощальный ритуал не оборвет
3
Глава 11. Общие контуры социокультурной теории лексических комплексов
225
нам песни» – О. Митяев, «Живут такие люди»; «Я вспомнил, как Шура истово отпаривал
брюки, как тщательно завязывал галстук, как бережно доставал из шкафа свой единственный “выходной” пиджак в клеточку, когда собирался, по его выражению, “в люди”. Эти
сборы всегда носили характер маленького торжественного и веселого ритуала» (В. Кунин.
Кыся-2). – Подробнее о механизме употребления слова см.: Глебкин 1998, с. 16–24, откуда и взяты приводимые выше примеры.
17
В дополнение можно привести показательную авторскую метафору: Девяностые сделали вид, что скуки больше нет. Скука подождала за углом и вернулась. Она снова с нами
(А. Гаврилов. Сущий Брет. Б.И. Эллис как Дж.Д. Сэлинджер).
18
Ср. созданный Б.Ш. Окуджавой неологизм арбатство.
19
Необходимо различать два вида скуки, существенно отличных друг от друга: ситуативная скука, порождаемая внешними обстоятельствами, и экзистенциальная скука,
характеризующая внутреннее состояние индивида. Первая представляет собой здоровую реакцию человека на внешний контекст, вторая – болезнь, требующую психотерапевтического вмешательства. О различии двух типов скуки см., напр., Bernstein 1975,
p. 513–515; Spacks 1995, p. 5; Healy 1984, p. 10; Völker 1975, S. 193; Nahoum-Grappe 1995,
p. 27; Klerks 1961 p. 13–16, 51; Свендсен 2003, с. 172–173. Следует отметить, однако, что
экзистенциальная скука требует рефлексии и появляется лишь на уровне В, уровень А
описывает ситуационную скуку.
20
Определенной параллелью к такому описанию может быть описание зоны значения
в НОССРЯ.
�Глава 12. Описание комплекса «открыть» ...
Глава 12. Описание комплекса «открыть»
в рамках социокультурной теории
лексических комплексов
Выбор комплекса открыть в качестве исходной иллюстрации семантических описаний в рамках СТЛК вызван несколькими причинами.
Во-первых, для данного комплекса неактуальны уровни А0 и B. Глобальная область, в которой располагается концептуальное содержание
комплекса, практически не меняется со временем; повседневные практики, связанные с открыванием различных объектов, универсальны и
хорошо знакомы каждому. Эта универсальность и прагматическая
очевидность слова приводит также к отсутствию интерпретаций. Другими словами, концептуальная структура комплекса сводится в данном
случае к уровню А. Во-вторых, структура комплекса на уровне А является мононуклеарной: в ней отчетливо выделяется базовое ядро, трансформации которого порождают другие элементы комплекса.
Две указанные особенности характерны для широкого класса комплексов базового уровня, что дает возможность рассматривать комплекс открыть в качестве представителя этого класса. С другой стороны, описанная структура входит в более сложно организованные
комплексы, выступая для них в качестве одного из структурных блоков
(подробнее см. об этом в последующих главах). Поэтому можно говорить об этой структуре как определенного рода структурной «молекуле» в рамках СТЛК.
12.1. Глагол открыть и его дериваты в толковых словарях
Проблемы, связанные с экспликацией семантической структуры глагола open и его русского аналога, были изложены в седьмой главе. Здесь
имеет смысл продолжить их обсуждение на другом материале, посмотрев, как некоторые из входящих в комплекс открыть лексем представлены в традиционных толковых словарях.
Обратимся к Большому академическому словарю русского языка
(БАСРЯ 2004–). В статье, посвященной глаголу открыть, авторами
выделяются следующие значения1:
227
1. 'Отводя в сторону дверь, раздвигая створки, поднимая крышку и
т. п., делать доступной внутреннюю часть чего-л.; распахивать, раздвигать, отводить в сторону и т. п. (дверь, окно, ставни и т. п.) делая
доступным что-л.; отпирать, отмыкать'.
2. 'Разрешать, делать свободным вход, доступ куда-л., во что-л.'
(Краснодарский аэродром гражданского воздушного флота был наконец
открыт для полетов); 'делать доступным, досягаемым для кого-л., давать
возможность воспользоваться чем-л.' с показательным примером из
«Анны Карениной»: Хотя свет был открыт для него лично, он был закрыт
для Анны. Здесь же приводятся конструкции открыть двери в значении
'давать свободный доступ куда-л.' и целый ряд близких по значению
конструкций: с одной стороны, все двери открыты для кого-л., кому-л;.
открыты все дороги перед кем-л.; открыть новые, широкие горизонты,
перспективы, возможности и т. п. в чем-л., для чего-л.; с другой стороны,
кто-л. открыт для чего-л.; ум, душа, сердце и т. п. кого-л. открыты для
чего-л. Сюда же помещается выражение открыть кредит в значении
«предоставлять право пользования кредитом».
3. 'Отстранять, отводить какой-л. покров, что-л., заслоняющее
кого-, что-л.' (Открыть занавес); «лишая покрова, раскрывая, делать
видимым; обнажать» (И дева в сумерки выходит на крыльцо: Открыта
шея, грудь и вьюга ей в лицо!); 'не закрывать, не заслонять собою, оставлять видимым' (От жара, поднимавшегося вместе с дымом кверху, качались ветки старой ели… и то закрывали, то открывали темное небо);
'делать видимым в результате освещения' (Свет открывал то черные
блестящие стебли травы с оранжевыми засохшими ягодами, то огненные
шапки мухоморов, как будто забрызганные мелом); «повернув лицевой
стороной, делать видимым для всех (карты, домино и т. п.)» (– Туз
выиграл! – сказал Герман и открыл свою карту); 'оставлять не огражденным, не защищенным от кого-, чего-л.'.
4. 'Освобождать что-л. от упаковки, укупорки; вскрывать, распечатывать' (Открыть бутылку; Письма все были в его руке. Он машинально
открыл их и стал читать).
5. 'Разворачивать, разгибать сложенное, согнутое; размыкать сомкнутое' (Открыть зонтик. Открыть веер…) с выделением конструкций
открыть глаза, рот, уста и т. п.; открыть рот в значении 'начинать
говорить что-л., пытаться выразить свое мнение'; открыть рот от
удивления, восхищения и т. п.; открывши рот; открыть объятия; открыть глаза кому-л. на что-л.
6. 'Приводить в действие, отводя клапан, защелку и т. п. приспособления, служащие преградой (воде, газу, электричеству)' (Открыть кран).
7. 'Обнаруживать, выявлять что-л., ранее незамеченное, непонятное, неизученное и т. п.' (Открыв для себя пленительную украинскую
поэзию, Исаковский обращался к ней на протяжении всей жизни); 'на-
�228
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
ходить, замечать в ком-, чем-л. какие-л. свойства, качества' с выделением конструкции открыть кого-л. (Всеволод Вячеславович Иванов –
подлинный самородок. Его открыл Горький); 'устанавливать наличие,
существование и т. п. чего-л. путем исследований, наблюдений' (Открыть закон. Открыть новое месторождение нефти) с выделением
фразеологизма открыть/открыть Америку (америки).
8. 'Делать известным что-л., ранее скрываемое, тайное' с выделением конструкций открыть свои мысли, чувства, желания и т. п.; открыть
душу, сердце; открыть тайну, секрет; открыть себя, свое имя, звание и
т. п.; открыть/открыть (свои) карты кому-л.
9. 'Полагать начало существованию, деятельности чего-л. (учреждения, предприятия и т. п.)' (Открыть курсы. Открыть кафе) с выделением конструкций открыть памятник, монумент и т. п. в значении
'сооружать, воздвигать памятник, монумент и т. п.' (Умер Уатт в 1819
году, а через пять лет в Лондоне был открыт ему памятник), открыть
заседание, собрание, митинг и т. п.; начинать какую-л. деятельность,
какие-л. действия с выделением конструкций открыть огонь, стрельбу
и т. п.; открыть счет с выделением отдельных узусов «в финансовом
деле, в спорте», а также значения 'добиваться первых успехов, первой
награды в чем-л.' (Открыть счет наградам); 'начинать что-л. первым,
предшествовать в ряду однородных явлений' (Рассказ этот открывает
серию военных рассказов Гаршина) с выделением конструкций открыть
новую эру, эпоху чем-л.; открыть новую страницу в чем-л. (БАСРЯ 2004,
т. 14, с. 488−493).
Дополнением к приведенному описанию служит статья открытый
из БАСРЯ с выделением следующих значений:
1. 'Не имеющий навеса или покрытия сверху или с боков' с выделением оборотов открытые цели, позиции и т. п.; открытая сцена,
эстрада; открытый театр, кинотеатр; под открытым небом.
2. 'Ничем не заслоненный, не загражденный, доступный взору (о
местности, пространстве)' (Шалаш стоял на открытой веселой поляне,
под пушистой елью) с выделением оборотов открытое море, открытый
океан; открытая бухта; открытый рейд; в открытом космосе (быть,
находиться и т. п.); в открытый космос (выходить и т. п.); 'доступный
для нападения противника, ничем не защищенный'.
3. 'Доступный для всех желающих' с выделением конструкций открытый урок; открытое учебное заведение; открытый дом; день открытых дверей; при открытых дверях, открытая система, система открытого типа; открытое акционерное общество, акционерное общество
открытого типа; открытое море; открытый стол, открытый лист;
ломиться в открытую дверь.
4. 'Обнаженный, не имеющий покрова (о частях человеческого
тела)' с выделением конструкций открытый лоб; с открытым лицом;
Глава 12. Описание комплекса «открыть» ...
229
открытый ворот; открытый слог; открытый вопрос; с открытым забралом.
5. 'Искренний, откровенный, прямой' (Открытый характер) с выделением конструкций с открытой душой, с открытым сердцем.
6. 'Явный, не скрываемый' с выделением конструкций открытым
текстом; открытое голосование; открытое письмо; пойти, вступить и
т. п. в открытый бой, сражение и т. п.; встретиться в открытом бою;
в открытую.
7. 'В горном деле – наружный, не подземный' (Открытые горные
работы).
8. 'В медицине – внешне явно заметный, не скрытый, не внутренний' с выделением конструкций открытый перелом, открытая форма
туберкулеза.
9. 'В проф. речи – чистый, без каких-л. добавлений, примесей к
чему-л.' с выделением конструкций открытый цвет, открытый голос
((БАСРЯ 2004, т. 14, с. 497−502).
Приведенное описание, в целом, полно отражает все многообразие
контекстов, в которых употребляются слова открыть и открытый2,
однако систематизация собранного материала и приведенные толкования оставляют немало вопросов3. Созданная картина оказывается
еще более запутанной, чем это было представлено в описании в. Эванса (гл. 7 данной монографии). Непонятно, например, почему столь
разные действия как «устранив какую-л. преграду, пускать, вводить в
действие (воду, газ, электричество)» и «делать видимым в результате
освещения» обозначаются одним глаголом. Внутренняя структура
концептуального пространства из приведенного описания неясна: нет
ясности в том, что является центром, а что периферией, какие из приведенных моделей встречаются часто, а какие – почти не встречаются,
как различные концептуальные блоки связаны друг с другом. Обратимся к анализу этой структуры в рамках СТЛК, поставив перед собой
задачу ее системной репрезентации.
12.2. Комплекс «открыть» в СТЛК
Прежде чем переходить к более формальному описанию, имеет смысл
в свободной форме изложить основную идею. Прототипическая модель
для комплекса открыть объединяет широкий класс ситуаций, обладающих общей топологической структурой: замкнутая внутренняя
область А; внешняя область В; разделяющая их граница С (см. рис. 8).
Тогда действие, обозначаемое глаголом открыть, предполагает разрыв
границы; область А при этом становится открытой, т. е. появляется
возможность проникновения в нее. Способ разрыва границы не носит
принципиального характера; важно лишь, что возможность разрыва
потенциально заложена в структуре границы, она воспринимается в
�230
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
процессе социальной коммуникации как естественная (в противном
случае, мы используем другие глаголы, например, взламывать).
Рис. 8. Прототипическая модель для комплекса открыть
1. Можно утверждать, что описанная схема охватывает широкий спектр
ситуаций, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни, и характеризует прототипическое ядро комплекса открыть, выражаясь в сочетаниях открыть дверь, окно, ворота, холодильник, бутылку, консервы, коробку, конверт, чемодан, пенал и т. д. Несмотря на различие в сравнительных
размерах агенса и объекта, форме объекта, необходимых для открывания
усилиях, совершаемых при этом действиях и т. д., все описанные ситуации
подчиняются базовой схеме. Обычно объектом действия в предложении
становится элемент границы С, испытывающий трансформацию, но в
определенных ситуациях позиция объекта метонимически переносится
на область А: можно открыть дверь, но можно и открыть комнату4. Еще
одним вариантом метонимии является модель, при которой действие,
состоящее из нескольких частей может обозначаться по одной из них, не
описывающей непосредственного разрыва границы (эта модель выражена, например, во фразе Он открыл дверь своим ключом).
В целом, в данную модель укладывается и сочетание открыть книгу (ср. открыть шкатулку, открыть чемодан) и типологически связанные с ним (по данным НКРЯ, более поздние и значительно менее
частотные) открыть газету5 или открыть журнал. Открыть письмо
представляет собой метонимию от открыть конверт и также менее
частотно, чем исходная конструкция.
Глава 12. Описание комплекса «открыть» ...
231
Заметно дальше отстоят от базовой модели, интуитивно воспринимаясь как пограничные случаи, приводимые БАСРЯ выражения открыть
зонтик, открыть веер. Гораздо более частотны здесь раскрыть зонтик,
раскрыть веер6. Отмечу сомнительность предложенного БАСРЯ толкования «разворачивать, разгибать сложенное, согнутое», иллюстрируемого данными сочетаниями. Типичные действия, связанные с «разворачиванием сложенного» и «разгибанием согнутого», как кажется, не описываются глаголом «открыть» (ср. разогнуть проволоку, гвоздь и открыть
проволоку, гвоздь*, развернуть карту города и открыть карту города?? для
бумажной карты). С другой стороны, раскрывая зонтик, мы оказываемся под его внутренней поверхностью, как бы переходя из внешней для
него области во внутреннюю, что дает определенные основания для использования в данном случае глагола открыть.
В отдельных случаях граница может и не быть непрерывной, а внутренняя область замкнутой, хотя такие выражения значительно менее
частотны и также воспринимаются как пограничные случаи. Эту ситуацию характеризует приводимый в БАСРЯ пример: От жара, поднимавшегося вместе с дымом кверху, качались ветки старой ели… и то
закрывали, то открывали темное небо. Здесь принципиальна оппозиция
закрывали/открывали; выражение ветки старой ели открывали темное
небо выглядит гораздо более сомнительно. Весьма редки и кажутся
авторскими случаи использования глагола открыть в значении «делать
видимым в результате освещения» (пример из БАСРЯ: Свет открывал
то черные блестящие стебли травы с оранжевыми засохшими ягодами,
то огненные шапки мухоморов, как будто забрызганные мелом)7. Здесь
действие, ведущее к уничтожению воображаемой преграды, имеет мало
общего с действием, предполагаемым глаголом открыть (свет п р о н з а е т тьму, и тьма не представляет границы в строгом смысле этого
слова; она наполняет все пространство до объекта).
Особый интерес представляет конструкция открыть вид на (отсутствующая, заметим, в БАСРЯ):
Тут была уютная комнатушка с одним окном, открывавшим вид на
арестантский прогулочный дворик и рощу столетних лип, которых судьба тоже не пощадила и вкроила в зону, охраняемую автоматным огнём
(А. Солженицын. В круге первом).
В данном случае окно оказывается агенсом, а вид – объектом воздействия аналогичным окну или двери в базовой модели. Отмеченная
параллель между видом и открываемым элементом границы связана со
спецификой слова вид, отражающей особенности зрительного восприятия: вид на объект не совпадает с объектом (вид может быть удачным
или неудачным, что приводит к различному восприятию объекта, отличному от свойств самого объекта), он обеспечивает лишь доступ к
нему, выступая как посредник между объектом и субъектом аналогично
�232
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
элементу границы (эта аналогия подчеркивается уже упомянутой метонимической моделью: открыть квартиру вместо открыть дверь, но и
окно открывало площадь вместо окно открывало вид на площадь).
2. Сочетания открыть глаза, рот и открыть лицо, шею, грудь, лоб,
уши также укладываются в заданную модель: они описывают ситуацию
разрыва границы, в результате которой внутренняя область становится доступной внешнему взору8. В отличие от ситуаций, разобранных
выше, эта область принадлежит уже не внешнему для человека объекту, а самому человеку.
Следует отметить, что конструкции открыть шею, грудь, лоб, уши,
обладая очевидной спецификой в направленности действия и характере границы, заметно менее употребительны, чем открыть глаза, рот9
и для них отсутствуют метафорические расширения, характерные для
первой группы (открыть глаза на истинное положение вещей; слушать,
открыв рот и т. д.). Это обусловлено как гораздо большей частотностью
действий, связанных с открыванием глаз и рта, так и бóльшим удалением конструкций открыть лоб, уши от базовой схемы (граница в этом
случае носит менее отчетливый характер).
Интересен приводимый БАСРЯ пример Небрежно зачесанные русые
волосы открывали красивый белый лоб с толкованием «не закрывать, не
заслонять собою, оставлять видимым»10. Здесь мы опять имеем дело с
метонимическим сдвигом: результат действия заменяет собою действие
(зачесывая волосы, мы открываем лоб, поэтому, пока они зачесаны, лоб
остается открытым). Такая замена возможна, но она встречается крайне
редко, представляя собой заметное отклонение от базовой схемы.
Два следующих блока значений представляют собой образцы концептуальной метафоры в смысле Лакоффа-Джонсона. Один из них
характеризует перенос действия глагола на социокультурное пространство, указывая на социальные границы и социальные области, а также
связанные с ними культурные сценарии, второй – на эментальное. Под
эментальным пространством мы будем понимать здесь область, включающую в себя ментальные действия и сопровождающие их эмоционально-волевые акты. Утверждение о целостности эмоциональнорациональной сферы, в которой, в зависимости от задач исследования,
можно выделять разные фрагменты, стало важным постулатом современной когнитивной науки, и категория эментального пространства
вводится, исходя из данного постулата.
3. Яркий пример переноса базовой модели на социокультурное пространство представляет собой приводимый БАСРЯ пример из «Анны
Карениной»: Хотя свет был открыт для него лично, он был закрыт для
Анны. Здесь отчетливо видно наличие определенной замкнутой области,
маркируемой социально, пересечение границ которой возможно для
одних, но невозможно для других. К этой же модели относятся выраже-
Глава 12. Описание комплекса «открыть» ...
233
ния кому-либо, для кого-либо открыты все двери; кому-либо, перед кем-либо
открыты все дороги, а также открытый урок, открытое собрание, открытый лист, день открытых дверей и т. д. Открытый в данном контексте означает доступный для проникновения извне, из-за границ социальной области: открытое собрание – собрание, на котором могут
присутствовать не только члены организации; открытый урок – урок,
на который приглашаются другие учителя, а также, возможно, родители
и просто заинтересованные лица; открытый дом – дом, в который легко могут приходить не только родственники, но и малознакомые, а
иногда и случайные люди и т. д. Отдельно можно выделить сочетание
открытый лист – в XIX веке, согласно словарю Даля, «свидетельство,
выданное должностному лицу на известные требования и полномочия;
род подорожной, на требование не почтовых, а земских и этапных лошадей», в современном языке – археологический термин, обозначающий
документ, дающий право на проведение археологических раскопок. В
последнем случае имеет место метонимия: документ, открывающий доступ к выполнению определенных действий, включающий его обладателя в круг лиц, имеющих право на выполнение этих действий, замещает собой социальную область, к которой открывается доступ.
4. Отдельного анализа требует значение «полагать начало существованию, деятельности чего-л. (учреждения, предприятия, объекта и
т. п.)», выражаемое в конструкциях открыть памятник, выставку, кафе,
магазин, станцию метро и т. д. Здесь также наблюдается метонимический сдвиг, аналогичный конструкции открыть комнату: открывающийся объект уже создан (построен) как физическое тело, открытие
наделяет его необходимыми социокультурными смыслами, включает
его в систему социальной коммуникации, что предполагает доступ к
нему извне. Связь базовой схемы глагола открыть со значением открыть выставку проявляется в символическом перерезании ленточки,
знаменующем уничтожение пространственной границы между объектом и внешним миром. Похожий ритуал часто имеет место и при
открытии памятника. Предлагаемое БАСРЯ толкование открыть памятник как «сооружать, воздвигать памятник» некорректно, т. к. открытие памятника предполагает, что он уже воздвигнут. Приводимый
там же пример Умер Уатт в 1819 году, а через пять лет в Лондоне был
открыт ему памятник представляет собой классический образец синекдохи, когда последний этап процесса обозначает весь процесс целиком. Аналогично и открытие кафе предполагает открытие его дверей
для всех желающих, т. е. связано с конкретными действиями по разрушению границы в физическом пространстве.
5. Выражения открыть собрание, митинг, конференцию и т. д. организованы более сложным образом. Мы имеем здесь дело с временными объектами, описываемыми по модели пространственных. С
�234
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
одной стороны, как это было отмечено еще Аристотелем и Августином, объект во времени существует совсем не так, как объект в пространстве: он никогда не представлен весь целиком, со всеми частями11. С другой стороны, базовой метафорой для описания события,
протяженного во времени, является представление его как пространственного объекта.
Так, собрание и митинг можно собирать, н а собрание и н а митинг
можно п р и х о д и т ь , а н а митинг еще и в ы х о д и т ь , н а собрании
можно с и д е т ь , н а митинге с т о я т ь , митинг и собрание можно
с р ы в а т ь и т. д. Продолжая аналогию с выставкой, памятником или
кафе, можно сказать, что собрание или митинг можно открыть, когда
они уже наличествуют как объекты (люди собрались, они сидят в зале
или стоят на площади, председательствующий и выступающие на месте). С другой стороны, у событий, в отличие от пространственных
объектов, есть только две граничные точки: начало и конец, и начать
событие и означает сделать его открытым, как бы перерезать темпоральную ленточку, распахнуть занавес, переводя таким образом событие из потенциального состояния в актуальное.
6. Отдельного внимания требуют обороты открыть кредит и открыть счет. Слово кредит входит в употребление в XVIII веке, вероятно, представляя собой кальку с немецкого Kredit, и характеризует
отношения в сфере финансов. Кредит вообще есть доверенность заимодавца к своему должнику в рассуждении платы, так определяет его
Н.И. Новиков (О торговле вообще, 1783). Если взглянуть на основные
конструкции, в которых слово употребляется в языке этого периода,
то получается следующая картина: кредит можно иметь, поддерживать,
подорвать, кредитом можно пользоваться, остаться с ним, терять,
поднять, пускать в ход. Кредит может падать, расти12. Другими словами, кредит представляет собой в этой модели какую-то вещь, которой
обладает человек, которой он может пользоваться для своих целей и
которая обладает возможностью обрастать новыми частями. Тогда сочетание открыть кредит может быть истолковано как «открыть доступ
к этой вещи, убирать преграду, стоящую между ней и человеком», т. е.
актуализировать возможность, которой человек обладал потенциально
(для того, чтобы открыть кредит, уже изначально должны существовать
средства, которые могут быть предоставлены потенциальному клиенту; если средств нет, то и открыть нечего)13.
Также с областью финансовых операций связано и появившееся
приблизительно в то же время слово счет. Обозначая листок бумаги с
записанными на нем данными (это прямое значение проявляется в
таких выражениях, как подать счет, сделать кому-то счет), оно получает расширенное толкование в сочетаниях ставить на счет, брать
на счет и просто на счет кого-л., чего-л.:
Глава 12. Описание комплекса «открыть» ...
•
235
Ветрен хулит мой журнал затем, что все описания волокит и
ветреных любовников берет на свой счет, а женские портреты
ставит на счет своих любовниц (Н.И. Новиков. Трутень. Еженедельное издание на 1769 год месяц май);
• Если бы я был самолюбив, то скорый сей расход «Живописцу» неотменно поставил бы на счет достоинства моего сочинения; но,
будучи о дарованиях своих весьма умеренного мнения, лучше соглашаюсь верить тому, что сие сочинение попало на вкус мещан
наших… (Н.И. Новиков. Живописец. Третье издание 1775 г.
Часть I);
• Мне простительно было думать, что я значу много на счету князя, ибо будучи только член конторы, для чего бы ему к одному ко
мне относиться, а не ко всем? (И.М. Долгоруков. Повесть о
рождении моем, происхождении и всей моей жизни);
• Видя, что везде принимают меня за умного человека, заботился я
мало о том, что разум мой похваляется на счет сердца, и я прежде
нажил неприятелей, нежели друзей (Д.И. Фонвизин. Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях).
Если исходить из толкования в духе Лакоффа-Джонсона, приведенные примеры можно проинтерпретировать следующим образом. Образ
листа бумаги, на котором появляются разные записи, ведет к представлению о поверхности, на которую можно ставить что-то, что-то
снимать с нее и т. д. (современные конструкции класть деньги на счет,
снимать деньги со счета укладывается в эту модель). Тогда, прежде чем
доступ к этой поверхности будет о т к р ы т, она должна с у щ е с т в о в а т ь как отдельный объект. Другими словами, как и в случае с кредитом, должна существовать определенная социальная возможность,
только если в случае кредита эта возможность перцептивно представляется в виде вещи, то здесь – в виде некоторой области в социальном
пространстве. Связь с базовой схемой здесь не лежит на поверхности,
но она не становится от этого менее отчетливой14.
7. Перенос прототипической модели из физического в эментальное
пространство может быть проиллюстрирован на следующем примере:
Он уже есть, только еще мне не открыт, как какой-нибудь закон или
остров (М. Шишкин. Письмовник). Данный пример показывает, что
объект, который мы открываем, должен уже существовать15, но одновременно должны существовать и интеллектуальные препятствия,
скрывающие его от нас. Для открытия объекта требуется преодолеть
эти препятствия. Это касается как открытия закона, так и открытия
месторождения, острова: открыть месторождение нефти значит в ы я с н и т ь , что месторождение находится в данном месте. Открытие
здесь предполагает интеллектуальные усилия по преодолению интеллектуальной границы.
�236
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
8. По этой же модели организована конструкция Он (его душа, сердце
и т. д.) открыт всему новому, прогрессивным идеям и т. д. Единственное
отличие состоит в том, что здесь речь идет уже не о внешних областях, а
об областях, характеризующих внутреннее пространство человека, который не ставит преград информации, поступающей из внешнего мира16.
Данный пример характеризует большую группу ситуаций, в которых
усилие по преодолению границы направлено изнутри вовне, ситуаций,
выражаемых оборотами открыть секрет, тайну, душу, сердце.
Можно утверждать, что по данной схеме организована и конструкция открыть карты (карту). Толкование БАСРЯ «повернув лицевой
стороной, делать видимым для всех» не выглядит убедительно. Для
человека, который наблюдает за игрой со стороны, не владея ее правилами, переворот карты не сообщает никакой принципиально новой
информации (картинки просто меняются местами). Выражение открыть карту имеет смысл исключительно в контексте игры и означает открытие доступа к некоторой закрытой для других, тайной информации, сообщение некоторого секрета. Переносный смысл выражения
открыть карты (И тут руководители «Экрана» открыли карты: оказывается, встал вопрос о закрытии «Гусара» (Э. Рязанов. Подведенные
итоги)) подтверждает предложенное толкование.
***
После сделанных замечаний перейдем к экспликации общей структуры
комплекса. Приводимое ниже описание не претендует на то, чтобы охватить все входящие в комплекс лексемы и фраземы, и не является словарной статьей в строгом смысле слова; оно представляет собой способ
упорядочивания изложенного выше лексического материала, предлагая
структуру, которая может служить основанием для создания различных
словарных статей в зависимости от объема и конкретных целей словаря.
Описание строится путем выделения в концептуальной структуре отдельных кластеров. Кластер составляют структурно близкие ситуации.
Так, задающие структуру комплекса действия определяются формулой Х
открывает Y. При этом такие действия имеют определенную цель, событийную предысторию и конкретные следствия. Важен для них также
и ситуационный контекст (окружающие Х и У объекты Z). Несмотря на
различия в приведенных параметрах, некоторые из действий обладают
структурным подобием, позволяющим объединить их в одну группу. До
определенной степени здесь уместна аналогия с категорическими силлогизмами. Так группы высказываний Все люди смертны/Сократ человек/
Сократ смертен и Все металлы электропроводны/Аллюминий металл/Алюминий электропроводен, несмотря на содержательные различия, обладают
общей структурой, воспроизводя первую фигуру категорического силлогизма, а Все люди мыслят/Таракан не мыслит/Таракан – не человек отли-
Глава 12. Описание комплекса «открыть» ...
237
чается от них по структуре, хотя тоже является силлогизмом. Аналогично
ситуации Петр открыл окно и Ольга открыла чемодан, как мы увидим в
дальнейшем, структурно близки, и их можно отнести к одному кластеру,
а Слесарь открыл кран обладает важными структурными особенностями
и требует помещения в другой кластер.
Описание каждого кластера строится по следующей схеме:
• Основные конструкции. Здесь приводятся составляющие данный кластер лексемы и фраземы.
• Визуальный образ. Лексическое описание в рамках СТЛК исходит из постулата о том, что основой для освоения языка является не врожденное знание семантических примитивов, а
социокультурный опыт человека. В этом случае строгое определение, выражающее данную лексему через набор более «простых» лексем, не является необходимым. Его функцию для
объектов физического пространства может выполнять визуальный образ или видеофайл, если структура словаря позволяет
это. Цель визуального образа состоит в том, чтобы актуализировать у человека повседневные практики, к которым отсылают
лексемы, входящие в данный кластер, помочь идентификации
стоящего за лексемами концептуального содержания. Основным требованием к такому образу является простота и семиотическая четкость изображения, позволяющая избежать возможных фоновых эффектов. Следует подчеркнуть, что визуальный образ не является необходимым элементом описания, и
появляется лишь в отдельных классах кластеров.
• Базовая схема. В данном разделе описывается базовая модель,
организующая входящий в кластер материал. Это может быть как
отдельная ситуация, так и абстрактная структура, лежащая в основании целого ряда ситуаций. Задача данного раздела – раскрыть
принципы организации концептуального содержания кластера.
• Примеры. В данном разделе приводятся образцы употребления
входящих в кластер лексем.
• Комментарий. Данный раздел включает в себя исторический
и/или социокультурный комментарий к концептуальному содержанию кластера, если такой комментарий необходим.
После сделанных общих замечаний перейдем к конкретному описанию.
Лексическое гнездо комплекса открыть составляют следующие
лексемы: открыть (сов. открыть), открытый, открыто, открывание,
открытие, первооткрыватель, отворять (сов. отворить), отверзать
(сов. отверзнуть) (устар.), приоткрыть (сов. приоткрыть)17.
В концептуальной структуре комплекса можно выделить три структурные области: физическое пространство, социокультурное простран-
�238
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Глава 12. Описание комплекса «открыть» ...
239
ство и эментальное пространство. Базовым кластером для физического пространства и ядром всего комплекса в целом является кластер 1
(см. рис. 9)18. Остальные кластеры получаются из данного путем семантических сдвигов, имеющих либо метонимическую, либо метафорическую природу. Перейдем к непосредственному описанию структуры кластеров.
Рис. 11. Открыть дверь.
Рис 9. Структура комплекса открыть
Кластер 1
Основные конструкции: открытьс19 дверь/окно/ворота/чемодан/
бутылку и т. д.; открытая дверь/окно/ворота/чемодан/бутылка и т. д.;
открытая сцена/эстрада/театр, под открытым небом; открытая система (терм)
Визуальный образ: см. рис. 10, 11, 12.
Рис. 10. Открыть окно20.
Рис. 12. Открыть бутылку.
Базовая схема: комплекс исходит из схемы, представленной на
рис. 8, и описывает процесс размыкания границы, при котором внутренняя часть становится доступной для контакта извне. Важным
моментом является также потенциальная возможность такого размыкания, воспринимаемого не как экстраординарное событие, а как
обыденная практика, которая предполагает, что разомкнутая граница
может быть восстановлена вновь, а также временный характер разрыва. Тогда само действие размыкания описывается глаголом открыть
и существительным открывание, состояние внутреннего объекта – предикатом открытый.
Примеры:
1. Я прошёл в свою комнату, открыл окно и лёг спиной на подоконник
(В. Аксенов. Звездный билет).
2. Он испугался, отошел, открыл комнату, и я выскочила (В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО).
3. Дверь ключом открываю и говорю: «Могли бы хоть позвонить»
(А. Геласимов. Чужая бабушка).
4. На крыше днем можно загорать, а вечером она превращается в
открытый кинотеатр на 200 мест (обобщенный. Заметки (Вокруг земного шара))
5. Прямо под открытым небом на склоне холма у реки разместились
три небольшие площадки, на которых проходили отборочные туры
(В. Тарасова. Купол неба и – песня!).
6.
Комментарий: См. выше п. 1 в начале данного раздела главы.
Также следует отметить, что глагол приоткрыть указывает на небольшую величину зазора между разомкнутыми элементами границы,
глаголы отворять и отмыкать используются, в основном, в литера-
�240
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
турных текстах и предполагают плавный ход процесса (ср. он резко
отворил дверь?, он стремительно отомкнул дверь??), глагол отмыкать
предполагает также использование ключа. Кроме базового кластера,
глагол приоткрыть входит в кластеры 2 и 3, а также возможен в отдельных конструкциях кластеров 4, 8, 9; глагол отворять крайне
редок в кластерах 2, 3, 4 и не используется в остальных кластерах;
отмыкать – крайне редок в кластере 2 и не используется в других
кластерах. Глагол отверзать является устаревшим и в основном характерен для кластера 2.
Глава 12. Описание комплекса «открыть» ...
241
Комментарий: См. п. 2. В современном языке для данного кластера практически не употребляются глагол отворить. Сочетание отверзать уста является устаревшим.
Кластер 3
Основные конструкции: Открытьс кран/клапан/вентиль/воду.
Визуальный образ:
Кластер 2
Основные конструкции: открытьс глаза/рот; шею/грудь/лоб/уши.
Визуальный образ:
Рис. 16. Открыть кран.
Рис 13. Открыть рот.
Рис. 14. Открыть глаза.
Рис. 15. Открыть лоб.
Базовая схема: соответствует рис. 8, только теперь внутренняя область находится не вне человека, а связана непосредственно с ним, так
же, как и размыкаемая граница.
Примеры:
1. Девочка открыла глаза и зевнула. (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого);
2. Он хотел что-то сказать еще, но только открыл рот и глотнул
воздух (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом);
3. И хоть у меня руки в наручниках, я разрываю рубашку, открываю
грудь, а там все в крови (Ф. Искандер. Сандро из Чегема);
4. Стянутые ремешком седые волосы открывали костистый лоб,
острые бесцветные глаза утопали под низко нависшими бровями (Б. Васильев. Вещий Олег).
Базовая схема: опирается на схему, изображенную на рис. 8. Особенность охватываемого кластером 3 концептуального содержания
состоит в том, что внутренняя область может не иметь четких границ,
а размыкание границы имеет своей целью контакт с содержимым
внутренней области, которое представляет собой некоторую жидкость
или газ. Открывая кран, мы выпускаем вещество наружу, обычно для
того, чтобы иметь возможность его использования.
Примеры:
• Я открыл кран и вымыл, как мог, свою миску под струей холодной
воды (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет);
• Афанасий подошел к раковине, открыл воду, налил себе полную
чашку, выпил ее, налил еще, выпил, налил еще одну и выпил (Е. Радов.
Змеесос).
Комментарий: Выражение открыть воду представляет собой метонимию к открыть кран (ср. открыть дверь и открыть комнату в п. 1).
Прежде, чем переходить к дальнейшему описанию, необходимо
сделать одно общее замечание. Содержание последующих кластеров
представляет собой концептуальные метафоры в смысле ЛакоффаДжонсона, хотя эта метафорическая природа может в целом ряде
случаев (напр., открыть новый закон, открыть счет в банке) почти не
осознаваться. Тем не менее, как показывают описанные в 4 главе эксперименты, связанное с перцептивным действием базовое значение
«включается» на бессознательном уровне и в этих ситуациях.
Кластер 4
Основные конструкции: Х открываетс У дверь, дорогу в/к Zф21; для
X, X, перед X открыта дверь (двери), дорога (дороги) в/к Zф, для X, перед
X открыт Z (компания, дом, свет)ф; для X, X, перед X открыты все две-
�242
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
ри (дороги)ф; открытый урокф; открытое собраниеф; открытый домф; день
открытых дверейф; открытый стол (устар.)ф, открытое море (терм.),
открытый лист (терм.).
Базовая схема: в данном кластере происходит метафорический
перенос модели, обозначенной на рис. 8, на социальное пространство;
внутренняя часть представляет собой определенную социально маркированную группу или социальную область, а граница имеет характер
писаных и/или неписаных социальных норм, делающих эту группу
открытой для одних и блокирующих доступ в нее другим.
Примеры:
• Решительно, без колебаний (в отличие от многих послов) выступил
19 августа 1991 года против заговора гэкачепистов. Что и открыло ему дорогу к министерскому креслу (А. Бовин. Пять лет
среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского
посольства);
• Дорога в аспирантуру была для него открыта (Т. Шестерова. Не
плыть по течению и с курса не сбиться)22;
• Однажды во время бала начался пожар, и Чернышев, рискуя жизнью,
спасал из огня французских красавиц. Естественно, после этого
двери всех парижских салонов были перед ним открыты (М. Воробьев. Континентальная блокада и русские финансы)23;
• Ребята из нашего депо с пяти-шестиклассным образованием через
ускоренные курсы поступали в вузы, и передо мной тоже были
открыты все дороги: рабочий с малых лет, к тому же демобилизованный красноармеец, мог поступить сначала на курсы, потом
в вуз, уехать в Харьков, Харьков был тогда столицей Украины
(А. Рыбаков. Тяжелый песок);
• Парторганизация проводила свои закрытые и открытые собрания,
обсуждались на них, как положено, последние решения политбюро,
но никогда и никто не смел вмешиваться в репертуарную политику или в распределение ролей (С. Юрский. Четырнадцать глав о
короле);
• Сегодня здесь день открытых дверей для выпускников городских
школ (В. Антипин. Зажигалки Павлова);
• У Саши был открытый дом – и труднее вспомнить, кто не приходил к нему туда (И. Кио. Иллюзии без иллюзий);
• Будем вести разведочные раскопки. Открытый лист выправим после.
Не полагается это (Ю. Домбровский. Хранитель древностей).
Комментарий: см. выше п. 3 в начале данного раздела главы.
Кластер 5
Основные конструкции: открыть выставку, памятник, магазин,
кафе, станцию метро и т. д.
Глава 12. Описание комплекса «открыть» ...
243
Базовая схема: В данном случае предполагается наличие некоторого объекта, предназначенного для публичного использования; объекта,
который уже построен, но еще не функционирует по назначению.
Другими словами, будучи готовым к функционированию, он еще не
имеет публичного статуса. Открытие объекта обозначает символический акт начала его публичного использования.
Примеры:
1. В Эрмитаже с огромным международным резонансом была открыта выставка, посвященная культуре Востока эпохи Руставели, приуроченная к 750-летнему юбилею грузинского гения (Ю. Кантор. Реальность и соцреализм: Эрмитаж в 1917–1941 гг.);
2. К пятнадцатилетию Санкт-Петербургской Клиники Святослава
Федорова в нашем городе открыт памятник великому российскому академику и состоялась Российская научная конференция
(С. Довбня. Памятник Святославу Федорову открыт в СанктПетербурге);
3. Довольно смешной роман о лондонском парне, который открыл
магазин по продаже виниловых дисков и теперь от этого страдает
(Паучий сад).
4.
Комментарий: см. выше п. 4.
Кластер 6
Основные конструкции: открыть собрание, заседание, конференцию,
митинг и т. д.
Базовая схема: В данном кластере речь идет не о пространственных объектах, а о событиях, предполагающих временную локализацию. Необходимым условием, обеспечивающим осуществление события, является наличие определенной группы людей с распределенными социальными ролями (слушателей и выступающих) в одном
месте. Тогда открытием называется действие, обозначающее начало
события.
Примеры:
1. Президент открыл собрание, и я сразу почувствовал себя не в
своей тарелке, ибо только я один абсолютно не понимал происходящего – остальные были в курсе дела (И. Шкловский. Рассказы);
2. Открыл митинг, конечно, Толя Пустохин, парторг, и сразу
предоставил слово директору Суханову, которому предстояло
играть на митинге первую роль (В. Рецептер. Ностальгия по
Японии).
Комментарий: см. выше п. 5.
�244
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Кластер 7
Основные конструкции: открыть кредит, открыть счет (в банке),
открыть счет (в матче), открыть счет (жертвам, успехам, победам,
поражениям).
Базовая схема: В данном кластере основанием ситуации является
наличие некоторой возможности (открыть счет или кредит в банке,
например), социальной структуры или модели, которая могла бы эту
возможность предоставить (банк, обладающий правом открыть счета),
субъекта, который обладает юридическим правом воспользоваться этой
возможностью. Тогда факт открытия означает актуализацию такой
возможности.
Примеры:
1. Бароны Ротшильды открыли широкие кредиты нефтепромышленникам, многих спасли от разорения, большинство привели к процветанию (А. Иличевский. Перс);
2. Он открыл счет в банке, лопатой греб деньги оттуда, но и возвращал с избытком (А.Азольский. Диверсант);
3. На 78-й минуте защитник Мартин Демикелис, пришедший в
чужую штрафную на подачу углового, открыл счет, вколотив
мяч в сетку с близкого расстояния (Д. Беляева. Ренессанс Марадоны);
4. Так морское чудище, если не считать беднягу, погибшего во время
сборки судна на стапеле, открыло счет своим жертвам (И. Цветков. Морское чудище инженера Брунеля в романе Жюля Верна
«Плавающий город»);
Комментарий: см. выше п. 6.
Кластер 8
Основные конструкции: открыть закон/явление/процесс/месторождение и т. д.; открыть тайну/секрет и т. д.; открыть X, открыть в X
Y; открыть X глаза на Yф; открыть (не открыть) Америку (Америки)ф;
ломиться в открытую дверьф.
Базовая схема: В данном кластере речь идет о ранее не известном
человеку, группе лиц, человечеству в целом факте, явлении, процессе.
Этот факт может носить характер универсального закона, а может характеризовать частные свойства объекта, не попадавшие в поле зрения
отдельного человека. Выявление этих свойств и характеризуется глаголом
открыть.
Примеры:
1. Ньютон, открывший законы движения небесных тел, как бы разоблачивший величайшую тайну мироздания, был верующим человеком и занимался богословием (С. Франк. Религия и наука);
Глава 12. Описание комплекса «открыть» ...
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
245
Светочувствительный датчик появился благодаря работам русского ученого А.Г. Столетова, открывшего явление фотоэффекта
эмиссии электронов под действием света (Д. Меркулов. Телевидению – 80 лет);
В середине XIX века за Полярным кругом, на Таймыре, в зоне вечной мерзлоты, были открыты месторождения медных руд (А. Рункин. «Угодил» начальству);
Пятилетним мальчиком я никак не мог открыть тайну перочинного ножа: как он складывается и раскрывается (В. Розов. Удивление перед жизнью);
И это не просто учтивость, ведь именно «Современник» открыл
Толстого русским читателям (А. Зверев. Лев Толстой)24;
Райский приласкал его и приласкался к нему, сначала ради его
одиночества, сосредоточенности, простоты и доброты, потом
вдруг открыл в нем страсть, «священный огонь», глубину понимания до степени ясновидения, строгость мысли, тонкость анализа
относительно древней жизни (И. Гончаров. Обрыв);
Я теперь его раздражал тем, что открыл ему глаза на более глубокое понимание смешного, и в то же время сделал это нарочно
слишком поздно, чтобы он уже не смог со мной состязаться
(Ф. Искандер. Начало);
Я не открою Америки, если скажу, что на первом месте среди
прочих причин стоят курение и алкоголизм (М. Петрова. Пиво
заказывали?);
Ему в сущности не было надобности спорить со мною в этом
пункте, но он все-таки спорил и, как мне казалось тогда, ломился в открытую дверь (Г. Чулков. Годы странствий).
Комментарий: См. выше п. 7. Также отметим, что выражения открыть тайну, секрет встречаются как в данном, так и в следующем
кластере. В данном случае речь идет о выявлении скрытых механизмов
функционирования внешних для человека объектов, о проникновении
во внутреннюю область извне. Возможен и обратный процесс, который
описывается кластером 9.
Кластер 9
Основные конструкции: открыть душу/сердце/мысли/чувства/желания (устар.) и т. д.ф; открыть (свои) картыф; открыть тайну/секрет;
открытая душаф/сердцеф/человек.
Базовая схема: Такая же, как в кластере 8, только разрушение ментальной границы происходит теперь не извне, а изнутри, и речь идет
о фактах, известных самому человеку, но неизвестных другим, находящимся во внешней области.
�246
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Примеры:
1. Раньше она вот так же, как Мила, была готова открыть душу
первому встречному, обожала своих кратковременных подруг на
судах, готова была все для них сделать, пока несколько раз не обожглась (О. Глушкин. Возвращение);
2. Я постарался открыть свои чувства в стихах (Б. Шергин. У
Архангельского города);
3. На минувшей неделе новый претендент на шестую кнопку, телекомпания ТВ-VI, открыла карты (А. Архангельский. Римские
против арабских);
4. Сейчас он расскажет всё Елене, а потом вызовет Таню, откроет
ей тайну отцовства, и пусть она тогда решает, что ей делать с
этим наследством (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого);
5. Мне очень обидно, что я с открытой душой, а на меня косятся
мои же доверенные (А. Солженицын. В круге первом);
6. Моя открытая душа поспешно застегивалась на все пуговицы
(Л. Гурченко. Аплодисменты).
Комментарий: См. выше п. 8.
Кластер 10
Основные конструкции: открыть ротф; слушать, открыв рот, с открытым ртомф; застыть с открытым ртомф, открыть рот от удивления/
изумленияф.
Базовая схема: Две группы значений в данном кластере характеризуют момент вступления (или невступления) в разговор (открыть рот;
не открыв рта), а также состояние сильного удивления, заинтересованности, восхищения в процессе коммуникации (слушать с открытым
ртом, открыть рот от удивления и т. д.).
Примеры:
1. Как они поют, мне слышать не доводилось (по-моему, на этих
уроках большей частью поёт для них он, а они, открыв рот, слушают), но они чаще всего недурны собой, смотрят на него абсолютно влюбленными глазами, ходят за ним, как гусыни, очень
гордые (С. Спивакова. Не всё);
2. Марина взяла с колен бабы Ити прикорнувшего сына и унесла его
в летнюю кухню-зимовку, гости тоже вежливо начали прощаться, отодвигать стулья и покидать дом Виталии Гордеевны, так,
кажется, за весь вечер и не открывшей рта (В. Астафьев. Пролетный гусь);
3. Во всяком случае, Лёва имел большое влияние на нас на всех, все
мы были заядлые комсомольцы, и я смотрел на Лёву снизу вверх,
слушал его с открытым ртом (А. Рыбаков. Тяжелый песок);
Глава 12. Описание комплекса «открыть» ...
247
4.
Грянули «черно-голубые», и Марио Чинечетти исполнил перед
микрофоном несколько па твиста. «Дорогие друзья», каждый из
которых по меньшей мере раз в неделю посещал этот ресторан на
протяжении многих лет, замерли с открытыми ртами такого
они ещё не видели (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора).
Комментарий: В данном кластере, в отличие от предыдущих, не
происходит преодоление границы ни в физическом, ни в социальном
или ментальном пространстве. Две группы значений, связанных с
данным кластером, представляют собой метонимическую замену всего действия его началом (открыть рот вместо начать говорить), метонимическую замену психологической реакции ее внешним выражением (открыть рот от удивления), а также метафорическую трансформацию подобной схемы, когда действие или состояние заменяется
характерной поведенческой реакцией даже при ее отсутствии. Другими
словами, порождающей моделью для данного кластера становится уже
не базовая схема кластера 1, а побочные линии комплекса.
Подведем итог проделанному в данной главе анализу. Предложенный подход дает возможность соединить все разнообразие значений,
никак не систематизированное в БАСРЯ и других толковых словарях,
в единую структуру, изображенную на рис. 9. Другими словами, мы
можем говорить о комплексе открыть как о целостности, в которой
выделяется базовое ядро и появляющиеся из него путем вариаций порождающей модели, а также возникающие благодаря использованию
концептуальных метафор кластеры. Однако описанная ситуация не
является единственно возможной. Другую модель организации материала в комплексе мы разберем в следующей главе на примере комплекса камень.
Примечания
Выражения в марровских кавычках представляют собой толкования словаря, курсивом выделены приводимые примеры. Авторы приводимых иллюстраций и произведения, из которых они взяты, здесь опущены.
2
Отдельные дополнения будут сделаны в процессе приводимого ниже анализа.
3
Близкие по структуре, хотя и менее подробные описания можно найти и в других словарях. Так, статья для глагола открыть в словаре Ожегова выглядит следующим образом: «1. Поднять крышку; раздвинуть створки чего-нибудь. Открыть чемодан. Открыть
дверь, окно. 2. Сделать доступным, свободным для чего-нибудь. Открыть путь. Открыть
фланги. 3. Обнажить, освободив от чего-нибудь закрывающего. Открыть грудь. Открыть
лицо. 4. Разомкнуть, раскрыть что-нибудь сомкнутое, сложенное. Открыть глаза. Открыть рот. 5. Пустить, ввести в действие что-нибудь. Открыть воду. Открыть газ. Открыть счет в банке. 6. Сообщить откровенно о чем-нибудь; обнаружить. Открыть свои
намерения. Открыть правду. Открыть свое имя. 7. Предоставить, доставить (то, что названо следующим далее существительным) (книжн.). Открыть возможность. Открыть поле
деятельности кому-нибудь. 8. Положить начало каким-нибудь действиям, деятельности,
какому-нибудь предприятию. Открыть заседание. Открыть торговлю. Открыть театр.
Открыть счет (в игре). Открыть огонь (начать стрелять). 9. Установить существование,
1
�248
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
наличие кого/чего-нибудь ранее неизвестного. Открыть новую звезду. Открыть заговор.
Открыть в ребенке поэта» (Ожегов 1990, с. 471).
4
Напр., Подивившись на оплошность всегда аккуратной сотрудницы, Эра Вадимовна открыла комнату, вошла внутрь и невольно вскрикнула (Д. Донцова. Доллары царя Гороха).
Замечу, впрочем, что второй вариант значительно менее частотен, чем первый, и во многих случаях невозможен или крайне сомнителен: ср. открыть ворота во двор и открыть
двор?, открыть калитку в сад и открыть сад*.
5
Отметим, что развернуть газету по данным НКРЯ оказывается в 5,5 раз более частотным, чем открыть газету.
6
НКРЯ не дает никаких вхождений на запрос открыть веер (лексико-грамматический
поиск, расстояние – 1 словопозиция), и 9 вхождений на запрос раскрыть веер; на запрос
раскрыть зонт – 28 вхождений, открыть зонт – 6 вхождений.
7
Замечу, что сочетание свет открывал (открывает и т. д.) встречается в НКРЯ 7 раз, и
в 5 случаях из 7 свет представляет собой либо метафору, либо репрезентацию духовного
света: Мы смотрим на них и видим образ, но только потому, что через стекла светится
свет Божий, и в конечном итоге свет открывает нам краски, а не краски открывают нам
свет (митрополит Антоний (Блум). «Я хочу поделиться с вами тем, что накопилось…»);
Это было не предположение, – она ясно видела это в том пронзительном свете, который
открывал ей теперь смысл жизни и людских отношений (Л. Толстой. Анна Каренина).
8
Ср.: Под маской можно сказать многое, чего с открытым лицом сказать нельзя (В. Соллогуб. Большой свет; НКРЯ).
9
НКРЯ на запрос открыть глаза (лексико-грамматический поиск, расстояние – 1
словопозиция, омонимия не снята) дает 4420 вхождений, на запрос открыть грудь – 85
вхождений, открыть лоб – 56 вхождений.
10
См. также ниже пример 4 в кластере 2.
11
См., напр., следующий фрагмент из «Исповеди» Августина: Вот представь себе: человеческий голос начинает звучать и звучит и еще звучит, но вот он умолк, и наступило
молчание: звук ушел, и звука уже нет. Он был в будущем, пока еще не зазвучал, и его нельзя было измерить, потому что его еще не было, и сейчас нельзя, потому что его уже нет.
Можно было тогда, когда он звучал, ибо тогда было то, что могло быть измерено. Но ведь
и тогда он не застывал в неподвижности: он приходил и уходил. Поэтому и можно было его
измерять? Проходя, он тянулся какой-то промежуток времени, которым и можно его измерить: настоящее ведь длительности не имеет (Conf., 11, 23–27, пер. М.Е. Сергеенко).
Ср. Arist. Phys. 217в30 – 218а20, 218в10 – 218в25.
12
В ряде текстов слово начинает обозначать также «доверие»: Я употребил весь мой нравственный кредит, всю власть моего рассудка и сердца над ним, чтобы отвратить его от
этого и спасти его благородную, прекрасную душу для высшей деятельности (А. Никитенко. Дневник. 1826–1855). Замечу, что такой семантический сдвиг вполне вписывается в
модель появления новых значений в комплексе, описанную в 9 главе.
13
Предложенную интерпретацию можно проиллюстрировать следующими примерами:
Они начались удачно, а с удачею открылся и кредит, которым он воспользовался и, в надежде на хорошие сборы, решился выписать с разных немецких театров нескольких хороших
актеров и певцов (С.П. Жихарев. Записки современника. 1806–1809); По утверждении
общего расписания каждому министру открывается в казначействе кредит на ту сумму,
которая в расписании для части его будет назначена (Манифест об «Общем учреждении
министерств», 1811).
14
Не останавливаясь на этом подробно, заметим, что конструкции открыть счет голам,
победам, наградам и др. также укладываются в описанную структуру.
15
Нельзя открыть что-то, конструируя или изобретая; так, невозможно сказать: А.С. Попов открыл радио* или Паровоз был открыт в XVIII веке*, ср. Недавно он открыл для себя
существование паровоза.
16
Различие между данными ситуациями аналогично различию между открыванием
двери извне и изнутри в физическом пространстве.
Глава 12. Описание комплекса «открыть» ...
249
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что основной принцип включения лексемы в гнездо носит содержательный характер: разные лексемы выделяют разные фрагменты одной
концептуальной области. Морфологические характеристики выступают лишь в качестве дополнительного параметра.
18
Важно отметить, что помещение кластера в физическое пространство не означает,
что связанное с ним концептуальное содержание не включает в себя социокультурную
составляющую. Если исходить из социокультурной парадигмы, такую составляющую, в
большей или меньшей степени, содержат в себе любые действия и процессы. Речь здесь
идет лишь о том, что относящиеся к данному классу явления, действия и процессы воспринимаются через перцептивные каналы.
19
В глагольных конструкциях, входящих в кластер, глагол приводится в форме несовершенного вида. Если форма совершенного вида также входит в языковую норму,
это фиксируется нижним индексом с после глагола. Если в норму входит лишь одна из
форм, то приводится именно она, и дополнительные индексы отсутствуют.
20
Рисунки 10–16 выполнены Д. Малышевой.
21
Нижним индексом ф здесь и далее обозначаются фраземы.
22
www.nntu.ru/RUS/politexnik/2008/nomer7/pltx79_7_8a.doc
23
www.oldru.com/vorobiev2/12_06.htm
24
http://www.litmir.net/br/?b=156758&p=33
17
�Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
Глава 13. Описание комплекса «камень»
в рамках социокультурной теории
лексических комплексов
Так же, как и для комплекса «открыть», для комплекса «камень» неактуальны уровни А0 и В, и описание будет строиться на уровне А.
Однако структура комплекса обладает целым рядом существенных
отличий от структуры, описанной в предыдущей главе. Это связано
не столько с тем, что ее основу формирует предмет, а не действие,
сколько с тем, что в отличие от мононуклеарной структуры комплекса «открыть», она оказывается полинуклеарной. Еще одним важным
дополнением по отношению к предыдущей главе станет диахронный
анализ комплекса, построенный на сопоставлении картины, складывающейся на материале русского языка XI–XVI вв., и материала современного русского языка. Привлечение диахронной составляющей
дает возможность более выпукло очертить роль социокультурных
факторов в формировании комплекса и в эволюции его структуры.
Как и в предыдущей главе, мы начнем анализ с материалов толковых
словарей.
13.1. «Камень» и его дериваты в толковых словарях
русского языка
Вновь обратимся к соответствующей статье из Большого академического словаря русского языка (БАСРЯ, 13). Первым значением слова
камень является 'всякая твердая горная порода в виде сплошной массы
или отдельных кусков' с выделением конструкций: драгоценные камни,
адский камень, точильный камень, пробирный камень; холоден как камень,
лицо как камень; 'в переносном значении: о бесчувственном, бессердечном, бездушном человеке' (Вы, сударь, камень! Сударь, лед!); бросать,
кидать камень в кого-то; бросать камни в чей-либо огород; висеть камнем на ком-то; держать камень за пазухой; камень преткновения; не
оставить камня на камне; камни вопиют и т. д.
251
Отдельно выделяется второе значение: 'о могильной плите, надгробном памятнике' (Не нужны надписи для камня моего, Скажите
просто: здесь он был и нет его!); также в сочетании могильный, надгробный камень ([Снег] опускался на каменную скамью около костела, на
чей-то могильный камень).
Следующее значение, выделяемое авторами: 'о тяжелом, гнетущем
чувстве, душевной тяжести (только ед., перен.)' (Падет на грудь заботы
камень, Свободу рук скует нужда) с устойчивыми оборотами камень на
душе, словно камень с души упал, снял камень с души и т. д. (Спасибо,
Петя!.. – поблагодарила Капа так горячо, будто [он] снял камень с ее
души).
Четвертое значение – 'твердое отложение солей и органических
веществ во внутренних органах (обычно множ.)' (камни в почках; Я
выделял холестерин из желчных камней и изучал его свойства).
В качестве последнего значения авторами выделяется наречие камнем, т. е. 'с быстротой и тяжестью падающего камня' (Поднялась из
травы куропатка и камнем упала в кусты (Горький. Пожары)).
Важным дополнением к данной статье служит статья каменный.
Первое значение отсылает к статье камень: 'относящийся к камню
(в 1 знач.), состоящий из камня' с набором таких конструкций, как
каменная болезнь, каменный век, каменный уголь, а также содержащий
много камней, покрытый, усеянный камнями; каменистый.
Второе значение – 'сделанный, построенный из камня' (каменная
стена; каменная статуя; каменный пол), а также 'непоколебимый,
твердый (перен.)' (Стал я почитывать Писарева, Чернышевского и других, и как будто покачнули они мою каменную веру) с выделением конструкций жить, чувствовать себя как за каменной стеной, горой; надеяться, полагаться как на каменную гору и т. д.
Третье значение – 'ничего не выражающий, неподвижный, застывший (перен.)' (Швейцар Арсений молча, с каменным видом, сопя, напирал
грудью на поручика; каменное равнодушие, спокойствие и т. п.).
Четвертое значение – 'бесчувственный' ( – Кабы знал ты, что это
за человек был! Ни стыда в нем, ни совести! – проговорила Катерина… –
Каменный был человек; также каменная душа, каменное сердце).
Отдельно выделяется наречие каменно (по 3-му значению прилагательного) (Все вокруг каменно молчало. Ни голосов, ни шороха
шагов).
Приведенные статьи вызывают целый ряд вопросов разной степени
значимости. Прежде всего, как и в статьях 'открыть' и 'открытый', не
вполне понятны критерии выделения отдельных значений. Так, неясно, почему могильный камень интерпретируется как особое значение,
а драгоценный камень включается в значение 1: и в том, и в другом
случае речь идет о твердой породе, и в том, и в другом случае эта по-
�252
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
рода получает особые культурные смыслы, не вытекающие напрямую
из ее базовых свойств.
Непонятно, почему камень в значении 'бездушный человек' (Вы,
сударь, камень!) относится к первому значению, а камень на душе выделяется в отдельное значение: в обоих случаях речь идет о концептуальных метафорах в смысле Лакоффа-Джонсона (душа, превратившаяся в камень, и душа, на которой лежит камень, – это вполне соотносимые явления). Вопросы подобного рода можно множить, но они
связаны с более фундаментальным вопросом о системе значений как
целостной структуре, поднятым в предыдущей главе.
Еще одной важной проблемой, не затронутой в предыдущей главе,
является вопрос об эволюции этой структуры со временем. Интуитивно можно предположить, что для таких слов как камень, отражающих устойчивые социокультурные практики, система значений также
должна сохранять свою устойчивость, однако, как мы увидим, определенные (и весьма показательные трансформации) все же удается
зафиксировать.
В качестве первого шага для диахронного анализа обратимся к
Словарю русского языка XI–XVII вв. (СРЯ–XVII) и Словарю русского
языка XVIII в. (СРЯ–XVIII).
В СРЯ–XVII выделяются следующие значения: 1. 'отдельный кусок
твердой горной породы'; 2. 'различные виды твердых горных пород';
3. 'драгоценный камень'; 4. 'скала, утес, гора'; 5. '(перен.) надежная
опора, основание; твердыня'; 6. 'каменная тюрьма'; 7. 'гроб, гробница';
8. 'надгробие'; 9. 'жернов'; 10. 'твердое отложение солей во внутренних
органах'; 11. 'весовая единица'. Отдельно фиксируются конструкции
камень краеугольный; не оставити камень на камени и каменеем кинути
в значении 'близко, рядом'.
В СРЯ–XVIII количество базовых значений сокращается: 1. 'твердая
горная порода' с выделением значения 'как символ надежной опоры,
твердости, незыблемости' и конструкций на камени основать, положить
основание; камень веры, православия, а также 'как символ неуступчивости, бесчувственности'; 2. 'отдельный кусок такой породы' с выделением конструкций камнем, как камень упасть, пойти ко дну; обратить,
превратиться в камень; Сизифов камень; камень на сердце1; сюда же относятся авторами и драгоценные камни; 3. 'изделие, орудие из камня,
камень определенного назначения' с отдельным значением 'могильная
плита; надгробный памятник' и выделением фраземы краеугольный
камень; 4. 'твердое образование различного происхождения и состава',
в частности, 'во внутренних органах человека и животных'; отдельно
выносятся такие конструкции как камень преткновения; камня на камне не останется; держать камень за пазухою; навязать себе камень на
шею и т. д.
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
253
Проведенный обзор показывает как общность семантического
материала, из которого исходят авторы статей2, так и существенные
различия в способах систематизации этого материала. Тем не менее,
несмотря на все различия, авторов объединяет объективистский подход к значению: они, осознанно или неосознанно, исходят из представления о мире как объективной реальности, «которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них» (Ленин
ПСС, т. 18, с. 131). Объективацией такого «копирования, фотографирования, отображения» не зависимой от человека реальности становится язык. Изложенная позиция является проявлением изоляционистских представлений о языке, проанализированных в предыдущих
главах. В интерпретации семантического материала авторами статей
не находится места взаимодействующему с камнем человеку. Определение камня как «всякой твердой горной породы в виде сплошной
массы или отдельных кусков» не зависит от присутствия людей, оно
останется таким же в гипотетической ситуации полного исчезновения
человеческого рода. Однако даже приводимые авторами примеры показывают, что камень выступает в них не как «всякая твердая горная
порода», а как объект, наделенный различными социокультурными
смыслами.
Так в предложении Переулок вымощен булыжным камнем, по которому трудно ходить камни представляет собой поверхность, по которой
перемещается человек; при этом отмечаются свойства поверхности,
важные для человека (трудно ходить); в предложении Мартышка тут
с досады и печали О камень так хватила их [очки], Что только брызги
засверкали камень оказывается объектом, столкновение с которым
имеет разрушительные последствия для другого, опять же, замечу, не
природного, а культурного объекта; в предложении Увы, ни камни
ожерелья, Ни сарафан, ни перлов ряд, Ни песни лести и веселья Ее души
не веселят камень несет эстетическую и ценностную функцию, оказываясь включенным в сложную сеть социокультурных моделей (знаковая
функция одежды и украшений, маркирующих принадлежность к
определенному сословию, определенному полу, подчеркивание собственной индивидуальности на воспринимаемом обычно бессознательно нормативном фоне и т. д.).
Концептуальные метафоры также опираются на определенные
свойства камней, перенесенные в эментальное или социокультурное
пространства: так, камень преткновения отражает способность камня
быть препятствием при физическом движении, камень на душе – способность камня давить на поверхность под действием силы тяжести,
Вы, сударь, камень – твердость, способность сохранять свою форму
неизменной при внешних воздействиях и т. д.
�254
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Другими словами, камень существует и отражается в языке не как
объект природы, а как объект культуры, предоставляющий человеку
широкий ряд различных возможностей, получающих, в свою очередь,
метафорическое расширение в пучке концептуальных метафор. В
дальнейшем анализе будет показано, как эта установка реализуется на
конкретном материале, задавая теоретическую рамку для структурирования концептуального пространства комплекса.
Как уже отмечалось, для введения в анализ диахронной составляющей мы будем работать в дальнейшем с двумя корпусами текстов,
репрезентирующих русский литературный язык XI–XVI вв. и современный русский язык.
13.2. Концептуальная структура комплекса «камень» в русском
литературном языке X–XVI вв.
Для анализа русского литературного языка XI–XVI вв. будут использованы I−XIV гг. Библиотеки литературы Древней Руси (БЛДР). Лексемы, входящие в лексическое гнездо комплекса камень (камень,
камы(к), каменный, окаменелый, окаменети) встречаются в корпусе
686 раз. В отличие от комплекса открывать, вырастающего из одного
концептуального ядра, в данном случае можно выделить несколько
структурообразующих ядер.
1. Первое из таких ядер задается концептуальным кластером, характеризующим м а т е р и а л , из которого сделан тот или иной объект.
Этот кластер оказывается наиболее частотным (282 случая, 41,1% от
общего числа употреблений; 77 текстов, 53,2% от общего числа текстов). В основном, обращение к данному кластеру осуществляется с
помощью прилагательного камен(н)ый, но иногда используются и
формы ис каменя, камением и др. Камень как материал может относиться к широкому классу объектов. Наиболее часто так характеризуется церковь (84 случая), но встречаются также стена, гроб, город,
столп, ограда, мост, погреб, плита, келья, крест, чаша и др.: Того же
лета3 на монастырьском дворе на Троецкомъ Сергиева манастыря поставлена бысть церковь камена святое Богоявление, да того же лета
перед княжим двором Васильевича, в Боровитьских воротех, заложили
церковь камену святаго Иоана Предтечи (Севернорусский летописный
свод 1472 года; БЛДР, VII, 334); А монастырь стоит промежь дву гор, а
келей в немъ 300, все каменные, и ограда каменная, а на вратех градных
две пушьки лежат. (Хождение на Восток Василия Познякова с товарищи; БЛДР, X, 62).
Анализируя структуру данного кластера, отметим, что комплекс
камень выступает в нем как характеристика объектов, входящих в
жизненное пространство человека и подчеркивающих его социальную
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
255
природу (городские стены, публичные здания, храмы) или особый
социальный статус (гроб, крест, чаша и т. д.). При этом в различных
строениях используются различные свойства камня как материала:
прежде всего, прочность, сохранность в течение длительного времени, неподверженность огню, но также и твердость, способность не
изменяться под внешними воздействиями, не деформироваться и
раскалываться от удара, способность сохранять температурный режим
(погреб) и др. Другими словами, камень функционирует в данном
контексте как важнейший элемент социокультурной среды, окружающей человека, и его свойства, на которые обращает внимание
язык, непосредственно связаны с особенностями организации этой
среды.
Эти свойства определяют и связанные с первым кластером концептуальные метафоры: не оставлю камня на камне как символ полного
уничтожения социальной инфраструктуры, опустошения социального
пространства (Семенови же приехавшу ко Юрьеви и поведающи речь отню,
и бысть назавьтрее поеха Юрьи вон из города с великим соромом, пограбив все домы стрыя своего, и не остася камень на камени в Берестьи и в
Каменци и в Бельскии; (Галицко-Волынская летопись; БЛДР, V, 352));
каменное сердце как символ твердости, безжизненности, способности
не изменяться под любыми внешними воздействиями (Преступник же
то слыша, и жесткое и каменное свое сердце во умилении положи, и нача
великим гласом жалостно плакати и рыдати (Повесть о Тимофее Владимирском; БЛДР, IX, 108)).
2. Следующим по частотности кластером является д р а г о ц е н н о с т ь (117 случаев, 16,9%; 55 текстов, 38,2%). Наиболее устойчивая
конструкция здесь – камение дорогое (драгое), (И розда убогым имение
свое: все золото и серебро и камение дорогое, и поясы золотыи отца своего и серебряные, и свое, иже бяше по отци своемь стяжал, все розда.
(Галицко-Волынская летопись; БЛДР, V, 338)); но встречаются и камение многоценное, а также просто камение (Се застал татя, крадуща
каменье его, и, оному запирающуся и глаголющю, яко: «Не ведая, твоя
суща, украдох»— и рече: «Аще не ведал еси, яко – не твоя суть?» (Пчела;
БЛДР, V, 432)).
Здесь мы имеем дело с существенно иной по сравнению с первым
кластером группой культурных смыслов. В первом кластере доминировала утилитарная функция обеспечения жизнедеятельности, которая
могла дополняться сакральной функцией (например, в случае храма),
но сохраняла свое значение и в этом контексте. Здесь символическая
функция камня становится определяющей; как уже отмечалось, камень
здесь превращается в знак социального статуса, позиции в социальной
иерархии, неутилитарной ценности. Основными характеристиками
группы камней, востребованной в данном случае, оказываются их
�256
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
способность необычно отражать свет, создавая яркую цветовую гамму,
и сложность их добывания и обработки. Эти особенности порождают
целый ряд культурных практик, важных для культур древности и
средневековья: магическое использование драгоценных камней в медицине, символическое толкование свойств этих камней, выявление
их связи с определенными душевными качествами или идеальными
состояниями.
Указанные характеристики подчеркиваются и типичными для
данного кластера метафорами и сравнениями: Аще дарует Бог жену
добру, дражайши есть камени многоценнаго, таковая от добры корысти
не лишится, делает мужу своему все благожитие (Домострой; БЛДР,
X, 137); Аз же мня: лице великого князя Бориса Александровича, светящеся паче камени сапфира и темпазиа. И кождо нас на него зряще и
всякого веселиа исполнитися (Инока Фомы слово похвальное; БЛДР,
VII, 74)4.
3. Третий концептуальный кластер можно обозначить как о р у д и е
разрушения, убийства, нанесения повреждений
(79 случаев, 11,5%; 36 текстов, 25,0%). Этот кластер характерен для
двух контекстов. Первый из них – осада города во время войны, где
камни используют и нападающие (для того, чтобы разрушить стены и
нанести повреждения защитникам), и обороняющиеся (для того, чтобы нанести урон наступающим войскам): Государевы же бояре и воиводы и все воинские люди и псковичи такоже противу их крепко и мужественно противу их стояху: овии под стеною с копьи стояху, стрельцы
же ис пищалей по них стреляху, дети же боярские из луков стреляху, овии
на них камение метаху, овии же всяческии о избавлении града Пскова
образы показующе (Повесть о прихождении Стефана Батория на град
Псков; БЛДР, XIII, 572); Уесписиан же постави окрестъ града стенобиичныя съсуды; бяше ихъ 60, и трекапный камень метаху порочами, и сулици из лукъ пущаемы шумяху, и стрелы помрачиша свет (Из «Истории
Иудейской войны» Иосифа Флавия; БЛДР, II, 257).
Второй – общественное осуждение или казнь: Сего же котопана
побиша камением людье корсуньстии (Повесть временных лет; БЛДР, I,
206); Изииде же с ним един Судислав, на ньм же метаху камение, рекуще:
«Изииде из града, мятежниче земли!» (Галицко-Волынская летопись;
БЛДР, V, 236).
В ряде случаев камень описывается просто как орудие убийства (И
яко изидоша, въста Каинъ и хотяше убити`и, не умеяше убити`и. И рече
ему сотона: «Возми камень и удари`и». И уби Авеля (Повесть временных
лет; БЛДР, I, 136); О царю Христе, терпениа твоего ради! – и сие же,
паче их, сих реченных, младенец незлобивыхъ от пазух матерей своих, и
смеющихся, и играющих, и руце свои, яко отцем своим, любезно им подающе, – тех окаяннии кровопийцы за гортани похитивше, задавляху и,
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
257
за ноги емлюще, о камень и о стену разбиваху, и, на копиях прободающе,
поднимаху (Казанская история; БЛДР, Х, 316)).
В данном кластере ключевым оказывается свойство камней наносить другим объектам повреждения, которые могут оказаться критическими для их существования. Это подчеркивается и метафорическими расширениями данного кластера: Сыну, аще друг твой възненавидит
тя, начнет кляти и камение метати, а ты и хлебом срящи, и оба приимета ответ в день Судный (Повесть об Акире Премудром; БЛДР, III, 32);
Родителие же наипаче словеса некаа тяжка съ гневом и яростию, аки
камение, испущаше на нь (Из Великих Миней Четьих митрополита
Макария; БЛДР, XII, 123).
4. Следующий концептуальный кластер связан с понятием опоры,
т. е. поверхности, которая дает возможность находиться в устойчивом
положении, не отклоняясь и не падая (47 случаев, 6,7%; 12 текстов,
8,3%): Предстояшет же ему некто красен и высок на твердем камени,
питая и вино черпля (Слова и поучения Кирилла Туровского; БЛДР,
IV, 172).
Это значение оказывается весьма продуктивным для концептуальных метафор: Стоит же на твердем нашея веры камени (Слова и поучения Кирилла Туровского; БЛДР, IV, 176); Разумейте, братиа, основание,
начало еа; и Отець свыше благословилъ росою, и столпом огненым, и облаком светлым; Сын меру даровал своего поаса, аще бо и древо бяше существом видимо, но Божиею силою одеано есть; Святый же Духь огнемь
невещественым яму ископа на въдружение корениа, и на сем камени
съгради Господь церковь сию, и врата адова не удолеют еи (КиевоПечерский патерик; БЛДР, IV, 176); Сии же умыслишя, от земля и чрева
своего вещающе, баснословное имя счастиа или фортуны, ея же и слепу
именуеть некый мудрец еллинскый именемъ Кевис. И на камени седящу
оболом и слепу убо наричет ея по своихъ прелестех, акы бесчинно, и безсловесно, и неравне подающу человеком имения же и саны властелныя; на
оболом же камени седящу ея являет, за еже дарованием ея не бывати
твръдым, но удобь препадающим и к иным преходящим (Сочинения Максима Грека, БЛДР, IX, 306–308). В данном кластере основным оказывается твердость камня, его способность выдерживать большую нагрузку сверху, не деформируясь и не меняя своего положения, а также
его устойчивость.
5. Близким к описанному кластеру оказывается концептуальный
кластер, характеризующий п о в е р х н о с т ь , п о к о т о р о й м о ж н о п е р е м е щ а т ь с я и л и с т о я т ь б е з д в и ж е н и я (34 случая,
4,9%; 19 текстов, 13,2%). Акцент здесь делается на удобстве или неудобстве перемещения или других свойствах поверхности, не связанных с
ее твердостью или устойчивостью. В примерах, относящихся к данному кластеру, человек не ищет специальной точки опоры, но восприни-
�258
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
мает поверхность, на которой он находится или перемещается, как
данность: Есть гора та вся камена, лести же на ню трудно и бедно
велми по камению, луками на ню лести. Путь тяжек велми; едва бо на
ню възлезохом: от 3-го часа до 9-го часа, борзо идуще, едва взидохом на
самый врьх горы тоя святыа (Хождение игумена Даниила; БЛДР, IV,
99); И на заутренюю ходя преже всихъ, и стояше крепко и неподвижно.
Егда же приспеяше зима и мрази лютии, и сьтояше вь прабошнях, вь
черевьих и вь протоптаных, яко примерьзняше нози его к камени, и не
двигняше ногами, дондеже отпояху заутренюю (Повесть временных
лет; БЛДР, I, 232).
Концептуальные метафоры и сравнения подчеркивают в данном
случае свойства поверхности: А князь скуп – аки река въ брезех, а брези
камены: Нелзи пити, ни коня напоити. (Слово Даниила Заточника;
БЛДР, IV, 276).
6. Следующую концептуальную группу можно обозначить как п р е п я т с т в и е п р и д в и ж е н и и (18 случаев, 2,6%; 12 текстов, 8,3%):
Вертим же около Андреи, и стрясеся, запя ему ногою. И летящю таковому демону, улучися лбу его на камени и абие нача въпити (Житие Андрея
Юродивого; БЛДР, II, 334). Это качество проявляется и в сравнениях:
Многашьды же сего блаженаго князи и епископи хотеша того искусити,
осиляюще словесы, н не възмогоша и акы о камыкъ бо приразивъшеся отскакаху, огражен бо бе верою и надежею, еже к Господу нашему Иисусу
Христу, и в себе жилище Святааго Духа сьтвори (Житие Феодосия Печерского; БЛДР, I, 426).
7. Базовую функцию камня в следующем кластере можно обозначить как с а к р а л ь н ы й о б ъ е к т (17 случаев, 2,5%; 9 текстов, 6,3%).
Этот кластер распадается на два подкластера: святыня, христианский
символ (9 случаев, 1,3%; 4 текста, 2,8%) и оберег, объект, обладающий
магической силой (8 случаев, 1,2%; 5 текстов, 3,5%): И есть ту камень
великь у моря близь, к стоку лиць, от града вдалее дострела; и на том
камени стоял Христос, и ту учил народы (Хождение игумена Даниила;
IV, 94); По сем некий перстень даст ему, в немъже сицевыя силы камень
бе вложен, да яко всякий яд расторгает, их шъкоты отревает, и егоже
яда неистовство уязвитъ нѣчто, аки от воды уязвеннаго невредимо
своею силою спасет. И бе в том же камени иная сила – да аще кто сей
камень заключен носит в горсти, да яко тот камень носящаго к телу
добръ прилепится, невидим скоро будетъ, да егда носит в горсти, никому
видится (Из «Троянской истории»; VIII, 184).
8. Еще один концептуальный кластер может быть охарактеризован
как с р е д а о б и т а н и я , т. е. пространство, окружающее человека и
влияющее на его жизнь в целом (14 случаев, 2,0%; 4 текста, 2,8%): И
есть на полудне лиц от Вифлеема манастырь святого Харитона, на той
же реце Афамьстей; и есть близь моря Содомьскаго в горах каменых, и
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
259
пустыни около его. Гроздно и безводно есть место то, и сухо. Есть под
ним дебрь камена и страшна зело (Хождение игумена Даниила; БЛДР,
IV, 76).
9. В 10 случаях (1,4%) и 7 текстах (4,9%) камень представляет собой
п и т а т е л ь н о е в е щ е с т в о или и с т о ч н и к в л а г и , обретением
не свойственных ему характеристик иллюстрируя христианскую концепцию чуда (Ангели же Божии искупаху дети и повиваху, и вложаху въ
обе руце им два камени, да изъ единого ссаху масло, а из другаго медъ
(Житие пророка Моисея; БЛДР, III, 120), И пакы воду им ис камени
источи, и хлебы им с небесе дарова (Поучения и молитва Феодосия
Печерского; БЛДР, I, 436)).
10. В одном философском тексте камень характеризует с у щ н о с т ь ,
р о д т е л (8 случаев, 1,2%): И конь бо и пьс животи суть; такожде же
и всякъ живот суштие есть, н не все суштие живот есть: и камык бо и
древо суштие есть, яже не суть животи (Из Изборника 1073 года; БЛДР,
II, 158).
11. В 5 случаях (0,7%) и 4 текстах (2,8%) камень имеет значение
о р и е н т и р а : Посреде же келей тех к западу лиць, ту пещера дивна под
скалою каменою, и в той пещере церкви святыя Богородица (Хождение
игумена Даниила; БЛДР, IV, 60).
12. Также в 5 случаях (0,7%) и 3 текстах (2,1%) камень выступает
как с р е д с т в о и з м е р е н и я р а с с т о я н и й : И ту есть место близь
пещеры тоя, яко довержет человек каменем малым, и есть к полуденью
лиць место то, идеже помолися Христос Отцу своему в нощи (Хождение
игумена Даниила; БЛДР, IV, 48).
13. В 4 случаях (0,6%) и 4 текстах (2,8%) камень выступает как м а териал, на котором пишут; поверхность для письм а : И бысть на конець 9-го лета разболеся Киканосъ, цьсарь срачиньский,
и умре Киканосъ въ день 7-й. И умазаша раби его и погребоша и2 предъ
враты градъными. И створиша над ним полату красну и высоку велми, и
написаша на камени вся его войны и все его храборьство (Житие пророка
Моисея; БЛДР, III, 126).
14. В 4 случаях (0,6%) и 3 текстах (2,1%) деятельность по дроблению,
переноске и поднятию камней характеризует тяжелую работу: Сыну,
железо и камень подъях, и легчи ми ся мнить, нежели мужеви, ведущему
закон, тязатися со ближним своим (Повесть об Акире Премудром;
БЛДР, III, 34).
Также в двух случаях камень имеет значение знака, требующего
интерпретации и адекватного понимания (Василко же, ида под город,
и взя собе в руку камения. Пришедше подъ город, и нача молвити горожаном, а татарове слышать, послании с ним: «Костянтине холопе, и ты,
другий холопе Лука Иванковичю, се город брата моего и мой, передайтеся!» Молвив, да камень вержет долов, дая им розум хитростью, а быша
�260
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
ся биле, а не передавалися. Си же слова молвив и по троичи, меча каменьем
долов. Сь же великий князь Василко, акы от Бога послан бы на помоць
горожаном, пода им хытростью разум (Галицко-Волынская летопись;
БЛДР, V, 290)); в одном случае получает неожиданное значение одежды (Помышляющи бо токмо, от толика зла избави мя Господь, пищу
неизедаемую имам, упование спасения моего, питаюся и покрываюся глаголомь Божиимь, съдръжащим всячьскаа, “не о хлебе бо едином жив будеть
человек”, “зане не имяху покрова, то камением ся облекоша” елико их
съвлечеся греховныа ризы» (Житие Марии Египетской; БЛДР, II, 204)),
в одном случае обозначает объект, упавший с неба, в одном – тяжелый
предмет для аскезы, в одном – предмет для извлечения огня, в одном –
объект, помогающий хранить молчание (Подобаеть беспрестани умом
възбраняти языку и въздержати струя его, да не будемъ безумнѣише гусии.
Ти бо, егда прилетять от Киликия и к Таурмении, ведуще, яко исъполнена места та суть орлии, емлють в уста каменье, яко замок гласу, и нощь
прелетять (Житие Марии Египетской; БЛДР, V, 438)), в одном – груз,
используемый для соления огурцов, в одном – болезнь, твердое образование в почках.
Наряду с описанными узусами, в которые камень включается как
объект, существует ряд метафор и сравнений, имеющих в своей основе определенные свойства камня.
Самое частотное из таких свойств – неодушевленность, бесчувственность камня, использующаяся для описания бездушного, не сопереживающего происходящему человека (16 случаев (2,3%); 12 текстов
(8,3%)). Эта модель возникает в двух ситуациях: когда подчеркивается
запредельная степень несчастий и бед, обрушивающихся на героев (Аще
бо кто окаменено сердце имат, но тогда можеть прослезити (Хождение
игумена Даниила; БЛДР, IV, 110)) и когда просто делается акцент на
бесчувственности описываемого персонажа (А израилтян умножилося
и загордели, и Бога забыли, и погинули в неволю, и в разсеянии бысть, и
царства волнаго несть им. И не познали Сына Божия Христа, Царя небеснаго, и сердце их окаменело з гордости (Сочинения Ивана Семеновича Пересветова; БЛДР, IX, 448)).
Второй метафорический кластер связан с твердостью камня, подчеркивающей душевную твердость и стойкость (8 случаев (1,2%),
7 текстов (4,9%)): Того бо ради и терпяше от них по вся дни, зило стража, аки твердый каменъ, утверженый верою в толицых подвизех и искушениих и бедах, моляся Богу, молитвою и постом, алча и жажа,
жадая спасениа пермьскаго, многи досады от них приимая и за то не
гневаяся на ня о всех сих приключьшихся ему (Из Великих Миней Четьих
митрополита Макария; БЛДР, XII, 172). Еще одна метафорическая
модель в рамках этого кластера модель описывает разрушения камня
благодаря планомерному воздействию даже небольшой силы: И всег-
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
261
дашняя капля дождевная и жестокий камень пробивает вскоре, а лщение женское снедает премудрыя человеки (Казанская история; БЛДР,
X, 280).
В четырех случаях (0,6%) и четырех текстах (2,8%) неспособность
камней самостоятельно издавать звуки, их «бессловесность» используется для описания экстраординарности ситуации, ее несоответствия
ожиданиям, принятым нормам и ценностям: То что створю, не вемъ,
убогый! Аще бо умолчю вашего ради роптаниа, угождаа вамъ вашеа ради
слабости, то камение възъпиеть (Поучения и молитва Феодосия Печерского; БЛДР, I, 434).
В двух случаях подчеркивается большая плотность камня, ведущая
к его свойству тонуть в воде Коли пожреть синиця орла, коли камение
въсплавлет по воде, и коли иметь свиниа на белку лаяти, – тогды безумный уму научится (Слово Даниила Заточника; БЛДР, IV, 278)) и разрушать своей тяжестью непрочные опоры.
Сразу надо отметить, что приведенные данные не охватывают всей
картины. В частности, в приведенном массиве не встречается целый
ряд малочастотных слов, приводимых в СРЯ–XVII: например, каменистый; каменитый (страшный, жестокий); каменица (груда камней,
каменная гряда) и др. Тем не менее, мы получаем довольно репрезентативную выборку, представленную широким спектром текстов различного типа. Нельзя сказать, что приведенные тексты адекватно
отражают историческую и социальную реальность Древней Руси
XI–XVI вв., но они вполне адекватно отражают культурную реальность, базовые вектора культурного пространства. В этих текстах
имеется значительное число прямых и косвенных цитат из Библии,
библейских сюжетов, описание путешествий в далекие страны; среди
них можно встретить сказки, сборники моральных наставлений, летописи и т. д. Важно отметить, однако, что, несмотря на свое разнообразие и пестроту, эти тексты сосуществовали и дополняли друг друга
в сознании древнерусских книжников, образуя питающую их культурную среду.
Какие же выводы можно сделать, обращаясь к приведенному массиву? Прежде всего, бросается в глаза, что камень почти никогда не
выступает в качестве «всякой твердой горной породы в виде сплошной
массы или отдельных кусков», как определяет его БАСРЯ. Он оказывается материалом, драгоценностью, орудием убийства, опорой и т. д.
Другими словами, он представлен в упомянутых текстах не как объект
п р и р о д ы , а как объект к у л ь т у р ы . Его нельзя рассматривать как
существующую независимо от человека реальность, предполагающую
отстраненное исследование путем наблюдения и эксперимента; он
оказывается вовлеченным в значительное число разнообразных социокультурных практик, благодаря своим свойствам предоставляя
�262
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
человеку в рамках этих практик широкий спектр различных возможностей. Именно эту с о ц и о к у л ь т у р н у ю реальность и фиксирует
язык.
Прежде чем перейти к дальнейшему анализу приведенного массива,
в заданном контексте уместно вспомнить методологически важные
рассуждения А.Ф. Лосева из «Диалектики мифа». Обсуждая объективность и субъективность представлений о цветах, он сопоставляет физический взгляд на цвет как волну, длина которой располагается в
определенном диапазоне, с мировоззрением, которое он называет
мифологическим, но которое, если отвлечься от специфики понимания
Лосевым мифа, связано с психологическими и социокультурными
особенностями человеческого восприятия. Автор подчеркивает, что
это восприятие для него «гораздо более объективно, чем какие-то там
волны неизвестно чего, о которых я с гимназических лет успел забыть
все, что ни вбивали в меня старательные физики. Физику я забыл, а
красный флаг от белого всегда буду отличать, – не беспокойтесь» (Лосев 1994 (1930), с. 51). Позднее он иллюстрирует свою позицию радикальным высказыванием В.В. Розанова, сопоставляющего взгляд на
солнце как на каменную глыбу, притягивающую землю по закону обратных квадратов, с мифологией солнца. Розанов находит научный
взгляд на солнце «глупым» и утверждает, что с «этого глупого ответа
Коперника на нравственный вопрос о планете и солнце началась пошлость планеты и опустошение небес» (там же, с. 146).
Если оставить в стороне далекий от беспристрастности лосевскорозановский пафос, то за приведенными рассуждениями можно увидеть одну весьма важную для гуманитарной науки в целом и лингвистики в частности идею. Наряду с тем, что солнце притягивает землю
по закону обратных квадратов, оно обладает еще массой иных, не
менее объективных свойств: обеспечивает жизнь на земле, является
персонажем громадного числа солярных мифов, поэтических произведений и т. д. Иными словами, оно является для человека не объектом
природы, а объектом культуры, и, более того, природная составляющая
возникает в рамках вполне определенного культурного контекста (физической и биологической науки как определенных культурных институтов). Эта культурная основа нашего восприятия солнца находит
непосредственное отражение в повседневном языке, проявляясь в
громадном количестве выражений, среди которых образ солнца как
физического тела находится на глубокой периферии.
Приведенные рассуждения непосредственно применимы и к осуществленному здесь анализу. Как уже отмечалось, камень в корпусе
БЛДР выступает как объект культуры, вовлеченный в различные социокультурные практики. Одной из определяющих практик в указанный период было строительство, и камень воспринимался как мате-
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
263
риал для строительства в ряду других материалов (в основном, дерево
и глина). Основными свойствами камня, важными для данного контекста, стали твердость, прочность, огнеупорность – и одновременно
сложность добывания и транспортировки. Отметим, что, наряду с
утилитарной, камень в данном кластере значений нес в ряде случаев и
эстетическую функцию, что также подчеркивалось в текстах: Есть в
граде том цръковь камена святый Марко Еуангелист, и столпы в ней
морованы, имущи мрамор всяк цветом; а иконы в ней чюдны, гречин писал
мусиею, и до верху видети велми чюдно; а внутри резаны святые на мраморе велми хитро; а сама велика церковь (Хождение на Флорентийский
собор; БЛДР, VI, 482).
Второе по частотности значение отсылает нас к принципиально
иному типу как объектов, так и социокультурных практик, в которые
они включены. Мы уже упоминали, что в данном кластере утилитарная
функция отсутствует, и камень оказывается включенным в сложную
систему символических смысловых рядов. И размер камней, и их
свойства радикально отличаются от размеров и свойств в первом кластере. Кардинально иным становится теперь и изофункциональный
ряд: Иже недоконьчаная твоя наконьча, акы Соломон Давыдова, иже дом
Божии великыи святыи его Премудрости създа на святость и освящение
граду твоему, юже с всякою красотою украси: златом и сребром, и камениемь драгыим, и съсуды честныими (Слово о законе и благодати митрополита Киевского Иллариона; БЛДР, I, 50).
Третье значение характеризует новый кластер социальных ситуаций. Размеры камней в этом кластере занимают промежуточное положение между кластерами, рассмотренными выше. Здесь, как и в
первом кластере, важна твердость камня, но используется это свойство для принципиально иных целей: разрушать другие объекты,
наносить им повреждения. Изофункциональный ряд тоже не имеет
пересечений с двумя предыдущими: палица, стрела, сулица, копье,
головня, ядро и т. д.
Приведенный ряд можно продолжать, однако и сделанного описания достаточно для изложения основной идеи: в отличие от комплекса открыть мы имеем в данном случае несколько независимых ядер,
каждое из которых порождает свой ряд подкластеров, связанных с
концептуальными метафорами. Помня об этом, обратимся к анализу
дальнейшей концептуальной эволюции комплекса.
В XVII в. не происходит каких-либо трансформаций описанной
картины. Определенные изменения фиксируются в XVIII в. и затем
становятся более заметными в XIX и XX вв. При этом в общих чертах описанная для XI–XVI вв. структура сохраняется и в современном языке. Направление трансформаций при переходе от XVI к
XVIII в. можно выявить, сопоставляя СРЯ-XVII и СРЯ-XVIII. Вид-
�264
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
но, что ряд лексем (например, каменица в значении груда камней)
исчезает, и появляются новые лексемы, связанные, в первую очередь, с развитием научного знания: адский камень, рысий камень,
окаменелость и др. Другими словами, основным фактором, вызвавшим трансформации комплекса, являются социокультурные изменения, ведущие к возникновению новых социокультурных моделей
и отмиранию старых. Язык реагирует на эти процессы лексическими и семантическими трансформациями. Не анализируя всего процесса в деталях, перейдем к описанию его итога, т. е. структуры
комплекса камень в современном русском языке на материале
НКРЯ.
13.3. Концептуальная структура комплекса «камень»
в современном русском языке
Основу для данного раздела составили все случаи употребления базовых лексем, составляющих комплекс камень (камень, каменный,
каменистый, каменеть (сов. окаменеть), окаменевать, окаменелый,
камешек, каменюга) в НКРЯ за 2009–2012 гг. Массив, представляющий
основной корпус НКРЯ, объединяет тексты различного рода (художественная литература, публицистика, научные статьи, посты и
комментарии на различных сайтах и др.), представляя собой репрезентативную для наших целей модель современного русского языка,
что позволяет сравнивать его с рассмотренным выше массивом текстов БЛДР.
Перейдем к непосредственному анализу. В выделенном массиве
лексемы, соответствующие комплексу камень, встречаются 593 раза в
215 текстах, причем основную группу (481 случай, 81,1% от общего
числа употреблений) составляют лексемы камень и каменный.
Полученное распределение в целом соответствует картине, описанной выше для древнерусского языка. Наиболее частотным оказывается значение а) м а т е р и а л а , из которого сделаны различные объекты ( 251 случай (42,3%); 112 текстов (52,1%)). За ним идут б) п о в е р х н о с т ь , по которой может перемещаться или находиться без
движения объект – 70 случаев (11,8%); 43 текста (19,5%); в) о р у д и е
р а з р у ш е н и я , у б и й с т в а , н а н е с е н и я п о в р е ж д е н и й – 63
случая (10,6%), 44 текста (20,5%); г) д р а г о ц е н н о с т ь – 23 случая
(3,9%), 18 текстов (8,4%); д) п р е п я т с т в и е п р и д в и ж е н и и –
17 случаев (2,9%), 14 текстов (6,5%); e) c р е д а о б и т а н и я – 14 случаев (2,4%), 10 текстов (4,7%); ж) с а к р а л ь н ы й о б ъ е к т – 7 случаев (1,2%), 7 текстов (3,3%); з) и н о р о д н ы й о б ъ е к т в т е л е
и л и о б р а з о в а н и е н а т е л е – 7 случаев (1,2%), 6 текстов (2,9%).
Все остальные контексты дают меньше 1%.
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
265
Если обратить внимание на характеристики камня, которые становятся основой для концептуальных метафор, то картина получается следующей. Наиболее частотной характеристикой оказывается способность
камня сохранять форму при движении, отсутствие в нем деформаций,
видимых поверхностных изменений, т. е. свойство, характеризующее понятие абсолютно твердого тела в физике (22 случая (3,7%); 16 текстов
(7,4%)). Это качество выражается в таких метафорах и сравнениях как
падать как камень, камнем; в отдельных контекстах – окаменеть (В ту
ночь, падая камнем вниз с огромной высоты без парашюта, дельтаплана или
каких других приспособлений, я наконец заинтересовалась, правы ли все эти
индейцы племени яки и прочие приверженцы прикладной эзотерики, что если,
падая во сне, ты долетишь до конца, так ты действительно долетишь до
конца? (Т. Соломатина. Акушер-ХА!; Байки); Открой она глаза, мне придется окаменеть, положившись на неспособность некоторых хищников обнаружить неподвижный объект (М. Петросян. Дом в котором…)).
Следующей по частотности характеристикой является неодушевленность, бесчувственность камня (11 случаев (1,9%); 6 текстов (2,7%)),
выражаемая обычно лексемой окаменеть, но в отличных от предыдущего кластера контекстах: Окаменевшая от горя мама плачет, отец
пытается успокоить ее (Р.Б. Ахмедов. Промельки).
Еще одной продуктивной для метафорических расширений характеристикой оказывается твердость камня, понимаемая уже в физическом смысле как неспособность к деформациям (10 случаев (1,7%);
7 текстов (3,3%)): Достаю из ящика тряпки и окаменевшие кеды – одну
никчемную вещь за другой (М. Петросян. Дом в котором…); Проявитель
и фиксаж чудом сохранились в сельских магазинах соседних деревень, но
из-за долгого хранения в сырых помещениях давно превратились в камень
(М.И. Саитов. Островки).
Последняя характеристика, которую следует отметить в данном контексте, – тяжесть камня, т. е., другими словами, большая плотность,
приводящая к тому, что даже камни небольших размеров имеют большую
массу (5 случаев (0,8%); 5 текстов (2,3%)): Убитые лежали в яме в три
тяжелых слоя, и Соня очутилась между, придавленная трупом принявшего
двойной удар отца, и Клим уже тянул ее, живую или мертвую, разбитую,
тяжелую, как камень, и легкую, как стрекозиное крыло, всю черную и
липко-мокрую, будто младенец в материнской смазке (С. Самсонов. Одиннадцать).
Сравнительные результаты приведены в табл. 4 и 5, где столбец
Случаи употребления показывает процент числа употреблений данного
кластера по отношению к общему числу употреблений, а столбец Тексты – процент текстов, в которых встречается данный кластер по
отношению к общему числу текстов, содержащих любую из лексем,
входящих в лексическое гнездо камень.
�266
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Таблица 4. Частотность семантических кластеров, составляющих
комплекс «камень», в русском языке XI–XVI вв. и в современном русском языке
Язык XI – XVI вв.
Концептуальный
кластер
Современный язык
Случаи
употребления
(%)
Тексты
(%)
Случаи
употребления
(%)
Тексты
(%)
Материал
41,1
53,2
42,3
52,1
Драгоценность
17,1
38,2
3,8
8,4
Орудие разрушения,
убийства, нанесения
повреждений
11,5
25,0
10,6
20,5
Опора
6,9
8,3
0,8
1,8
Поверхность
5,0
13,2
11,8
20,0
Препятствие
2,6
8,3
2,8
6,4
Сакральный объект
2,5
6,3
1,2
3,2
Среда обитания
2,0
4,5
2,4
4,7
Питающий источник
1,5
4,9
-
-
Камень как род тел
1,2
0,7
0,2
0,5
Твердое образование
на теле и во внутренних органах
0,1
0,7
1,2
2,8
Таблица 5. Частотность метафорических расширений комплекса
«камень» в русском литературном языке XI–XVI вв. и в современном
русском языке
Концептуальный
кластер
Бесчувственность,
неодушевленность
Язык XI –
XVI вв.
Современный язык
Случаи
употребления
(%)
Тексты
(%)
Случаи
употребления
(%)
Тексты
(%)
2,3
8,3
1,9
2,7
Твердость
1,2
4,9
1,7
3,3
Бессловесность
0,6
2,8
-
-
Тяжесть
0,3
1,4
0,8
2,3
-
-
3,7
7,4
Неизменность
формы
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
267
Перейдем к обсуждению результатов. Конечно, приведенные в таблицах цифры нельзя воспринимать как точное количественное описание структуры комплекса, однако почву для определенных качественных оценок они дают. Прежде всего, отметим значительную корреляцию полученных массивов, показывающую, что концептуальная
структура комплекса камень характеризуется значительной устойчивостью. Тем не менее, проведенное исследование указывает на ряд важных изменений в этой структуре, допускающих обобщение и для
других комплексов и дающих возможность сформулировать требующие
дальнейшей проверки утверждения о связи языка и культуры.
1. Прежде всего, следует отметить резкий рост относительного веса
метафорических расширений в концептуальной структуре комплекса. В
корпусе БЛДР этот вес составляет 13,3%, в НКРЯ – 27,1%, т. е. возрастает более, чем в два раза. Заметно возрастает и качественное разнообразие метафор и сравнений. В корпусе БЛДР метафоры, в подавляющем
большинстве имеющие библейское происхождение, сводятся к следующим 16 устойчивым моделям: а) камень преткновения; б) побивать камнями, бросать, метать камни (Видев же той прежереченный многодушьный
губитель и злый разоритель Великаго государства крепкое и непреклонное
того столпа стояние за святую и непорочную веру и за все православное
християньство, отверзлъ свои человекоубиенныя уста, и начат, аки безумный пес, на аер зря, лаяти, и нелепыми славами, аки сущий буй камением,
на лице святителю метати, и великоимянитое святительство безчестити, и до рождьшия его неискусным и болезненым словом доходити (Новая
повесть о преславном Российском царстве; XIV, 166)); в) не оставить
камня на камне; г) окаменение сердца, человек с каменным сердцем,
сердце как камень (Аз же, окаянный, аще и пребывах у него в келии, но
железну душу имея и окамененно сердце, не вмещающее словес его, токмо
словом повеленное сотворях, а в сердъцы моемъ, яко во утле сосуде, не
удержавахуся повеления его (Житие архимандрита Троице-Сергиева монастыря Дионисия; XIV, 360)); д) камень веры, строить на камне, утвердить (утверждаться) на камне веры (заповедей господних) (И ныне, Человеколюбче, утверди мя на камени веры и неподвижна мя съхрани, яко к Тебе
взях душю мою! (Житие Зосимы и Савватия Соловецких; XIII, 65));
е) краеугольный камень; ж) камни возопят (И паки рече: «Аще вы умолчите
о благодеянии Божии, то камение возопиет» (Житие Кирилла Новозерского; XIII, 375); з) заставить камни плакать (И то слово изрекши, и
заразися от рук рабынь, поддержащих ю, о светличный мост и возопи великим гласом плачевным, подвизающе с собою на плач и то бездушное камение (Казанская история; X, 361)); и) безгласный, как камень (И быша,
аки камыцы, безгласни, друг на друга зряще, яко изумлени, и ничто же друг
ко другу своему провещати могуще, и долго лежащее (Казанская история;
X, 453)); к) стоять, как твердый камень, недвижимо, как камень (А князь
�268
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
же великий Борис Александрович акы жестокы камык стояше неподвижно в дому Святого Спаса и в своей отчине, в великом княжении Тферском
(Инока Фомы слово похвальное; VII, 111); л) валяться, как камни (Инем
же руце и нозе обсецаху и, яко бездушное камение, по земли валяющеся и по
мале часе умирающе (Казанская история; X, 317)); м) словно ударившись
о камень, как стрелы о камень (Многашьды же сего блаженаго князи и
епископи хотеша того искусити, осиляюще словесы, н не възмогоша и акы
о камык бо приразивъшеся отскакаху, огражен бо бе верою и надежею, еже
к Господу нашему Иисусу Христу, и в себе жилище Святааго Духа сьтвори
(Житие Феодосия Печерского; I, 426)); н) капля камень точит (И всегдашняя капля дождевная и жестокий камень пробивает вскоре, а лщение
женское снедаеть премудрыя человеки (Казанская история; X, 281));
о) камни распались (Ужаснуся небо и земля трепещеть, июдейска не тьрпяше дерзновения; солнце помьрче и камение распадеся, жидовьское окаменение являющее (Слова и поучения Кирилла Туровского; IV, 160)); п) семя,
брошенное на камень (Но ради привременныя славы, и самолюбия, и сладости мира сего все свое благочестие душевное со крестиянскою верою и з
законом попрал еси, уподобился еси семени, падающему на камени и возрастшему (Первое послание Ивана Грозного Курбскому; IV, 160)); р) дороже драгоценного камня (Аще дарует Бог жену добру, дражайши есть
камени многоцѣннаго, таковая от добры корысти не лишится, делает
мужу своему все благожитие (Домострой; Х, 143)).
В НКРЯ представлена гораздо более пестрая картина: а) камень
преткновения; б) бросать камень в кого-либо; в) нашла коса на камень;
г) пробный камень; д) подводные камни; е) время разбрасывать и собирать
камни; ж) )падать камнем, как камень; з) знать каждый камень; и) не
оставить камня на камне; к) как камень в воду; л) стать камнем, превратиться в камень; м) бросать камень в чей-то огород; н) тяжелый,
как камень; о) капля камень точит; п) держать камень за пазухой;
р) краеугольный камень; с) нести камень существования (нести тяжкий
камень совместного существования, ненавидя друг друга (Татьяна Соломатина. Большая собака, или «Эклектичная живописная вавилонская
повесть о закрытом»)); т) камень упал с души; у) разобрать по камешкам;
ф) каменный век; х) каменное лицо; ц) быть как за каменной стеной;
ч) каменные джунгли; ш) каменный мешок; щ) каменная летописссь (На
рубеже приблизительно 4 млрд. лет Земля вступила в новый – архейский –
этап эволюции, нашедший отражение в ее «каменной летописи» (В.Е. Ханин. О главных направлениях в современных науках о Земле)); э) окаменеть, каменеть, окаменевший; ю) сдвинуть камень с места (… ни один
камень экономического строя, враждебного пролетариату, не был сдвинут
с места представителями его революции (Александр Тихонов. Мать
беспорядка)). Другими словами, здесь мы имеем 27 конвенциональных метафор, опуская еще заметное число тех, которые нужно счи-
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
269
тать авторскими, что в 1,7 раза превосходит общее число таких метафор
в БЛДР.
Как можно проинтерпретировать этот результат? В статье Deignan
2003 автор анализирует частотность метафор, связанных с английской
лексемой horse, и показывает, что эта частотность возрастает в ХХ веке,
когда конь перестает использоваться как средство передвижения и рабочая сила. При этом основной объем метафор связывается именно с
данными социокультурными сегментами, а не со сферами развлечения
и спорта, в которые лошади включены и в настоящее время и которые
обеспечивают основной массив буквальных значений, связанных с современностью. С другой стороны, метафоры, порождаемые понятием
car, заметно превосходящем по частотности horse как средство передвижения в буквальном значении, значительно менее частотны, чем для
horse (Deignan 2003, p. 267–270). Вывод, к которому подводит исследовательница, состоит в том, что, по крайней мере, в определенных культурах в определенные периоды частотность метафорических употреблений, связанных с некоторым социальным сегментом, возрастает, когда
актуальность этого социального сегмента становится фактом истории.
Пока лошадь включена в повседневный процесс, ее деятельность не
становится предметом осознанного внимания; осознание, имеющее
своим следствием продуцирование концептуальных метафор, возникает, когда в культуре появляется возможность взгляда на процесс со
стороны, когда возникает ощущение дистанции.
Посмотрим, что дает проведенный выше анализ для подтверждения
или опровержения этой гипотезы. В XX – начале XXI века камень
перестает активно использоваться во многих областях, важных для
прошлого: он значительно менее востребован в строительстве, он почти не используется в военном деле, он становится все менее и менее
актуальным как поверхность, по которой мы перемещаемся, уступая
место другим материалам. В современной культуре камень связан с
опытом детства и развлечениями (бросать камни в воду, набивать карманы камнями необычной формы и т. д.). Единственная сфера, в которой культурное значение камней сохраняется, – изготовление и
продажа драгоценных камней, ювелирное дело. Интересно, что в этой
области, метафоры, связанные с камнями, в анализируемом массиве
НКРЯ, отсутствуют, и даже единственная метафора из корпуса БЛДР
(дороже камня драгоценного) не находит себе аналогов.
Тем не менее, картина в целом выглядит не столь однозначной. В
ней можно выделить несколько фрагментов. Во-первых, заметная часть
метафор сохраняется при заметном ослаблении или утрате библейского контекста, отчетливо осознаваемого авторами текстов в БЛДР. Например, не оставить камня на камне (Мк.13:2; Мф.24: 1–2). Во-вторых,
в концептуальной структуре появляются новые области (например,
�270
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
271
связанные с развитием науки), которые открывают путь для новых
метафор. Например, пробный камень берет свое значение от пробирного камня, с помощью которого осуществляются пробы благородных
металлов. Тем не менее, значительный концептуальный фрагмент
представляет собой метафорическое осмысление описанного выше
социального опыта, который перестает быть актуальным. Если учесть
сделанные уточнения, можно сказать, что наблюдения А. Дейнан подтверждаются на нашем материале.
2. Важным отличием современной картины от картины XI–XVI вв.
оказывается эстетическое восприятие камня. Более того, в отдельных
текстах камень персонифицируется, наделяется душой, обладает
определенным, недоступным для человека мировосприятием: Но
нам – людям – проще понять и принять смерть, чем постичь восприятие мира камнем, даже приблизительно (Т. Соломатина. Отойти в
сторону и посмотреть). Эти изменения отражают глобальные трансформации, имевшие место в русской культуре XVIII–XX вв., которые,
в свою очередь, отражали процессы, происходившие в западной
культуре Нового времени. Именно в этот период природа из элемента повседневного окружения становится объектом эстетического
переживания, наделенным душой и жизнью. Изначально такой образ
создается в ряде философских текстов, иллюстрируется образцами
высокой поэзии5, но постепенно проникает все глубже, становясь
частью массовых представлений6, находящих свое воплощение и в
повседневном языке.
3. В таблице 4 заметно резкое уменьшение семантического веса
кластера, связанного с драгоценными камнями. Здесь мы сталкиваемся с еще одной важной культурной трансформацией, произошедшей при переходе от XI–XVI вв. к началу XXI вв. Если культура
Древней и Средневековой Руси – это культура политической и культурной элит, а повседневная жизнь обычного человека почти всегда
остается за рамками письменного текста, то современную культуру,
можно назвать культурой масс, и тот ее срез, который представлен в
НКРЯ, включает в себя огромный массив повседневных практик,
которые оставались за рамками древнерусской литературы. Оставаясь
значимым сегментом социальной жизни и регулирующих ее культурных рамок, практики, связанные с драгоценными камнями, растворились в массе других сегментов, что привело к отмеченному выше
результату.
ство, социокультурное пространство, эментальное пространство. Однако, в отличие от предыдущей главы, мы видим большое количество
независимых кластеров, связанных с включением камня в разнообразные
социокультурные сценарии, использующие его либо как объект (кластеры 1−8), либо как носитель определенных свойств (кластеры 9−11).
Общим для всех кластеров является представление о камне как о твердом
огнеупорном объекте естественного происхождения7.
***
После этих замечаний обратимся к общей структуре комплекса камень
в современном языке. Она приведена на рис. 17. Как и в предыдущей
главе, мы можем выделить три базовые области: физическое простран-
Базовая схема: В данном кластере камень представляет собой материал, из которого сделан объект (дом, церковь, стена и др.), встраиваясь в изофункциональный контекстуальный ряд: дерево, глина, бетон, гипс и т. д.
Рис. 17. Структура комплекса «камень»
Кластер 1
Основные конструкции: каменный, из камня, в камне, не оставить
камня на камнеф; разобрать по камешкамф.
Визуальный образ:
Рис. 188.
�272
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Примеры:
1. Но на сей раз ничего объяснять ему не пришлось: передо мной развернулась аркада с пиршеством такого размаха, что дух захватывало; сквозь высокие арки мраморной колоннады празднично
сияли вдали небо Венеции, розовый камень ее церквей и колоколен,
округлые чалмы ее куполов, балконы и балюстрады ее палаццо
(Дина Рубина. Окна);
2. Он мог целую улицу каменными домами застроить (Ольга Тимофеева. Деревня капиталистического труда);
3. И нечего воротить нос, ссылаться на свое историческое чутье
и последнюю войну, во время которой союзники во многих городах Германии не оставили камня на камне (С. Есин. Марбург);
4. Им бы пришлось увидеть, что дело их не продвинулось ни на вершок, что их идеалы так и остались идеалами, что недостаточно
разобрать по камешкам Бастилию, чтоб сделать колодников
свободными людьми (А. Герцен. С того берега).1
Комментарий: Данный кластер является наиболее частотным в
современном языке, включая в себя около половины всех случаев
употребления лексем, входящих в гнездо, и более половины текстов,
в которых эти лексемы употребляются. Следующие по частотности
кластеры отстают в 3,5 раза по случаям употребления и более, чем
в два раза, по текстам. Похожая картина наблюдается и в языке
XI−XVI вв. Это связано с тем, что использование камня в строительстве представляет собой доминирующую социокультурную
практику.
Конструкции не оставить камня на камне, разобрать по камешкам, имея значение «разрушить, разобрать до основания», характеризуют действия как в физическом, так и социокультурном пространстве. В данном кластере речь идет о физических действиях
(примеры 3, 4). Действия в соцокультурном пространстве описываются кластером 1.1.
Кластер 1.1
Основные конструкции: не оставить камня на камнеф, за Х как за
каменной стенойф.
Базовая схема: данный подкластер связан с одной из базовых концептуальных метафор социальные организации и социокультурные группы – это строения, а также метафорой социальные интеракции – возведение и разрушение строений. Первый из приведенных фразеологизмов
характеризует ситуацию разгромного поражения в битве, состязании
или споре, второй – ситуацию беззаботной жизни благодаря тому, что
X берет эти заботы на себя, ограждает от них.
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
273
Примеры:
1. Но и второй эшелон российского тенниса не оставил камня на камне от испанской сборной (Д. Беляева. Будничная победа);
2. По старой памяти она еще вырезала фотографии любимых артистов из глянцевых журналов, однако годы шли, незнакомых звезд становилось все больше, и Томка все отчетливее понимала, что за Степаном и
за его «КамАЗом» она как за каменной стеной (А. Герасимов. Дом на
Озерной).
Кластер 2
Основные конструкции: камень, каменистый, по камням, камешек,
каменный
Визуальный образ:
Рис. 19.
Базовая схема: В данном
кластере камень представляет
собой элемент поверхности
естественного происхождения,
по которой перемещается человек или другое живое существо,
встраиваясь в изофункциональный контекстуальный ряд:
земля, песок и др.
Примеры:
1. Мысленно он сбегал сейчас по горячим камням в лазурь Эгейского
моря (В. Солдатенко. Ева);
2. Сквозь камни под ногами пробиваются ростки жизни: белые соцветия тысячелистника, нежные колокольчики прощаются с северным светилом до следующего дня (О. Шестова. Богатства Беломорья);
3. Тропинки не жгли, а ласково щекотали мелкими камешками и
галькой огрубевшую кожу ступней (Р. Ахмедов. Промельки);
4. Вместо зеленого луга внутри образовавшегося тумана смутно проступает вид ровной каменной площадки – уступа большого утеса
(Т. Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть; НКРЯ);
5. Десять квадратных километров нефтяных полей на каменистом
острове, соединенном с берегом Апшеронского полуострова двухкилометровой дамбой (А. Иличевский. Перс).
Кластер 3
Основные конструкции: камень
Визуальный образ:
�274
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
3.
Рис. 20.
Базовая схема: В данном кластере камень представляет собой
орудие убийства или нанесения
повреждений, встраиваясь в изофункциональный контекстуальный
ряд: ядро, снаряд, пуля, стрела,
копье и т. д.
Примеры:
1. Известие о третьей отставке
Берлускони с поста председателя
совета министров римляне встретили демонстрациями, танцами и
камнями, брошенными в автомобиль
экс-премьера (Д. Карцев. Жизнь после Берлускони).
Кластер 3.1
Основные конструкции: бросать
камень в Xф, бросать/кидать камень/
камни в огород Xф
Базовая схема: данный подкластер формируется путем метафорического переноса базовых действий
кластера 3 в социокультурное пространство. Бросать камень в X означает «открыто обвинять или оскорблять Х, выражать возмущение словами или поступками Х», бросать камень в огород Х – «(преимущественно, косвенным образом) обвинять или выражать недовольство Х».
Примеры:
1. Но хотел бы я посмотреть на того, кто бросит камень в человека, пытающегося как-то решить нерешаемые проблемы в смутное
время, когда необходимых законов нет, а прочие просто не действуют (Б. Руденко. Убить дракона. Возможно ли победить
коррупцию в России);
2. Эти слова президента, как представляется, явились своего рода
камнем в огород Ахмада Кадырова и означали буквально следующее – несмотря на то, что население ЧР высказалось за мир,
выпускать вожжи на скаку федеральный центр не намерен, и
финансовые потоки по-прежнему будут жестко контролироваться из Москвы (Г. Ковалев. Скрытая угроза Ахмада Кадырова);
275
Многие кидали в ваш огород камни, мол, вы в ЦСКА своим друзьям
время на площадке давали больше, чем остальным (К. Зангалис. Валерий Тихоненко: Меня кинули в реку как беспомощного младенца).
Кластер 3.2.
Основные конструкции: держать камень за пазухойф.
Базовая схема: данный подкласер образован путем метафорического
переноса отдельных действий, связанных с кластером 3, в эментальное
пространство. Человек держит камень за пазухой для того, чтобы в нужный
момент бросить его, что и определяет толкование составляющего данный
подкластер выражения: «замышлять против кого-либо нечто плохое при
сохранении внешней нейтральности или доброжелательности».
Примеры:
1. Их задача вербовать подходящих по нраву, отсеивать тех, кто
держит камень за пазухой (А. Иличевский. Перс);
2. Для тех, кто шастает в залах демократии с камнем за пазухой
и ножом в кармане, победа США в Ираке – желтая карточка
(Г. Попов. Так рассуждает диссидент).
Кластер 4
Основные конструкции: драгоценный камень, камень
Визуальный образ:
Рис. 21.
Базовая схема: В данном
кластере камень означает «драгоценность», встраиваясь в изофункциональный контекстуальный ряд: золото, серебро, жемчуг и т. д.
1.
2.
Примеры:
Кто-то сказал нашим, что у местных есть обычай прятать там
золото и драгоценные камни (М. Шишкин. Письмовник);
У Аниной мамы есть целая шкатулка очень красивых колец, серег,
браслетов с такими камнями, которые в ювелирном магазине
стоят столько, что Настя даже не может подсчитать нули
около рублей, потому что все время сбивается, а попросить продавца показать ей кольцо, только для того чтобы пальчиком
прижать разбегающиеся нули, неловко (Т. Соломатина. Большая
�276
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
собака или «Эклектичная живописная вавилонская повесть о
зарытом»).
Кластер 5
Основные конструкции: камень
Визуальный образ:
2.
3.
Рис. 22.
2.
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
Базовая схема: В данном
кластере камень означает «препятствие при перемещении в
пространстве или при попытке
контакта с объектом», встраиваясь в изофункциональный
контекстуальный ряд: кочка,
стена, барьер и т. д.
Примеры:
1.
Смотри, вот едет коляска. Наезжает на камень.
Ребенок выпал (В. Солдатенко. Другие опусы);
Я нашел в библиотеке зачитанную книжку про разных великих
магов, гипнотизеров и фокусников – мне нравилось, что человека
можно положить в гроб, закопать, завалить могилу камнем, а
потом гроб оказывался пустым! (М. Шишкин. Письмовник).
Кластер 5.1
Основные конструкции: камень преткновенияф, подводные камни
(подводный камень)ф, нашла коса на каменьф.
Базовая схема: Данный кластер образован метафорическими трансформациями концептуального содержания, составляющего кластер 5.
Два первых выражения, имея значения «препятствие» и «неосознаваемые проблемы и препятствия» допускают перенос на социокультурное
(примеры 1, 3) и эментальное (примеры 2, 4) пространства, последнее
означает «столкновение противоположных, но одинаково твердых позиций» и описывает социокультурные интеракции.
Примеры:
1. Вопрос применения цен при исчислении и уплате налогов является камнем предкновения в спорах между налогоплательщиками
и налоговыми органами (Налоговый конфликт разрешится в
суде);
4.
5.
277
Будучи долгое время объектом безуспешных усилий, камнем преткновения многих великих математиков, включая Лагранжа,
Ньютона и Лейбница, она была в принципе решена мальчиком,
французским школьником Эваристом Галуа… (Ф. Горренштейн.
Куча);
И вот теперь, перетерпев все невзгоды и преодолев подводные
камни житейского моря, обитель возрождается (Обитель преподобного Саввы Сторожевского);
Кто хочет, теориею знания, уберечься от подводных камней, о которые, как мы постараемся показать это дальше, разбилась теория
Канта, тому нужно подготовить к этой работе свой ум путем
анализа предшествующих философских учений и вскрыть все предпосылки их, именно все положения, лежащие в основе их, но не высказываемые явно… (Н. Лосский. Обоснование интуитивизма);
Но нашла коса на камень – коварство и хитрость Берии наткнулись на крепкую мужицкую смекалку Хрущева (Б. Ефимов. Десять
десятилетий).
Кластер 6
Основные конструкции: каменный, каменистый, каменные джунглиф
Базовая схема: концептуальное содержание данного кластера характеризует среду обитания и встраивается в изофункциональный
контекстуальный ряд: лесистый, песчаный, травяной и т. д. Фразема
каменные джунгли имеет значение «инфраструктура современного мегаполиса с большим количеством небоскребов».
Примеры:
1. Приехали под вечер, а на рассвете я вышла на балкон и – видимо,
наш балкон выходил на оборотную сторону счастья – под утренним, еще бесцветным небом увидела скудный пейзаж Самарии:
каменистые холмы, редкие эвкалипты и сосенки на них вперемешку с какими-то колючими кустами (Д. Рубина. Окна);
2. Перед нами открылся каменный бассейн, просторно оправленный
вокруг заводи (А. Иличевский. Перс);
3. Город – каменные джунгли. Самый страшный хищник здесь – человек (Место схватки – подъезд).
Кластер 7
Основные конструкции: камень.
Базовая схема: концептуальное содержание данного кластера
можно обозначить как «сакральный объект, объект, связанный со
значимым личностным опытом, мемориальный объект»; оно встраивается в изофункциональный контекстуальный ряд: оберег, амулет,
святыня и т. д.
�278
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Примеры:
1. Приходят и люди, чтобы увидеть Шаман-камень – одну из известнейших природных достопримечательностей Байкала. Есть
в Прибайкалье и весьма необычные сооружения, созданные руками
человека, которым, на мой взгляд, суждено стать не менее знаменитыми, чем этот камень (В. Губарев. Слава – Байкал, справа – тайга);
2. Тут белые шары, вернее, они – там, а ты купаешься тут, потому
что в море / Есть заветный камень (Т. Соломатина. Мой одесский язык).
Кластер 8
Основные конструкции: камень.
Базовая схема: концептуальное содержание, к которому отсылает
слово камень, в данном кластере может быть выражено как «твердое
образование на теле и во внутренних органах»; оно встраивается в изофункциональный контекстуальный ряд: полип, нарост, налет и т. д.
Примеры:
1. Он ограничился вскрытием общего желчного потока и извлечением камня без удаления желчного пузыря (Л. Двойнин. Отеческий
дом академика Павлова);
2. Различают неминерализованный зубные отложения – зубной налет
и минерализованные – зубной камень (О. Гусева. От улыбки станет
всем светлей).
Кластер 9
Основные конструкции: падать камнем, как камень; окаменеть.
Базовая схема: в данном и трех последующих кластерах камень выступает не как объект, а как носитель определенных свойств. Для
данного кластера это отсутствие деформаций, видимых поверхностных
изменений в случае как движения, так и покоя; другими словами, набор характеристик, которыми обладает а б с о л ю т н о т в е р д о е
т е л о в физике. Выражение падать камнем, как камень характеризует
стремительность движения, но одновременно и его поступательность,
предполагающую, что все точки движутся по параллельным траекториям, окаменеть – отсутствие поверхностных изменений в покоящемся объекте.
Примеры:
1. Была лунная ночь того большого холода, когда дыхание, кажется,
сразу леденеет и когда птицы, замерзая на лету, падают вниз
камнями (И. Эренбург. Оттепель);
2. Окаменевший Юрка не сводил с девочки неподвижного взгляда
(А. Геласимов. Дом на Озерной).
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках социокультурной ...
279
Кластер 9.1
Основные конструкции: слова (фразы и т. д.) падают как камни.
Базовая схема: данный подкластер образован метафорическим
переносом концептуального содержания кластера 9 в социокультурное
пространство. Выражение, составляющее содержание кластера, характеризует неестественность, напряженность коммуникации.
Примеры:
1. Ему казалось, что слова падают как камни – и его собственные,
и этого паренька (А.Берсенева. Возраст третьей любви);
2. Его короткие фразы падали, как камни, и, сказав что-нибудь, он
вскидывал на меня глазами (М. Горький. Два босяка).
Кластер 9.2
Основные конструкции: камнем; как камень; окаменеть.
Базовая схема: данный подкластер образован метафорическим
переносом концептуального содержания кластера 9 в эментальное
пространство. Входящие в данный кластер выражения описывают
внутренние состояния, характеризующиеся потерей чувствительности,
эмоциональным оцепенением, отсутствием душевной реакции на происходящие события.
Примеры:
1. Окаменевшая от горя мама плачет, отец пытается успокоить ее.
(Р. Ахмедов. Промельки);
2. Камнем, бесчувственным камнем надо быть, чтобы сердце не разбилось людской неблагодарностью! (М. Веллер. Правила всемогущества).
Кластер 10
Основные конструкции: окаменеть, как камень, камень.
Базовая схема: в данном кластере определяющей характеристикой
является твердость камня, проявляющаяся в отсутствии внутренних
деформаций. Сопоставление с камнем используется в данном случае
для характеристики жесткости внутренней структуры объекта.
Примеры:
1. Достаю из ящика тряпки и окаменевшие кеды – одну никчемную
вещь за другой (М. Петросян. Дом, в котором…);
2. Уложив восемь рядов, пора приступать к расшивке швов, пока
раствор не превратился в камень (П. Михайлов. Печь в загородном доме).
Кластер 11
Основные конструкции: как камень.
�280
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Базовая схема: в данном кластере определяющей характеристикой
является тяжесть камня, т. е. его высокая плотность, ведущая к большой
массе даже при небольшом объеме. Сравнением с камнем в данном
случае подчеркивается тяжесть объекта.
Примеры:
1. 1. Убитые лежали в яме в три тяжелых слоя, и Соня очутилась
между, придавленная трупом принявшего двойной удар отца, и
Клим уже тянул ее, живую или мертвую, разбитую, тяжелую,
как камень, и легкую, как стрекозиное крыло, всю черную и липкомокрую, будто младенец в материнской сказке (С. Самсонов.
Одиннадцать).
Завершая данную главу, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что проведенный в ней и в предыдущей главе анализ был обращен к категориям базового уровня, и поэтому в нем не задействовались уровни А0
и В. Диахронный анализ структуры комплекса на трех уровнях описания будет предложен в следующей главе на примере комплекса интеллигенция.
Примечания
Заметим, что, в отличие от БАСРЯ, камень на сердце не выделяется в СРЯ–XVIII в
качестве отдельного значения.
2
Различия в лексико-семантических данных носят локальный характер и будут позднее
эксплицированы в ходе корпусного анализа.
3
Здесь и далее в примерах из БЛДР ѣ заменяется на е и ъ в конце слова удаляется.
4
Иногда наряду с этим подчеркиваются и другие характеристики, например, твердость:
И прихожъдаше ко церкви преже всех братий, во церкви ни с кем не глагола, и седания во
чтении не приимаше, но на ногах своих стояше, аки твердый камень адамант или самфир
(Житие Иринарха Ростовского; БЛДР, XIV, 468).
5
Ярче всего эта черта проявляется в немецком романтизме, находя свое философское
обоснование у Шеллинга. Она получает широкое распространение и в русской мысли
конца XVIII–XIX вв. Классическая иллюстрация этому – образ природы в поэзии Тютчева (Не то, что мните вы, природа,/Не мрамор, не бездушный лик…).
6
Эти массовые представления ярко проявляются, в частности, в индустрии туризма.
Природа как объект эстетического созерцания оказывается ходовым товаром и весьма успешно продается. Фиксация с помощью специально построенных площадок или
остановок на маршруте «выигрышных» точек зрения на горный кряж, озеро, водопад
служит наглядным подтверждением этому наблюдению.
7
Определение камня как «твердой горной породы в виде сплошной массы или отдельных кусков» отсылает к камню как научному термину, используемому, например,
в геологии. «Народное» представление о камне, видимо, отличается от этого научного
определения. Так, янтарь, не являющейся камнем с научной точки зрения, допускает
наименование камня в художественных и публицистических текстах. Напр., Впрочем, и
дамы-физички среди рабочего дня не выделялись нарисованной или надетой красотой, лишь у
Золотовой мерцал на руке черненый серебряный браслет да на груди Анны Константиновны,
как всегда, поверх крестика тускло сияли камни янтаря (Р. Солнцев. Полураспад).
8
Рис. 18–22 выполнены А. Зайцевой.
1
Глава 14. Описание комплекса
«интеллигенция» в рамках
социокультурной теории лексических
комплексов
Комплекс интеллигенция завершает ряд иллюстративных описаний в
рамках СТЛК по двум причинам. Во-первых, он наглядно демонстрирует взаимовлияние выделенных в описании комплекса уровней А0, А
и В: как интерпретации, появляющиеся в различные периоды, так и
глубокие социокультурные трансформации оказывают непосредственное воздействие на употребление слова в повседневном языке. Вовторых, эволюция комплекса интеллигенция отчетливо показывает
принципиальные различия комплекса и научного понятия. Оказывается, что размытость границ комплекса и непроясненность его структуры – важные условия его социокультурной продуктивности, так как
они открывают возможность для появления конкурирующих между
собой интерпретаций и задают тем самым продуктивное семантическое
напряжение. Классический пример такой продуктивной эволюции –
история слова бытие (τ ν), введенного в древнегреческий язык Парменидом, просто субстантивировавшим глагол быть. Так как связанное
с термином концептуальное содержание затронуло самую сердцевину
проблемного поля культуры, предложенное Парменидом довольно
размытое и неочевидное толкование (бытие означало у Парменида
некий «бездрожный Сфайрос»)1 открыло широкую возможность для
новых интерпретаций, и слово, не проясняя своего значения, наполнялось новыми смыслами, вкладываемыми в него различными системообразующими для европейской культуры философскими учениями,
и таким образом обретало значимость. Очевидно, что для слов, имеющих точные определения и не допускающих различные трактовки,
таких как окружность, например, подобная эволюция крайне маловероятна.
История комплекса интеллигенция в определенной степени напоминает эволюцию категории бытие2. Слово интеллигенция с конца 60-х
�282
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
годов XIX века выступает в русской культуре как обозначение социальной группы, занятой интеллектуальной деятельностью, в процессе
которой происходит трансляция и развитие культуры, а также характеризующейся необходимым для такой деятельности уровнем образования. Другая важная характеристика этой группы – стиль жизни,
воспринимаемый в рамках традиции как положительная культурная
норма. Для одних носителей культуры определяющим является первый
параметр, для других – второй, но при внимательном анализе в концептуальной структуре комплекса можно выявить оба. Высокий уровень образования и интеллектуальная деятельность в скрытом виде
предполагают определенный стиль жизни, а стиль жизни связывается
если и не с формальным образованием, то с внутренней образованностью. Перенос акцентов с одного параметра на другой и вызванная
этим переносом полемика оказались крайне продуктивными для концептуальной эволюции комплекса, но одновременно привели к заметной содержательной разноголосице. Будучи одной из ключевых категорий русской культуры, комплекс интеллигенция за почти полтора века
своего существования оброс таким количеством разнородных и противоречащих друг другу интерпретаций, что его можно без особых усилий
описать, выбирая любой из элементов в противостоящих друг другу
понятийных парах: космополитизм – национализм, конформизм –
оппозиционность, толерантность – нетерпимость к позиции другого,
религиозность – атеистичность и т. д. При идеологически ангажированной или просто недостаточно строгой исследовательской установке
интеллигенция легко становится «нашим всем», пластичной материей,
принимающей любые формы, понятийным монстром, не допускающем
возможности корректной работы. Приведенный ниже анализ дает возможность прояснить концептуальную структуру комплекса.
Однако прежде, чем переходить к такому анализу, обратимся к
определениям базовых слов, входящих в комплекс интеллигенция, предложенным БАСРЯ, как это было сделано в предыдущих главах.
Интеллигенция – 'Социальная группа людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным, творческим
трудом, развитием и распространением культуры; люди, принадлежащие к этой социальной группе' (БАСРЯ 2004, 7, с. 313).
Интеллигент – 'Тот, кто принадлежит интеллигенции' с выделением конструкции мягкотклый интеллигент ( 'о том, кто не способен на
решительные поступки') (там же, с. 312).
Интеллигентный – 1. 'Относящийся к интеллигенту, интеллигентам,
интеллигенции'. 2. 'Образованный, духовно богатый, обладающий
знаниями в различных отраслях науки и культуры'. 3. 'Свойственный
интеллигенту, интеллигенции; отличающийся духовностью, высокой
культурой' (там же, с. 312–313).
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
283
Интеллигентский – 1. 'Относящийся к интеллигенту, интеллигентам,
интеллигенции'. 2. 'Свойственный интеллигенту, интеллигенции, а
также людям с образом мыслей, поведением, отличающимся бездействием, нерешительностью и т. п.' (там же, с. 313).
Приведенные толкования наглядно иллюстрируют утверждение о
неопределенности семантической структуры комплекса и наличии в
ней внутренних напряжений, порождая вопросы, которые стали уже
общим местом интеллигентского дискурса: как соотносится интеллигент с интеллигентным человеком, в чем выражаются духовность и
высокая культура и т. д. Иногда соотнесение толкования с иллюстрирующим его примером выглядит как курьез. Так, наречие интеллигентно определяется через значение 3 прилагательного интеллигентный и
иллюстрируется примером из Чехова: За прилавком сидел сам дядя Тихон, высокий, мордастый мужик с сонными, заплывшими глазками. Перед
ним, по сю сторону прилавка, стоял человек лет сорока, одетый грязно,
больше чем дешево, но интеллигентно (там же). Далее в тексте Чехова
эта характеристика уточняется: На нем было помятое, вымоченное в
грязи летнее пальто, сарпинковые брюки и резиновые калоши на босу ногу3.
До какой степени помятое и вымоченное в грязи пальто и резиновые
калоши на босу ногу свойственны интеллигенту и характеризуют человека, «отличающегося духовностью, высокой культурой», остается
загадкой.
Предлагаемое описание комплекса интеллигенция (основные лексемы: интеллигенция, интеллигент, интеллигентный, интеллигентно,
интеллигентский, интеллигентность, интеллигентка, интеллигентик,
интеллигентишка, интеллигентщина) открывает возможность для системного ответа на приведенные выше «вечные» вопросы.
14.1. Предыстория комплекса «интеллигенция»
(до 60-х годов XIX века)
Истоком комплекса интеллигенция является латинское intellegentia,
имеющее значение «понимание, рассудок, познавательная сила, способность восприятия». «Интеллигенция – то, посредством чего душа
познает, каковы вещи, каков окружающий мир» – определяет это понятие Цицерон (Cic., Inv., 2, 53). В дальнейшем у Боэция (Cons. phil.,
V. 4) и, позднее, в схоластической традиции intellegentia определяется
в рамках идущей от Платона оппозиции интуитивного и дискурсивного познания (νησι – δινοια, в латинской традиции intellectus или
intelligentia – ratio) и характеризует божественный разум, в симультанном акте постигающий основания вещей, а также свои собственные
основания. Такое понимание остается определяющим для европейской
философии Нового времени, опирающейся, осознанно или неосо-
�284
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
знанно, на средневековую традицию. Новое качество здесь дает протестантская теология с развитой идеей предопределения. Ее следы
обнаруживаются в некоторых философских и историософских концепциях первой трети XIX века, оказавших заметное влияние на русскую культуру. Так, Шеллинг определяет интеллигенцию, в противоположность природе, как совокупность всего субъективного в нашем
знании. У Гегеля интеллигенция связана со способностью духа преодолевать многообразное бытие непосредственно данного и приходить к
самопознанию. Французский историк и политический деятель Ф. Гизо
находит выражение воли Провидения в прогрессе, в развитии цивилизации, сводящемся у него к совершенствованию человеческого
разума и социальному совершенствованию. Предложенное понимание
цивилизации оказывается востребованным при последующих смысловых трансформациях интеллигенции, хотя употребление l’intelligence
самим Гизо и не несет терминологической нагрузки.
Следует заметить, что в 40–50-е годы в Пруссии, Австрии, Польше
понятие «интеллигенция» начинает использоваться для характеристики социальной группы, являющейся носителем эволюционирующего
коллективного разума (Intelligenz, inteligencja), и это употребление оказывает определенное влияние на Россию (Бесспорно, образованный
класс, или, как называют его в Австрии, интеллигенция, отчетливо понимает значение сочувствия и помощи, ясно видит, что в таком-то
случае правительство имеет свои расчеты (Лавровский 1861)).
В русской традиции слово интеллигенция употребляется, видимо, с
первой четверти XVIII века, представляя собой кальку с французского
l’intelligence и, наряду с переводом «разумность» у В.К. Тредиаковского,
имеет и весьма неожиданное, но также калькированное с французского значение «сношение, соучастие, заговор». (Тот посол Турецкий… был
прислан для шпионства, в каком состоянии сие государство <Персия>
обретается или какой-нибудь интеллигенции ради с старым ИхтиматДевлетом – 1722 г.) (Словарь 1997)). Однако слово выглядит весьма
экзотически и отсутствует в «Словаре Академии Российской» (1806–
1822 гг.). Не попав в основную часть «Настольного словаря для справок
по всем отраслям знания, издаваемого Ф. Толем» (1863 г.), где при этом
обсуждаются понятия интеллектуализм, интеллектуальность, интеллектуальный, оно приводится в приложении к словарю (1865 г.) со
значением «мыслительная сила, степень мыслительной силы».
Подобное прочтение, видимо, является более адекватным и в тех
случаях, которые иногда предлагается считать первыми употреблениями слова в современном значении, в частности, в дневниковой
записи поэта В.А. Жуковского от 2 февраля 1836 г., посвященной пожару в Петербурге, недалеко от Адмиралтейства, в котором погибло
много народа, «а через три часа после этого общего бедствия, почти
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
285
рядом … осветился великолепный Энгельгардтов дом, и к нему потянулись
кареты, все наполненные лучшим петербургским дворянством, тем, которое у нас представляет всю русскую европейскую интеллигенцию»
(Жуковский 1994, с. 46)4, или в статье И.С. Аксакова «Отчужденность
интеллигенции от народной стихии» (1861 г.) (Аксаков 2002, с. 117).
Допуская социологическую трактовку, и в том и в другом случае интеллигенция означает, скорее всего, «мысль», «разум», «самосознание».
По крайней мере, имея давнюю традицию, такое словоупотребление
весьма частотно и в 60-е годы и позднее, в начале 70-х, когда социологическое значение уже начинает доминировать (Надо опрокинуться
в бездну немецкой философии, рыться в иноязычных словарях, и то новейших изданий, чтобы попасть на след того, что сказать хотела их интеллигенция и субъективность. – П.А. Вяземский, 1866 г. (Вяземский 1882,
с. 115); Правительство, увидя, с одной стороны, открытые народом
богатства природы, с другой – умственное бессилие самого народа в обладании ими, призвало ученых немцев и, вооружившись, таким образом,
европейской интеллигенцией, неизбежно стало во главе умственной деятельности в России. – А. Пятковский, 1870 г. (ОЗ, №7, 1870, с. 9)).
14.2. Комплекс интеллигенция в 60–70-е годы XIX века
14.2.1. Социокультурный контекст появления комплекса «интеллигенция» (уровень А0).
В отличие от множества авторов, разделяющих появление слова и понятия интеллигенция (их работы мы рассмотрим ниже), я утверждаю,
что появление комплекса интеллигенция реагирует на конкретные социокультурные трансформации, происходящие в 50–60-е годы
XIX века, которые хорошо известны. Они состоят в резком расширении
социального слоя людей, выступающих в качестве творцов и трансляторов культуры. Если раньше эту функцию выполняло, в основном,
дворянство, то теперь представители других сословий, обозначаемые
довольно размытым по значению словом разночинцы, входят в культурное поле и начинают настойчиво отстаивать право на собственный
голос и собственную позицию. Это ведет к существенным идеологическим и культурным трансформациям, отраженным, например, в
романах Тургенева «Отцы и дети» и Чернышевского «Что делать?»5, и
изменяет состав и структуру культурной элиты, что требует своего отражения в языке. Для понимания этих семантических процессов следует обратить внимание на параллелизм семантической эволюции слов
интеллигенция и цивилизация. Действительно, комплекс цивилизация
активно обсуждается в конце 60-х годов и часто коррелирует с интеллигенцией (Других определений не существует; по крайней мере, Ташкент
цивилизованный, Ташкент интеллигентный не сумел отыскать их. –
М.Е. Салтыков–Щедрин (ОЗ, № 11, 1869, с. 203)). Переход от цивили-
�286
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
зации как универсальной характеристики состояния общества (цивилизованное общество, цивилизованный класс, начало цивилизации) к цивилизации как атрибуту определенного общества или социальной
группы (европейская цивилизация, русская цивилизация, народная цивилизация) задает возможную эволюцию от универсального понятия
интеллигенции – коллективного разума к социальному понятию (русская интеллигенция, французская интеллигенция и т. д.).
Важно отметить также, что идея цивилизации многими воспринималась в эти годы в качестве противовеса «государственному» взгляду
на историю как историю политических деятелей и государственных
институтов. Обращение к истории цивилизаций должно было заменить
оппозицию власть – народ оппозицией цивилизованное общество – народ, т. е. открывало возможность перехода от политической истории к
более глубокому пласту исторического сознания, включающему в себя
политическую историю как один из компонентов. В рамках такой
картины и формировалось социальное измерение интеллигенции, изначально не противопоставлявшейся власти и правительству (как мы
увидим, власть часто называлась интеллигенцией), а просто задающей
иную систему координат, иной угол зрения: в отличие от власти, принимающей политические решения, интеллигенция принимает «цивилизационные» решения, задает вектор развития культуры. В этом
случае ее функция аналогична функции власти, но в ином смысловом
поле.
14.2.2. Комплекс «интеллигенция» в повседневном языке (уровень А)
Несмотря на поддержанное в свое время многими исследователями
утверждение П.Д. Боборыкина, что он в 1866 г. первым начал употреблять слово интеллигенция в значении социальной группы («высшего
образованного слоя нашего общества», как пишет он в статье «Подгнившие “Вехи”»), реальная картина оказывается намного более пестрой и сложной. Единичные случаи употребления существительного
интеллигенция и прилагательного интеллигентный в значении социальной группы встречаются в первой половине 60-х6, однако, более или
менее частое употребление термина относится к концу 60-х годов
XIX века. Связано оно, в первую очередь, с кругом авторов, группирующихся вокруг журналов «Дело» и, чуть позднее, «Отечественные
записки» (в 1868 г. в журнале «Дело» мной зафиксировано 36 случаев
употребления слова «интеллигенция» и его дериватов, что значительно
превосходит частотность употребления в других журналах за это же
время). Среди таких авторов: М.Е. Салтыков–Щедрин, А.М. Скабический,
Н.К. Михайловский, А.П. Щапов, Г.З. Елисеев, П.Д. Боборыкин. В
этот период наряду с уже отмеченным пониманием интеллигенции как
разума, интеллектуальной деятельности («европейски-интеллигентные
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
287
генерации» – А.П. Щапов, в том же значении, в основном, употребляет слово и П.Д. Боборыкин) мы встречаем и новые смыслы, предопределяющие дальнейшую эволюцию понятия. Интеллигенция начинает обозначать образованный, мыслящий слой общества, осуществляющий его социальное, политическое и культурное развитие (Петр
Великий основал в России первые светские училища с реально-практическим
характером, а затем, смотря по развитию народных потребностей, открывались у нас и другие учебные заведения – гимназии, университеты,
собственно народные школы, и все это становилось делом разных комиссий, комитетов и регламентов правительства, которое постоянно думало за народ, представляло собой его голову, интеллигенцию (А. Пятковский) (ОЗ, № 7, 1870, с. 203)). Однако социальные границы этой
группы были крайне неопределенными: они колебались от уже упомянутого правительства до людей свободных профессий (докторов,
преподавателей, адвокатов), и даже техников, ремесленников, аптекарей, ветеринаров. Вот две иллюстрации:
«Я не говорю уже о том приливе в войско техников, ремесленников,
врачей, аптекарей, ветеринаров и проч., которые столь нужны ему. Все
эти специалисты должны отслужить государству известный срок, должны отбыть свою натуральную повинность, как все остальные. Без лишних
хлопот, без лишних расходов государство в военное время обладает огромными интеллигентными средствами, тогда как при нашей системе военной
службы государство специально для военного дела должно образовывать
врачей, техников и проч…» (А.С. Суворин 7) ( ВЕ, № 10, 1870, с. 825).
«С 1855 года ученья солдат приняли совсем другой характер: все было
направлено к тому, чтобы образовать интеллигентного, думающего и
способного солдата, для которого честь и защита родной страны являлись
вовсе не пустой фразой» (А.С. Суворин) (там же).
14. 3. Комплекс «интеллигенция» в 80– 90-е годы XIX века
14.3.1. Теоретические интерпретации комплекса «интеллигенция» (уровень В)
В 80-е годы возникают первые интерпретации комплекса, опирающиеся на семантические завоевания предшествующего периода. В
целом они определяют весь спектр позднейших интерпретаций и задают поле для дискуссий об интеллигенции на долгие годы. Обозначим
спектр вопросов, на которые пытается ответить та или иная интерпретация: кого и по каким критериям следует относить к интеллигенции,
когда появляется интеллигенция и представляет ли она собой исключительно русский феномен или о ней можно говорить и в рамках иных
культурных традиций.
Интерпретация в духе Гизо предлагается в лагере публицистов либерального и близких к либеральному направлений. Так, А.Д. Градовский
�288
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
называет интеллигенцией «совокупность таких умов, в которых, как в
фокусе, сосредоточивается разумение всех потребностей целой страны,
от верхнего ее слоя до нижнего, всех ее стремлений и задач, которые
умеют дать разумную формулу всякому движению, указать исход всякому замешательству и нравственному влиянию которых подчиняются все
действующие силы страны…» (Задача русской молодежи, 1879 г.) (Градовский 2001, с. 480). Градовский подчеркивает, что интеллигенцию не
следует смешивать с «обществом», которое может быть весьма неинтеллигентно, это как бы душа общества, сила, определяющая его развитие. В Средние века такой душой было духовенство, которое можно
назвать средневековой интеллигенцией. Затем «настала очередь другой
интеллигенции, постепенно сломившей средневековый порядок и положившей основание новому европейскому обществу» (там же, 481). С точки
зрения Градовского, очень существенно, что новая интеллигенция не
отождествляет себя ни с каким классом общества (дворянство, духовенство, буржуазия). «Она понимает и умеет выразить интересы крестьянина и фабричного рабочего точно так же, как интересы других,
высших классов общества, и притом выразить их в гармонии, в соответствующей каждому интересу мере, в степени, согласной с благом
целого» (там же, 482). Именно таких людей, которые смогли бы действовать в интересах всей страны и объединить купца и мещанина,
крестьянина и дворянина, священника и разночинца «в цельный,
всеобъемлющий тип мыслящего, нравственного, трудолюбивого и стойкого русского человека» (там же), по мнению Градовского, не хватает
России.
Другие интерпретации возникают в народнической среде. Первая
формируется среди т. н. «народников-почвенников» (В.П. Воронцов,
И.И. Каблиц (Юзов) и др.) и отчетливо сформулирована в работе
И.И. Каблица «Интеллигенция и народ в общественной жизни России»
(Каблиц 1886). С точки зрения Каблица, к интеллигенции относится
каждый, кто занимается умственным трудом: не только литераторы и
ученые, но и учителя, инженеры, священники, военные, промышленники, сельские хозяева, торговцы, чиновники и администраторы.
Главной характеристикой интеллигенции, по Каблицу, является обладание определенными знаниями, которыми пользуется общество,
вознаграждая интеллигента гонораром или жалованием. Однако предложенное определение не самодостаточно, а существует в рамках отмеченной выше оппозиции образованные классы – народ. Занятая умственным трудом интеллигенция противопоставляется народу, добывающему себе средства к существованию трудом на земле. Эти два
состояния в целом задают столь же универсальную классификацию,
как и разделение всей органической жизни на растительный и животный отделы.
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
289
Приобретение знания не делает человека более нравственным, и в
этом смысле интеллигенция должна не учить народ, а учиться у народа, не следовать его «интересам», понимаемым ей из своих соображений, а прислушиваться к его мнениям, проходить у него школу
нравственности.
Каблиц говорит также об интеллигенции как социальной группе,
имеющей много общих черт с бюрократией. По его мнению, «русская
интеллигенция и русский бюрократизм вполне неразделимы друг от друга
и только недавно началось это отделение» (там же, с. 53–54), т. к. «независимых от бюрократии интеллигентных профессий почти не существовало» (там же, с. 57).
Несмотря на непродуманность и противоречивость концепции
Каблица (он называет интеллигенцию то классом, то сословием, то
слоем, не задаваясь при этом вопросом, как она соотносится с другими сословиями, представителей которых он относит к интеллигенции),
его подход намечает дальнейшую линию движения в соци ально-экономической плоскости. Интеллигенция не представляет собой
чисто русского явления, она была во все времена, во всех культурах,
где присутствовал умственный труд. Однако в рамках русской традиции
важно ее отношение к народу и бюрократии.
Концепция Каблица, возникая в рамках уже описанного перехода
от модели бюрократия – народ к модели цивилизованные классы – народ,
открывает затем путь для марксистского подхода, сохраняющего основные ее черты.
Другая концепция создается оппозиционным «почвенникам» крылом в народничестве. Одним из главных ее идеологов является Н.К. Михайловский. Воспринимая термин интеллигенция как не самый удачный,
имеющий скорее метафорическое, чем терминологическое значение,
он, тем не менее, отмечает востребованность его в русской культуре и
размышляет над причинами такой востребованности. Одна из причин
заключается в способности нового слова обозначить наиболее актуальные для русской культуры векторы напряжения: интеллигенция – народ
и интеллигенция – буржуазия, которую Михайловский воспринимает с
резко отрицательными коннотациями. Так, он считает, что «вся новейшая
русская история представляла доселе большие удобства для развития
буржуазии и большие неудобства для развития интеллигенции» (Михайловский 1897, с. 514) и одна из главных задач интеллигенции «в том
именно и состоит, чтобы бороться с развитием буржуазии на русской
почве» (там же, с. 515). Отсюда вырастет столь значимый для дальнейшего тезис об антимещанстве русской интеллигенции. Следует отметить,
что, не акцентируя на этом внимание, Михайловский, тем не менее, в
отличие от Каблица, связывает интеллигенцию с определенными идейными установками или, лучше сказать, определенным стилем жизни
�290
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
(образцом интеллигента для него является Лермонтов). Еще одна важная особенность позиции Михайловского – утверждение о чисто русском характере явления. С его точки зрения, на Западе интеллигенция
практически совпадала с буржуазией, и при всех колебаниях ситуации,
происходящих в 60–80-е годы, не выработала собственных задач, поэтому «по обстоятельствам своего исторического развития Европа не
имеет надобности в особом термине для того, что у нас называется интеллигенцией» (там же, 540). Ситуация в России, как уже отмечалось,
кардинально противоположна.
Итак, мы можем видеть, что три описанные интерпретации, опираясь на общий языковой опыт, заметно различаются между собой, а
две последние прямо противоречат друг другу в базовых позициях.
Каждая из них имеет определенные основания в повседневном языке,
но при этом заметно трансформирует весьма, впрочем, неопределенную
концептуальную структуру, делая акцент на различных входящих в нее
составляющих, выделяя разные элементы в качестве прототипа. Градовский, пожалуй, ближе всего к концептуальной структуре, с которой
слово было связано до этого. В его интерпретации оно означает интеллектуальное ядро социума, коллективный разум, понимающий нужды
общества так, как ум понимает нужды всего организма. Каблиц делает акцент на социальных характеристиках группы людей, называющихся интеллигентами, доводя до определенного социологического завершения термин образованный класс. Михайловский выделяет мировоззренческую составляющую, определенный стиль жизни. Заметно
различаясь между собой, эти интерпретации оказывают значительное
влияние на концептуальную эволюцию комплекса в повседневном
языке. Тем не менее такая эволюция происходит своим путем, и новая
концептуальная структура, испытав воздействие интерпретаций, представляет собой, как мы увидим, существенно отличную от них целостность.
14.3.2. Комплекс «интеллигенция» в повседневном языке (уровень А)
В этот период соответствующие комплексу интеллигенция слова (интеллигенция, интеллигент, интеллигентный, интеллигентно и др.)
начинают активно использоваться уже не только в политических и
экономических статьях, но и в художественной литературе, а также
в повседневной речи. Концептуальная структура комплекса, весьма
аморфная в предшествующий период, обретает теперь более четкие
очертания. В ней отчетливо выделяется два разнонаправленных вектора, задающих поле семантического напряжения. Первый из них
связывается, прежде всего, со словами интеллигенция и интеллигент,
хотя прилагательное интеллигентный также может к нему относиться.
В рамках первого направления интеллигенция заменяет собой соче-
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
291
тание привилегированные классы и выступает как оппозиция народу,
т. е. выбирается из ряда синонимичных слов там, где рядом стоит
слово народ. В формирующейся семантической картине интеллигенция
воспринимается как не-народ. В первую очередь это касается сословного происхождения и образования, но в целом оппозиция затрагивает все основные бытовые и мировоззренческие параметры. Например, «Часы, деньги и прочее... все цело, – начал разговор Чубиков. – Как
дважды два четыре, убийство совершено не с корыстными целями. –
Совершено человеком интеллигентным, – вставил Дюковский. – Из чего
же вы это заключаете? – К моим услугам шведская спичка, употребления которой еще не знают здешние крестьяне. Употребляют этакие
спички только помещики, и то не все» (А.П. Чехов. Шведская спичка);
«Статья о празднике холодна и тоже имеет литературный характер.
Под литературным характером я разумею то, что она обращена к читателю газетному, интеллигентному. Желательно, и я советую вам
другое: воображаемый читатель, для которого вы пишете, должен быть
не литератор, редактор, чиновник, студент и т. п., а 50-летний хорошо грамотный крестьянин. Вот тот читатель, которого я теперь
всегда имею перед собой и что и вам советую» (Л.Н. Толстой. Письмо
Ф.А. Желтову, 1887 г.). Иногда упоминания о народе и интеллигенции
оказывается достаточно, чтобы охарактеризовать жизнь России или
какого-либо уголка России, т. е. они рассматриваются как две противоположности, полностью покрывающие целое. Например, «Россия
такая же скучная и убогая страна, как Персия. Интеллигенция безнадежна; по мнению Пекарского, она в громадном большинстве состоит
из людей неспособных и никуда не годных. Народ же спился, обленился,
изворовался и вырождается» (А.П. Чехов. Рассказ неизвестного человека); «Спросил в беседе своего приказчика: – Поправляются ли мужики? –
Как же, – говорит, – теперь они живут гораздо прежнего превосходнейше. … – Но как же остальное? Как она, наша интеллигенция? –
Много ли, – спрашиваю, – здесь соседей-помещиков теперь живет и
как они хозяйничают?» (Н.С. Лесков. Смех и горе). В этой линии видно
влияние социально-экономических интерпретаций, близких интерпретации Каблица.
Второй вектор появляется позднее, и с ним связывается, главным
образом, прилагательное интеллигентный. Оно выражает не определенное мировоззрение, систему теоретических установок, а противостоящий все более агрессивно утверждающим себя буржуазным ценностям стиль жизни, который был присущ лучшим дворянским семьям,
воспринимался как идеальная норма, но с каждым годом все заметнее
уходил в прошлое. Исходя из базовой для этого концептуального вектора интуиции, интеллигентность формируется еще в раннем детстве
и проявляется в таких чертах, как голос, тон, жесты, выражение лица.
�292
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Ей нельзя научиться, однако ее сразу замечаешь, причем по едва уловимым, часто неосознанным признакам:
«Я гляжу на Рублева... Лицо у него испитое и поношенное, но во всей
его внешности уцелело еще столько порядочности, барской изнеженности
и приличия, что это грубое “дали в шею” совсем не вяжется с его интеллигентной фигурой» (А.П. Чехов, Тапер, 1885);
«Перед отъездом, кстати сказать, я был на репетиции “Федора Иоановича”. Меня приятно тронула интеллигентность тона, и со сцены
повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие таланты»
(А.П. Чехов, Письмо А.С. Суворину, 8 октября 1898 г.);
«Иркутск превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы... Нет уродливых заборов, нелепых
вывесок и пустырей с надписями о том, что нельзя останавливаться»
(А.П. Чехов, письмо М.П. Чеховой, 6 июня 1890 г.).
В этой семантической ветви оппозицией интеллигенции служит
мещанство. Мы видим в ней корреляцию с интерпретациями, близкими интерпретации Михайловского, однако важно помнить, что там
речь идет не о стиле и тоне, а о выраженной во всей жизненной позиции системе идей.
14.4. Комплекс «интеллигенция» в начале XX века (до 1917 г.)
14.4.1. Теоретические «интерпретации» комплекса интеллигенция (уровень В)
Наряду с эволюцией уже сложившихся интерпретаций и появлением
новых подходов в сформированном смысловом поле, отметим появление в этот период первых попыток классификации известных интерпретаций. В этой связи следует упомянуть, прежде всего,
Р.В. Иванова-Разумника, который выделяет два типа критериев для
определения того, является ли человек интеллигентом, два подхода к
определению интеллигенции. Он называет их с о ц и а л ь н о э к о н о м и ч е с к и м и с о ц и а л ь н о - э т и ч е с к и м . Социальноэкономический подход генетически связан с позицией, обозначенной
Каблицем, и проявляется в этот период, в первую очередь, у марксистов. Если не вдаваться в дефиниционные тонкости, к интеллигентам
в предложенной интерпретации относятся люди умственного труда,
духовного труда, т. е. критерием здесь является вид деятельности.
Социально-этическое определение имеет своим истоком позицию
Михайловского. Его придерживаются в этот период мыслители персоналистской ориентации, принадлежащие к разным идеологическим
группам, но сходящиеся в том, что развитие личности определяет цель
и смысл исторического процесса. В рамках этого подхода к интеллигенции относятся люди определенных мировоззренческих установок,
мировоззренческий фактор здесь доминирует над социальным. Перво-
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
293
му из указанных подходов соответствует в повседневном языке линия
интеллигенция – не народ, второму – интеллигенция – не мещанство.
Социально-экономический подход к интеллигенции у марксистов
встраивается в их общую идеологическую схему. Несмотря на существующие различия, в описаниях интеллигенции Богдановым, Лениным, Потресовым и другими отчетливо заметны общие черты. Как уже
отмечалось, интеллигенцией эти авторы называют людей, занимающихся умственным трудом, и относят к ним представителей «свободных
профессий» (врачи, адвокаты, литераторы и др.), наемный научнотехнический персонал (инженеры, бухгалтеры и др.), служащих государственных, академических учреждений (чиновники, преподаватели
и др.). Хотя интеллигенция существует в любую эпоху (Луначарский
говорил об интеллигенции Древнего Египта и даже шамана называл
своеобразным интеллигентом (Луначарский 1924, с. 14)), реальный, не
археологический интерес представляет для марксистов интеллигенция
периода капитализма. При описании этой интеллигенции бросаются
в глаза существенные отличия от концепции народников. Интеллигенция для марксистов перестает быть самостоятельной силой, а оппозиция интеллигенция – народ уже не носит структурообразующего
характера. Систему координат теперь задают пролетариат и буржуазия,
и разговор об интеллигенции ведется на языке классовой борьбы и
классовых интересов. Претензии интеллигенции на внеклассовость, с
точки зрения марксистов, наивны. Интеллигенция объявляется ими
прослойкой, служебной группой, и главный вопрос для них состоит в
том, чьи интересы – буржуазии или пролетариата – она защищает.
Однозначного ответа на этот вопрос нет. В системе производственных
отношений позиция интеллигенции аналогична позиции пролетариата (и интеллигент, и пролетарий продают свой труд буржуазии), но
стиль жизни и круг общения интеллигенции делают ее носителем
буржуазного сознания. В зависимости от происхождения, социального положения и уровня доходов интеллигенция может принимать
сторону, как буржуазии, так и пролетариата. Но даже в последнем
случае она обладает некоторыми «родовыми» чертами, делающими ее
ненадежным союзником. Особенностью характера интеллигенции,
вытекающей из ее социальной практики, объявляется индивидуализм,
неустойчивость социальной позиции, отсутствие дисциплины. Этот
индивидуализм противопоставляется коллективизму пролетариата.
Одна из задач рабочего класса состоит в формировании новой, рабочей
интеллигенции, которая будет выражать и структурно оформлять его
интересы.
Однако следует отметить, что сами русские марксисты не до конца
выдерживали классовый подход, за что их критиковали оппоненты.
Указывая на ограниченность сознания интеллигенции буржуазным
�294
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
мировоззрением, они говорили о небольшой группе интеллигентов,
по словам Луначарского, кучке праведников, за которую «вся русская
интеллигенция будет не только прощена, но и почтена» (там же, с. 58).
Эта «кучка праведников» оказывается в состоянии преодолеть свою
буржуазность и возглавить борьбу пролетариата за освобождение. Для
данной группы основным становится мировоззренческий параметр, и,
как замечает Иванов-Разумник, социально-экономическое определение превращается в социально-этическое.
Социально-этический подход реализуется в гораздо более широком
спектре интерпретаций. Одну из таких интерпретаций предлагает сам
Иванов-Разумник. Интеллигенция, по его мнению, «есть этически –
анти-мещанская, социологически – внесословная, внеклассовая, преемственная группа, характеризуемая творчеством новых форм и идеалов и
активным проведением их в жизнь в направлении к физическому и умственному, общественному и личному освобождению личности» (ИвановРазумник 1911, с. 12). Развивая некоторые из интенций, заложенных
в позиции Михайловского, он утверждает, что Белинский – интеллигент, а Булгарин – не интеллигент, Грановский – интеллигент, а Никитенко – не интеллигент, что подчеркивает невозможность использования по отношению к интеллигенции какого-либо безличного социального критерия (уровень образования, социальное происхождение
и т. д.). Это приводит к тому, что границы термина размываются, и он
приобретает отчетливо ценностный характер (противоположностью
интеллигента оказывается мещанин, с которым связываются резко
отрицательные оценочные характеристики). По мнению ИвановаРазумника, интеллигенция – явление русской культуры, не имеющее
прямых аналогов на Западе, и возникает она как социальный феномен
во второй половине XVIII века, в Екатерининскую эпоху (Фонвизин,
Новиков, Радищев – первые ее представители), хотя отдельные интеллигенты были, по его мнению, и раньше (Курбский, Иван Грозный,
Феодосий Косой и др).
Другие интерпретации, возникающие в рамках социальноэтического подхода, связаны с трансформациями в русской культуре,
происходящими на рубеже веков, с кризисом народнических и позитивистских идей. Формируется новая мировоззренческая парадигма,
в которой слитому с позитивизмом атеизму противопоставляется особый тип религиозности с ярко выраженными эсхатологическими
ожиданиями, религиозности, разрывающей и с авторитетом церкви, и
с авторитетом государства. В центре такого религиозного сознания
находится творческая личность, обретающая истину в мистическом
опыте. Заданная парадигма определяет трактовку интеллигенции
Д.С. Мережковским. Он говорит о трех лицах Грядущего Хама, идущего на царство мещанина: самодержавие, православие, черносотенство.
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
295
«Эти три начала духовного мещанства соединились против трех начал
духовного благородства: против земли, народа – живой плоти, против
церкви – живой души, против интеллигенции – живого духа России»
(Мережковский 1991 (1906), с. 43). Мировоззрение интеллигенции
осмысляется Мережковским в религиозных категориях: он говорит о
ее мистическом атеизме, о том, что сила русской интеллигенции – «не
в intellectus, не в уме, а в сердце и в совести» (там же, с. 40). Единение
интеллигенции с народом, по Мережковскому, опирается на мистический опыт. В духе средневековых мистиков (например, Иоахима Флорского) он говорит о трех заветах: Отца, Сына и Святого Духа и обозначает путь всей России как путь от Христа Пришедшего к Христу
Грядущему, утверждая, что «когда это совершится, тогда русская интеллигенция уже перестанет быть интеллигенцией, только интеллигенцией, человеческим, только человеческим разумом, – тогда она сделается Разумом Богочеловеческим, Логосом России как члена Вселенского тела
Христова, новой истинной Церкви» (там же, с. 44). Несколько неожиданно в рамках этого мистического мироощущения выглядит трактовка образа Петра I. Мережковский как бы забывает о той роли, которую
Петр отводил государству, и называет его первым русским интеллигентом, а дело Петрово – делом Христовым, утверждая, что интеллигенция
«одна шла по пути, указанному Петром, – по пути западноевропейского
и всемирного просвещения. В области общественно-политической это
неизбежный путь о т в л а с т и к с в о б о д е . Тогда как русская государственность шла обратным путем, о т в л а с т и н е к с в о б о д е ,
а к п р о и з в о л у » (там же, с. 59).
Особое место в дальнейшем развитии комплекса интеллигенция занимает сборник «Вехи», вышедший в 1909 г. и оказавший на русскую
культуру влияние, сопоставимое с влиянием «Первого философического письма» П.Я. Чаадаева. Авторы «Вех» (Н.А. Бердяев,
С.Н. Булгаков, М.О. Гершензон, П.Б. Струве, С.Л. Франк и др.) переносят на интеллигенцию в целом представления о леворадикальной
интеллигенции (они, правда, указывают на необходимость различать
понятие интеллигенции в широком (мировом, межнациональном) и
узком (собственно российском) контексте, но их оппоненты и последователи почти не обращают внимания на это различие). Образ интеллигенции связывается у них с оппозиционностью власти, отсутствием
развитой рефлексии, пренебрежением к истине, заменяемой народной
пользой в ее интеллигентском понимании, доминированием ценностей
распределения над ценностями творчества. С.Н. Булгаков видит причины нравственного кризиса интеллигенции в удалении от церкви,
которой она обязана своими лучшими чертами (аскетизм, строгость
личной жизни, ригористические нравы и т. д.). Вне церкви основной
чертой интеллигента становится «героический максимализм», выра-
�296
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
жающийся в отказе от планомерной повседневной работы, пренебрежении принятыми в повседневной жизни нормами достойного, порядочного поведения и стремлении к подвигу, способному осчастливить
человечество. Такой установке, ведущей к самообожествлению, Булгаков противопоставляет идеал христианского подвижника, осознающего свою ничтожность перед Богом и настроенного на повседневный
монотонный труд (Булгаков 1991 (1909)). Н.А. Бердяев и С.Л. Франк
видят основной порок интеллигенции в религиозной аберрации, в
результате которой место Бога занимает народ, а служение Христу и
истине заменяется служением народу. Их идеалом является аристократ
духа, прорывающийся к истине и Богу в творческом акте, требующем
напряжения всех сил (Бердяев 1991 (1909); Франк 1991 (1909)). Указанные Булгаковым (обращение к православной традиции) и Бердяевым и Франком (творческий аристократизм) пути определят основное
направление развития русской эмигрантской мысли после революции.
Позиция Бердяева подробно раскрывается в более поздних его
работах, в первую очередь, в книге «Истоки и смысл русского коммунизма». Он подчеркивает, что русское слово «интеллигенция» не имеет аналогов на Западе и социальная группа интеллигентов не совпадает с интеллектуалами, т. е. людьми, занятыми интеллектуальным трудом
и творчеством. Он утверждает, что к интеллигенции «могли принадлежать люди, не занимающиеся интеллектуальным трудом и вообще особенно не интеллектуальные. И многие русские ученые и писатели совсем
не могли быть причислены к интеллигенции в точном смысле слова. Интеллигенция скорее напоминала монашеский орден или религиозную секту
со своей особой моралью, очень нетерпимой, со своим обязательным миросозерцанием, со своими особыми нравами и обычаями, и даже со своеобразным физическим обликом, по которому всегда можно было узнать
интеллигента и отличить его от других социальных групп. Интеллигенция
была у нас идеологической, а не профессиональной и экономической группой...» (Бердяев 1955, с. 17). Далее он говорит о беспочвенности русской
интеллигенции, о ее разрыве со всяким сословным бытом и традициями, о способности жить исключительно идеями, в большинстве
своем, взятыми с Запада и догматически воспринятыми, о ее «фанатической раскольничьей морали» и «крайней идейной нетерпимости» (там
же, с. 18). Хронологические рамки возникновения интеллигенции он,
как и Иванов-Разумник, обозначает второй половиной XVIII века и
первым русским интеллигентом называет Радищева.
В целом на близких позициях находится и Г.П. Федотов. В работе
«Трагедия интеллигенции», написанной в 20-е годы в эмиграции, но
развивающей идеи начала века, он также отделяет интеллигентов от
интеллектуалов, работников умственного труда, и называет интелли-
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
297
генцию неким орденом «вроде средневекового рыцарства» (Федотов 1991
(1926), с. 68). В качестве ключевых характеристик русской интеллигенции он выделяет «идейность» и «беспочвенность», под первой понимая
особый, этически окрашенный вид рационализма, который «весьма
далек от подлинно философского ratio», т. к. «он берет готовую систему
“истин” и на ней строит идеал личного и общественного (политического)
поведения», а под вторым «отрыв: от быта, от национальной культуры,
от национальной религии, от класса, от всех органически выросших социальных и духовных образований» (там же, с. 70–71). Говоря о киевском
и московском прологе, рождение интеллигенции как широкого общественного течения он связывает с Петром I, утверждая, что интеллигенция – «детище Петрово, законно взявшее его наследие». «XVIII век
раскрывает нам загадку происхождения интеллигенции в России. Это
импорт западной культуры в стране, лишенной культуры мысли, но изголодавшейся по ней. Беспочвенность рождается из пересечения двух
несовместимых культурных миров, идейность – из повелительной необходимости просвещения, ассимиляции готовых, чужим трудом созданных
благ – ради спасения, сохранения жизни своей страны. Понятно, почему
ничего подобного русской интеллигенции не могло явиться на Западе – и
ни в одной из стран органической культуры. Ее условие – отрыв. Некоторое подобие русской интеллигенции мы встречаем в наши дни в странах
пробуждающегося Востока: в Индии, в Турции, в Китае. Однако, насколько мы можем судить, там нет ничего и отдаленно напоминающего
по остроте наше собственное отступничество: нет презрения к своему
быту, нет национального самоуничтожения – “мизопатрии”», – пишет
он (там же, с. 79). Отметим и характерную для социально-этического
подхода субъективность в выборе персоналий интеллигентов: Федотов
не относит к интеллигенции Самарина, Островского, Писемского,
Лескова, Забелина, Ключевского.
Иные интерпретации представляют собой комбинацию двух описанных подходов. В качестве иллюстрации остановимся на позиции
П.Н. Милюкова, начинавшего с традиционного «социально-экономического» определения интеллигенции как образованного класса, т. е.
группы людей, получивших определенное образование (Милюков
1902), но после выхода «Вех» уточнившего свою позицию и в статье
«Интеллигенция и историческая традиция» в сборнике «Интеллигенция в России» (Милюков 1991 (1910) соединившего социальноэкономический и социально-этический подходы. Интеллигенцию и
образованный класс лидер кадетов представляет в виде двух концентрических кругов, называя интеллигенцией внутренний круг, которому
принадлежит инициатива и творчество. Принимая, по сути, оппозицию
между интеллигенцией и мещанством, он говорит о множестве промежуточных состояний, делающих переход от интеллигенции к ме-
�298
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
щанству постепенным и часто неуловимым. Он отказывается считать
интеллигенцию исключительно русским явлением и находит для нее
прямые аналоги в европейской традиции, связывая при этом появление
русской интеллигенции с Петром I, впервые собравшим «кружок
самоучек-интеллигентов, призванных помогать ему при насаждении
новой государственности» (там же, с. 295).
14.4.2. Комплекс «интеллигенция» в повседневном языке (уровень А)
Трансформации в повседневном языке в этот период менее существенны – концептуальная структура уже приобрела необходимую устойчивость и инертность. Тем не менее, определенный семантический дрейф
все же заметен, и вызван он возрастающим «давлением» интерпретаций. Потребность в более точном отражении концептуального содержания, в четком различении двух смысловых пластов, смешанных в
комплексе интеллигенция – определенного мировоззрения или идеологии и определенного стиля жизни – приводит к тому, что в этом
комплексе появляются новые слова и его внутренняя структура усложняется. Так, в этот период возникает и с возрастающей интенсивностью
используется прилагательное интеллигентский, выступающее как мировоззренческая характеристика (интеллигентская философия, интеллигентское сознание) и противостоящее стилистически маркированному прилагательному интеллигентный (интеллигентная внешность, интеллигентное поведение). Слово интеллигентский одновременно как бы
адсорбирует в себе устойчивые негативные коннотации, связанные с
комплексом, появившиеся в указанный период: («…интеллигентская
мысль холопствовала перед авторитетом и хамски лягала свалившегося
вчерашнего божка» (М. Арцыбашев. Записки писателя)). Эти коннотации
проявляются, в частности, в появлении таких новообразований как
интеллигентщина («…это также окончательное размежевание Горького
с интеллигентщиной» (Луначарский 1906, с. 7)).
14.5. Комплекс «интеллигенция» в 20–50-е годы XX века
14.5.1. Социокультурный контекст комплекса «интеллигенция» (уровень А0)
В советский период происходят кардинальные изменения социокультурного контекста, которые оказывают влияние и на употребление
слов, соответствующих комплексу в повседневном языке, и на новые
интерпретации. Прежде всего, значительно более резко, чем в 60-е
годы XIX века, трансформируется культурное поле. В него попадают и
начинают активно действовать на нем люди, не ориентирующиеся в
крайне сложно организованной системе ориентиров, сформированной
русской культурой XVIII–XIX веков, и редуцирующие ее до предельно
простых идеологических моделей. Марксистско-ленинская модель,
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
299
часто в заметно упрощенной интерпретации, задает новую систему
координат. Мир как бы творится заново, хотя в действительности его
творцы активно используют и слова, и идеи предшествующей эпохи
(см. об этом: Глебкин 1998; Глебкин 2007ж; Глебкин 2007и). В новом
государстве формируются социальные структуры, аналогичные по
функции соответствующим структурам в дореволюционной России,
которые требуют своего именования.
В частности, появляется социальный слой образованных людей,
обладающий при этом заметными особенностями по сравнению с дореволюционным контекстом. Во-первых, если до революции «образованный класс» был особой субкультурой, связанной со сложившейся
и постоянно воспроизводимой традицией, то советский образованный
слой, за счет системы квот на высшее образование для рабочих и крестьян и ограничений для интеллигенции, в основной своей массе состоит из тех, кого принято называть интеллигентом в первом или
втором поколении. Во-вторых, изменяется система преподавания и
набор предметов, изучаемых в вузах – акцент теперь делается на технических и естественно-научных дисциплинах, а также на изучении
классиков марксизма-ленинизма-сталинизма. В-третьих, теперь почти
все представители интеллектуальных профессий являются государственными служащими или входят в творческие союзы, контролирующиеся государством (Волков 1999).
Опыты по созданию нового языка для описания новой реальности
не дают результата, и с развитием советской культуры одни и те же
слова начинают использоваться для обозначения как досоветского
прошлого, так и советского настоящего. Это касается и слов, входящих
в комплекс интеллигенция.
14.5.2. Теоретические интерпретации комплекса «интеллигенция» (уровень В)
Оставляя в стороне эмигрантские работы, основные идеи которых были
прослежены в предыдущем разделе, остановимся на эволюции представлений об интеллигенции в официальной советской идеологии. В
целом кардинальных изменений по отношению к марксистской модели, описанной в предыдущем разделе, схема не претерпевает, но эта
модель становится единственно возможной – все остальные интерпретации «вымываются» из культурного поля. Интеллигенция признается
социальной группой, не имеющей самостоятельных интересов и выполняющей служебную функцию. Старая интеллигенция, воспитанная
в буржуазных традициях, заражена буржуазной идеологией и в целом
должна быть уничтожена вместе с буржуазией. С небольшой частью
научно-технической интеллигенции возможен союз тактического характера, до тех пор пока не появятся собственные кадры, способные
выполнять ее функции. Новая советская интеллигенция, образованная
�300
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
выходцами из рабочих и крестьян, уже не несет в себе чуждой идеологии. Она – необходимый элемент советского общества, служит рабочим
и крестьянам и выражает их интересы, за что получает устойчивую
характеристику «трудовая». Этот процесс смены интеллигенций в
основном заканчивается к середине 30-х годов, что находит свое отражение в докладе И.В. Сталина «О проекте конституции Союза ССР»
на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г. В
нем говорится о трех ключевых элементах советского общества: рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция. Не признаваясь отдельным
классом, в заданной семантической конструкции интеллигенция выступает как необходимый, вполне самостоятельный и во многом равноправный элемент, что Сталин несколько раз специально подчеркивает
в своем докладе. Место интеллигенции в социальной иерархии повышается, но отношение к ней остается противоречивым: с одной стороны, она описывается как обслуживающая социальная группа, дающая возможность классу-гегемону более продуктивно и эффективно
выполнять свои функции, с другой – практика производства заставляет воспринимать инженера как ключевую фигуру, что отражается на
его социальном статусе.
14.5.3. Комплекс «интеллигенция» в повседневном языке (уровень А)
Основные трансформации семантики происходят в 20-е годы. Прежде
всего, резко падает частота употребления слова. Из ключевой проблемы вопрос о русской интеллигенции превращается в маргинальный,
уступая место проблемам мировой революции, классовой борьбы и т. д.
Оппозиция интеллигенция – мещанство размывается, более того, для
новой генерации людей, мыслящих по-большевистски, интеллигенция
заметно сближается с мещанством, воспринимаясь как социальный
слой, цепляющийся за старый быт и противостоящий новому стилю
жизни. Так, вполне по-мещански смотрит на мир непрерывно размышляющий о значении русской интеллигенции Васисуалий Лоханкин
из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок».
Оппозиция интеллигенция – народ коррелирует с оппозицией буржуазия – пролетариат, что приводит к активному распространению
таких сочетаний как буржуазная интеллигенция, трудовой народ, классовое сознание интеллигенции.
Еще одним важным штрихом является включение в концептуальное
содержание слова интеллигент определенных психологических характеристик, типичных черт характера, лишь намечающееся в начале
XX века. В числе таких характеристик – слабость, бездеятельность
интеллигенции, ее неспособность к решительным действиям, пустое
философствование, мягкотелость. Прилагательное интеллигентский с
ярко выраженными отрицательными коннотациями вытесняет слово
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
301
интеллигентный. В это же время появляются уничижительные по отношению к интеллигенции названия, такие, как интелягушка (А. Веселый), интелигузия («Интелигузию бей!», И. Сельвинский), антилигент (М. Зощенко), пришлепа интеллигентская (Ан. Глебов) и др.:
«Знаю я вашего брата, интелягушку… Работать и умеете, но страсть
любите у всех на виду быть, в воловью работу вас, чертей, не запряжешь…
Вот и в тебе, наверно, капризов и вывертов всяческих хоть отбавляй? Ты
тоже, кажется, из этих… Сынок, что ли, купеческий?» (А. Веселый.
Россия, кровью умытая, 1926, Клюквин-городок, 1);
«Разговорившись с Кашкиным, он однажды пошел с ним прогуляться
и после этого даже подружился с ним. Его привлекал этот здоровый,
плотный субъект, который не знал, что такое меланхолия, утомление
чувств и прочие интеллигентские ощущения» (М. Зощенко, Возвращенная молодость, 1933, 28).
В 30–50-е годы продолжаются, постепенно ослабевая, семантические трансформации 20-х годов, но после соответствующих изменений
в официальной идеологии, начинает оживать семантика конца XIX
века.
14.6. Комплекс «интеллигенция» в 60–80-е годы XX века
14.6.1. Теоретические интерпретации комплекса «интеллигенция» (уровень В)
Советские интерпретации не претерпевают в этот период принципиальных изменений, но в культуре возникает осознание разрыва между
дореволюционным и ленинско-сталинским образами интеллигенции.
Это осознание появляется, прежде всего, в интерпретациях диссидентов, строящихся на сопоставлении русской интеллигенции (образ
которой они реконструируют, в основном, по «Вехам») с советской.
Такой подход реализован в статьях А.И. Солженицына «Образованщина» (Солженицын 1991 (1974) и В.Ф. Кормера «Двойное сознание
интеллигенции и псевдокультура» (Кормер 1989 (1970). Проводя указанное сопоставление, Солженицын выделяет следующие черты русской интеллигенции, потерянные в советское время: всеобщий поиск
целостного миросозерцания, жажда веры; социальное покаяние, чувство виновности перед народом; личный аскетизм, полное бескорыстие, даже ненависть к личному богатству, боязнь его как бремени и
соблазна; фанатическая готовность к самопожертвованию. В советское
время эти черты, по его мнению, сменились усталым цинизмом, эгоизмом и самовлюбленностью, обидой на народ, не умеющий оценить
место и значение интеллигенции, стремлением к карьере и материальному благополучию. Проведя подробный анализ мировоззрения и
образа жизни советской интеллигенции, Солженицын констатирует
полный разрыв с ценностями XIX века и предлагает для советской
�302
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
интеллигенции уничижительное слово образованщина. Как видно,
основным для него является мировоззренческий критерий, и его интерпретация представляет собой жесткую критику социальноэкономического подхода со стороны социально-этического. Как
Иванов-Разумник отказывал Никитенко в праве называться интеллигентом, так это делает Солженицын для советского инженера или
работника вуза.
В целом в том же ключе построены рассуждения В.Ф. Кормера,
который, сопоставляя советскую интеллигенцию с образом интеллигенции в «Вехах», говорит о ее буржуазности и о шизоидности, выраженной в принципе двойного сознания: критика власти и лакейское
служение власти, проповедь духовных ценностей и стремление к материальному благополучию, поиск свободы и добровольный отказ от
свободы. Следует отметить, что за указанным противопоставлением
стоят отмеченные выше объективные трансформации образа жизни и
социальной функции «образованного класса» в советское время, но
эти трансформации осмысляются в рамках уже сформированной комплексом интеллигенция концептуальной структуры.
При этом до конца не понятно, кого упомянутые авторы относят к
советской интеллигенции. Их позиция представляет собой смесь традиционного социологического определения (люди умственного труда)
и социально-этического представления об интеллигентах как людях с
определенным мировоззрением. В зависимости от того, на какой из
этих позиций делался акцент, строилось и отношение к советской
интеллигенции. Так, выделение мировоззренческого компонента,
сближающего с русской интеллигенцией тех советских интеллигентов,
которые придерживались декларируемых ею ценностей, заметно в
работах Г. Померанца, с которым полемизировал Солженицын (Померанц противопоставлял «неодушевленной интеллигенции» «одушевленную интеллигенцию», страдающую за судьбу человечества (Померанц 1995 (1969), с. 120)) и в книге Ю. Глазова «Тесные врата. Возрождение русской интеллигенции» (Глазов 2001 (1973)). Для Глазова
интеллигенты 60–80-х годов – это те, кто читал Эренбурга, Солженицына, протестовал или, по крайней мере, как-то реагировал на процесс
Бродского, переосмысливал свое ранее нигилистическое отношение к
православной церкви и т. д.
14.6.2. Комплекс «интеллигенция» в повседневном языке (уровень А)
В целом в этот период замечается возвращение к словоупотреблению
конца XIX века, хотя сохраняются и весьма существенные отличия,
вызванные влиянием советской культуры предшествующего периода.
Вновь резко возрастает частота использования прилагательного интеллигентный, вытесняющего своего оппонента интеллигентский. Как
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
303
мы помним, прилагательное интеллигентный выражает, главным образом, представление об определенном стиле жизни. Однако, если век
назад этот стиль связывался с традициями, воспитываемыми и сохраняемыми в лучших дворянских семьях, и противопоставлялся
стилю жизни, выраженному в слове мещанство, то теперь границы
интеллигентности оказываются размытыми, а противопоставление
мещанству – гораздо менее отчетливым. Оппозиции интеллигенция –
мещанство и интеллигенция – народ смешиваются. Мужик и мещанин
объединяются в образе простого человека, часто несдержанного и
грубого, даже морально неразборчивого, но цельного, решительного,
чуждого интеллигентской рефлексии, человека дела, а не долгих разговоров о нем. Интеллигентное поведение отчасти смешивается с
официальным, требующим соблюдения дистанции, простое – с домашним, свойским:
«И Уваров, отдернув руку, опустился на стул, сказал резким, командным голосом: – Что за чепуха, хотел бы я знать! Не узнаешь? Контужен?
Ты что? – Мы никогда не были на “ты”, – сказал Сергей, напряженно,
неторопливо закуривая, с удивлением видя, что руки его дрожат. – Мы
не были друзьями. – Ах, дьявол! – качнув головой, преувеличенно весело
засмеялся Уваров и откинулся на стуле. – Обиделся, что ли? Все ерунда
это! Давай выпьем за встречу, за то, чтобы на “ты”. А? И не будем показывать свою интеллигентность!» (Ю. Бондарев, Тишина, 1, 4,
1962);
«Я обратил внимание, что она не сказала врать, сказала лгать – читает книги; интеллигентна» (В. Маканин, Андеграунд, или Герой нашего времени, 2, 44, 19988);
«Милиционер удовлетворенно крякнул и интеллигентно сказал:
– Получите ваши документы и к следующему разу прошу привести
ваше транспортное средство в порядок, товарищ водитель» (В. Кунин,
Кыся, 1998).
Наряду с сохраняемым мотивом врожденной интеллигентности и
представлением о том, что интеллигентности невозможно научить,
появляются такие выражения, как «придать огрубевшим мордасам интеллигентность» (Ю. Бондарев, Тишина, 1, 13), «придал своей исполосованной хамской роже относительно интеллигентно-благожелательное
выражение» (В. Кунин, Кыся-3. Кыся в Америке, 1998), т. е. оказывается возможным переход от простого, грубоватого, свойского стиля к
официальному, интеллигентному.
Критерии интеллигентности снижаются:
«И еще один, правда уже пьян, полеживал на диванчике в полной отключке, но интеллигентно, то бишь сняв обувь и демонстрируя красивые
носки. Никому не мешал. Как пейзаж» (В. Маканин, Андеграунд, или
Герой нашего времени, 3, 5).
�304
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Один из ключевых факторов, объясняющих эту эволюцию, – разрыв
в традиции: если дворянская культура формировалась в течение, по
крайней мере, двух столетий и в значительной степени определялась
системой домашнего воспитания, то советские интеллигенты 60–90-х –
интеллигенты первого или второго поколения, не выработавшие собственной модели поведения и, более того, всей культурной моделью
направляемые к тому, чтобы выражать общий для советской культуры
стиль жизни – стиль «советского человека». Если образованный человек в XIX веке идентифицировал себя как дворянина или, затем, интеллигента, то советский образованный человек осмыслялся как
частный случай советского человека в целом. Важный дополнительный
фактор здесь – отсутствие в современных модернизированных обществах столь же жесткой, как в XIX веке, социальной маркировки. В
конце XIX века интеллигента можно было узнать по одежде или по
выражению лица потому, что мужик не мог надеть господскую одежду
или иметь прическу, напоминающую прическу дворянина. В конце ХХ
века этот признак оказался уже абсолютно не релевантным, и единственной существенной маркировкой становится здесь оппозиция
естественное/официальное, на которую и были перенесены традиционные представления об интеллигентности.
Еще одна черта, не имеющая аналогов в конце XIX и гораздо более
отчетливая в 20–30-е годы ХХ в. – звучащее чаще всего в репликах
героев произведений, «простых людей», но иногда переносимое и на
авторскую позицию обвинение интеллигентов в слабости и мягкотелости, в незнании реальной жизни:
«Он по обыкновению уже говорил с Межениным чрезмерно официально,
и это опять была выработанная норма защиты в общении со своим командиром орудия. Его нагловато-самонадеянная усмешка сомкнутыми
губами, его с холодной пустинкой глаза постоянно выражали, мнилось,
полускрытое презрение к Никитину, этому москвичу-лейтенанту, интеллигентному чисторучке, оторванному от мамы и папы, от сладких барбарисок, от задачек в школе, тогда как сам Меженин за тридцать прожитых лет хлебнул разного опыта через край» (Ю. Бондарев, Берег, 2,
1, 1975).
Размытость границ комплекса интеллигенция проявляется и в происходящем смешении русского интеллигент и западного интеллектуал:
«Правительство под давлением прогрессивной общественности учредило нечто вроде государственной опеки с целью ассимиляции аборигенов.
Но кроме политики ассимиляции есть сторонники так называемой интеграции. Передовая интеллигенция страны сходится в своих требованиях дать полные гражданские права аборигенам» (Д. Гранин. Месяц
вверх ногами. Про аборигенов, 1966).
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
305
Пожалуй, основным в комплексе интеллигенция становится не
противопоставление народу и мещанству, а представление о культурной
норме. Интеллигенты – люди, хранящие культурную норму, и в этом
смысле выполняющие социальную функцию, аналогичную функции
интеллектуалов. Хотя и идея жертвенности, и идея служения тоже
присутствуют в текстах, но связываются, скорее, с прошлым, чем с
настоящим, постепенно теряя свою значимость.
14.7. Семантика слова «интеллигенция» в постсоветский период
14.7.1. Теоретические интерпретации понятия «интеллигенция» (уровень В)
В 1990-х – начале 2000-х годов резко возрастает число работ, посвященных интеллигенции. Связано это с переосмыслением наследия русской
культуры XIX–XX вв. в целом, с попытками увидеть в современности
зарождение новой эпохи и задать новую систему координат, а также
принципы ее согласования со старой. О результатах этой полемики мы
скажем чуть позднее, пока же следует отметить, что в работах 90-х годов
в заданном социально-экономическим и социально-этическим подходами проблемном поле появилось несколько новых интерпретаций.
Так, Б.А. Успенский, воспринимая интеллигенцию как носителя
определенного мировоззрения, в качестве одной из основных характеристик указывает на ее принципиальную оппозиционность «к доминирующим в социуме институтам. Эта оппозиционность прежде всего
проявляется в отношении к политическому режиму, к религиозным и
идеологическим установкам, но она может распространяться также на
этические нормы и правила поведения и т. п. При изменении этих стандартов меняется характер и направленность, но не качество этой оппозиционности… В этом, вообще говоря, слабость русской интеллигенции
как идеологического движения: ее объединяет не столько идеологическая
программа, сколько традиция противостояния, т. е. не позитивные, а
негативные признаки. В результате, находясь в оппозиции к доминирующим
в социуме институтам, она, в сущности, находится в зависимости от
них: при изменении стандартов меняется характер оппозиционности,
конкретные формы ее проявления» (Успенский 1999, с. 10). Опираясь на
это утверждение, автор сдвигает границы появления интеллигенции к
30–40-м годам XIX века (т. к. оппозиция к власти возникает тогда,
когда сама власть обретает отчетливую структуру и опирается не на
эксцесс, а на закон), а также связывает «базисные основания» интеллигентского дискурса («Духовность, Революционность, Космополитизм») с построением отрицания к уваровской триаде, явившейся, в
свою очередь, реакцией на «Liberté, Egalité, Fraternité».
М.Л. Гаспаров додумывает и уточняет подход, названный ИвановымРазумником социально-экономическим (Гаспаров 1999, Гаспаров
�306
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
1999а). Для него «русская интеллигенция была западным интеллектуальством, пересаженным на русскую казарменную почву» (Гаспаров 1999а,
с. 11). Отмечая существующий зазор между дефинициями интеллигенции и интуицией повседневного употребления, он обращается к анализу семантики слова и приходит к выводу, что его значение претерпевает любопытную эволюцию. Если этимологически в ней выделяется интеллектуальная составляющая, сближающая интеллигента с
западным интеллектуалом, то особенности взаимоотношений с властью
во второй половине XIX – начале XX века определяют представление
об интеллигенции как «службе совести», постепенно эволюционирующее в советское время к «службе воспитанности», аналогичной античному humanitas.
В целом дискуссия 1990-х – первого десятилетия 2000-х развивает
заданные темы соотношения интеллигенции и власти и интеллигенции
как этической и культурной нормы. Основная проблема здесь – осознание места совокупности культурных смыслов, обозначаемой комплексом интеллигенция, в новой культурной ситуации. Наряду с традиционными интерпретациями (например, идущим еще от Михайловского противопоставлением русского интеллигента и западного
интеллектуала (Архангельский 2007)), в этой полемике формулируется
и новая позиция, становящаяся в среде интеллектуалов одной из доминант. Формулирующие ее авторы говорят о конце интеллигенции,
связывая его с концом советской культуры (Гудков, Дубин 1994; Куренной 2006), предлагают заменить понятие интеллигенции понятием
среднего класса (Сабуров 2006).
Обращаясь к проведенному в восьмой и девятой главах анализу,
можно увидеть в подобных констатациях конца интеллигенции выражение того, что с точки зрения их авторов соответствующий комплексу интеллигенция экзистенциал перестал существовать. Однако
здесь необходимо сделать одно важное методологическое отступление.
Основным источником для изучения языка прошлых эпох являются
письменные (в основном, литературные и публицистические) тексты.
Оставляя в стороне жаргоны и диалекты, можно сказать, что этот же
тип текстов оказывается базовым для изучения современного языка.
Например, Национальный корпус русского языка включает в себя,
главным образом, письменные источники (массив устных записей
гораздо меньше по объему и весьма специфичен по структуре). При
этом существует значительное число образованных людей, которые
не публикуются в газетах и журналах, но имеют отчетливое представление о значении того или иного слова и свои интерпретации.
Выделенный на основании общения с ними прототип может существенно отличаться от базовых значений, реконструируемых по
письменным текстам.
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
307
Возвращаясь к комплексу интеллигенция, кратко опишу в этой связи
результаты исследования, проведенного мной в начале 2000-х годов.
Материалом для него стали более 30 углубленных интервью с учителями
и работниками музеев, в основу которых было положено обсуждение
базовых характеристик интеллигента, а также анкеты, заполненные
учителями в нескольких регионах России (их общее количество составило около 100). В вопросах требовалось указать основные качества,
которыми должен или не должен обладать интеллигент или интеллигентный человек (предварительно спрашивалось, различают ли респонденты эти понятия); привести пример «образцового интеллигента» из
собственного опыта или среди известных в публичном пространстве
людей; выяснялось, можно ли научиться интеллигентности или она
прививается в раннем детстве; совместимы ли интеллигентность и занятия политикой, интеллигентность и занятия бизнесом и т. д. Не имея
здесь возможности подробного обсуждения результатов, отмечу лишь,
что они заметно отличались от указанной выше картины, которая складывается по письменным источникам, и приближались к чеховскому
образу интеллигента. Это говорит о том, что для получения полного
языкового портрета эпохи письменных источников принципиально недостаточно, и мы должны работать с описанным пластом языка так же
подробно и ответственно, как мы работаем с письменными текстами.
14.7.2. Комплекс «интеллигенция» в повседневном языке (уровень А)
Если опираться на письменные источники, то в целом здесь продолжаются процессы «размывания» базового значения, отмеченные в
предыдущий период, без принципиальных трансформаций. Приведу
лишь две иллюстрации:
«Через пять минут порядок был восстановлен, вся уголовная интеллигенция расставлена по ранжиру» (Е. Сартинов. Последняя империя,
2007);
«Мне недавно знакомый рассказал одну историю. Где-то под Москвой
был подпольный цех, то есть минизаводик, который выпускал поддельное
то ли Мальборо, то ли Davidoff, то ли Chesterfield. А что такое подпольный завод? Кирпичная коробка в промзоне. В ней станки по набивке табака в бумагу и фасовочная линия. Так вот, приезжают на этот заводик
специально обученные люди и приглашают всех рабочих выйти из цеха на
улицу. Люди у нас понятливые. Выходят. Эти ребята аккуратно расстреливают цех из гранатометов. Потом говорят рабочим: “Ребята мы
понимаем, что вы не при делах. К вам претензий нет. Поэтому ищите
себе другую работу”. Садятся в джипы и уезжают. Все очень интеллигентно. Мир меняется к лучшему. Даже корпоративные монстры» (А. Ревазов. Одиночество-12, 2005).
�308
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
309
14.8. Итог
Подводя краткий итог проделанному анализу, отметим, что функциональная нагрузка комплекса интеллигенция и его смысловая
эволюция определяются двумя смысловыми блоками, лежащими в
основе всех последующих трансформаций. Их можно обозначить
как «антинародность» и «антибуржуазность». В различные исторические периоды акцент делался на одном или на другом элементе,
что позволяло понятию сохранять актуальность при разнообразных
идеологических сдвигах. Так, в 80–90-е годы XIX века основным
был мотив «антинародности», в начале ХХ века оба параметра находились в равновесии, затем в 20–30-е годы «антинародность»
снова стала доминирующей характеристикой, а в 60-е на первый
план вышла «антибуржуазность». При этом «антинародность» могла восприниматься как вина, требующая обязательного искупления,
или трансформироваться в «антисоветсткость» (диссидентство) и
нести в себе отчетливый положительный смысл, «антибуржуазность» же иногда сменялась обвинениями в буржуазности (20-е
годы, Солженицын), но тогда эти обвинения выступали одновременно как утверждение неподлинности, «неинтеллигентности»
интеллигенции.
Мотив оппозиционности отсутствует на уровне повседневного употребления и появляется лишь в интерпретации «Вех» и интерпретациях, опирающихся на «Вехи».
Параметры «антинародности» и «антибуржуазности» позволяют
провести разграничительную черту между русским интеллигентом
и западным интеллектуалом, выполняющими каждый в своей традиции функцию хранения, трансляции и развития культуры. Первый
из этих параметров вообще не релевантен для западного сознания,
второй значительно ослаблен. В этом смысле определяющим для
дальнейшей судьбы комплекса «интеллигенция» является вполне
гегелевский процесс столкновения декларируемых ей антибуржуазных ценностей (тезис) с буржуазными ценностями, стоящими за
понятием «средний класс» (антитезис). Остается лишь наблюдать
за тем, как произойдет снятие тезиса и антитезиса и каким окажется синтез.
***
Если теперь обратиться, как мы делали это в предыдущих главах, к
кластерной модели, то приведенную выше картину (разумеется, с потерей многих важных обертонов) можно трансформировать в схему,
изображенную на рис. 23, комментарием к которой служит идущее
ниже описание.
Рис. 23. Структура комплекса интеллигенция
Уровень А0
Социокультурным основанием для появления комплекса интеллигенция является произошедшее в 50-е−60-е гг. XIX в. резкое расширение
социального слоя людей, выступающих в качестве творцов и трансляторов культуры, а именно, включение в этот слой, наряду с дворянством, представителей других сословий, маркируемых как разночинцы.
Системообразующая для 30-х−40-х гг. XIX в. оппозиция дворянство –
народ перестала корректно описывать новые реалии и нуждалась в
новом термине, характеризующем первый ее элемент. Другим важным
фактором стало развитие капитализма в России и утверждение буржуазного этоса, противостоящего во многих отношениях дворянской
культуре. «Анти-буржуазная» система ценностей также требовала новой
маркировки в связи с изменившимися реалиями.
Уровень А
Кластер 1
Основные конструкции: интеллигенция, интеллигент, интеллигентский, интеллигентный, интеллигентик, интеллигентишка, интеллгентщина, мягкотелый интеллигентф.
Базовая схема: Входящие в данный кластер лексемы характеризуют
людей, занимающихся умственной деятельностью и получивших необходимое для этого образование, в противоположность народу, занимающемуся физическим трудом. Лексемы интеллигенция, интеллигент и интеллигентный (эта лексема не характерна для данного кластера) выступают как нейтральные характеристики этой группы; лексема
интеллигентский может употребляться как нейтрально, так и негативно, обычно характеризуя мировоззрение, систему взглядов; остальные
лексемы имеют негативную окраску, подчеркивая недостаточную мужественность, безволие интеллигента, а также его избыточную рефлексию, неприспособленность к жизни, оторванность от реальности.
�310
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
311
Примеры:
1. Собственно, для того, чтобы получить постиндустриальное,
моделирующее общество, нужно перестроить социальную
структуру с вертикали на горизонталь и дать добро социальному носителю постиндустриального уклада – слою, в котором
будут соединены функции моделирования, реализации и управления (ныне разделенные между интеллигенцией, рабочими,
политической и экономической элитами) (А. Шубин. Социализм XXI века9);
2. Сашин папа размышлял о смысле бытия, регулярно принося домой
более чем скромную зарплату инженера по болванкам неизвестного предназначения, или младшего сотрудника вымершей полвека
назад науки, или учителя физики, или еще какого «недовостребованного» интеллигента (Т. Соломатина. Девять месяцев, или
«Комедия женских положений»);
3. Ничего плохого в интеллигентских философских метаниях нет,
пока эти интеллигенты не начинают призывы к насильственным
действиям по воплощению их бредовых идей (коллективный. Размышления на могиле Герцена);
4. Коллеги по новой работе удивлялись, как только этот заморыш
из интеллигентиков может так «держать дозу» (А. Белозеров.
Чайка);
5. И при чем здесь продавщица? Что за дурацкая интеллигентщина?
Ты бы никогда не стал говорить так с продавщицей… с незнакомой
тебе женщиной (Е. Гришковец. Город);
6. Простой российский инженер, мягкотелый интеллигент, совершает единственный в жизни Поступок и спасает женщину,
случайно оказавшуюся колдуньей (Ю. Никитин. Зубы
настежь)10;
7. Я не воровка – обиделась Ирина. Я интеллигентный человек. У
меня высшее образование (В. Токарева. Своя правда).
Комментарий: См. п. 14.3.2, 14.4.2, 14.5.2, 14.6.2.
«высоким» значением часто встречается и сниженное, интерпретирующее интеллигентов просто как некоторую субкультуру с особыми
моделями самопрезентации и осуществления коммуникации (см.
пример 4).
Примеры:
1. Белосельцев слушал интеллигентный, мягко грассирующий голос,
представлял лысоватую голову, осторожный вкрадчивый взгляд,
губы, аккуратно выбиравшие слова (А. Проханов. Господин Гексаген);
2. Тихонов не просто ходит, молчит, смотрит на небо, он показывает внутренний мир своего героя, в каждом движении чувствуется интеллигентность, ум и чувство собственного достоинства
(коллективный. 17 мгновений весны);
3. В жизни Н.Н. Соколов был удивительно скромным человеком,
типичным интеллигентом дореволюционной еще «закваски»
(Д. Власов. Стенография и ее рыцарь);
4. По историтческой библиотеке прохаживались седые интеллигенты в мешковатых джинсах, словно украденных у детей, из-под
пиджаков торчали свитера…(А. Терехов. Каменный мост).
Комментарий: См. п. 14.3.2, 14.4.2, 14.5.2, 14.6.2.
Завершая описание уровня А, следует отметить, что в целом ряде
случаев концептуальное содержание, к которому отсылает лексема,
относится одновременно к двум кластерам, представляя собой их
симбиоз, не допускающий разделения на отдельные части (например,
Образ настоящего, безупречного интеллигента, каоторый читает на
пяти языках, обожает Пруста и Селина, слушает Мессиана и Ксенакиса, рассждает о влиянии Купки на Ротко, а кроме того, подписывает правильные петиции и голосует за правильные партии и скорее умрет
с голоду, чем съест сайру с тарелки «Мадонна», – это образ из эротического сна провинциальной барышни (Д. Драгунский. Смоляное чучелко)). Этим случаям на рис. 23 соответствует заштрихованная область.
Кластер 2
Основные конструкции: интеллигентный, интеллигентно, интеллигент, интеллигентность
Базовая схема: Лексемы, входящие в данный кластер, характеризуют не рационально формулируемые мировоззренческие постулаты,
а, скорее, стиль жизни, противостоящий «мещанским» ценностям,
стиль жизни, в котором этическая чуткость соединяется с тонким
эстетическим чувством. Этот стиль проявляется во внешности, интонации, жестах, манере общения, и других трудноуловимых и
ускользающих от рационального описания чертах. Наряду с таким
Уровень В
Кластер 3
Основные конструкции: интеллигенция, интеллигент, интеллигентский, интеллигентный
Базовая схема: Прежде всего, необходимо сформулировать три
ключевых вопроса, на которые отвечают предлагаемые различными
авторами интерпретации категории интеллигенция: а) кого следует
относить к интеллигенции; б) когда появилась интеллигенция;
в) представляет ли собой интеллигенция исключительно русское
явление. Интерпретации, относящиеся к данному кластеру, можно
�312
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
обозначить как социально-экономические. Они отвечают на поставленные вопросы следующим образом: а) к интеллигентам следует
относить людей умственного труда, т. е. тех, кто занимается различными формами умственной деятельности; б) интеллигенция была
всегда (шамана в первобытной культуре и жреца в Древнем Египте
можно считать интеллигентами); в) интеллигенция представляет собой универсальное явление, в каждом обществе есть своя интеллигенция. Такие интерпретации характерны, в первую очередь, для
марксистской идеологии, но впервые они формулируется, вероятно,
в среде «народников-почвенников» (В.В. Воронцов, И.И. Каблиц
(Юзов) и др.).
Примеры: См. приведенное выше толкование лексемы интеллигенция в БАСРЯ.
Кластер 4
Основные конструкции: интеллигенция, интеллигент, интеллигентский, интеллигентный
Базовая схема: Данная группа интерпретаций может быть условно
обозначена как с о ц и а л ь н о - э т и ч е с к а я . Она отвечает на поставленные выше вопросы следующим образом: а) к интеллигенции относятся люди с определенным мировоззрением и системой ценностей;
их образовательный уровень и род деятельности не имеют решающего
значения; б) – в) интеллигенция представляет собой чисто русское
явление, не имеющее прямых аналогов на Западе; по наиболее распространенной точке зрения, интеллигенция появилась в последней
четверти XVIII в. (хотя есть авторы, связывающие ее появление с именем Петра I или относящие его к 30-м гг. XIX в.). Среди философов,
придерживающихся социально-этического взгляда на интеллигенцию,
следует назвать Р. Иванова-Разумника, Н. Бердяева, С. Булгакова,
Г. Федотова и др.
Примеры: см. выше п. 14.4.1.
Примечания
См.: Доброхотов 1986, с. 6–14; Глебкин 1994, с. 24–32.
2
Содержание этой главы в значительной степени воспроизводит работу: Глебкин 2007в,
а также: Глебкин 2002, Глебкин 2002б.
3
Комментарий к этому примеру см. в Глебкин 2002б, с. 101.
4
На этот фрагмент впервые указал С.О. Шмидт (Шмидт 1996).
5
О влиянии романа Чернышевского на современную ему культуру см., напр.: Паперно
1996.
6
См, напр., запись в дневнике А.В. Никитенко от 25 февраля 1864 г.: «Что поляки не
могут снести вида русского мужика, что они питают к нему вместе и антипатию и презрение, – это понятно, потому что действительно они образованнее, а русский мужик или
масса народа покоится еще в древнем варварском киммерийском мраке. Но непонятно то,
что они те же чувствования питают к так называемому образованному сословию: ведь они
1
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» ...
313
уж никак не выше его. Тот же умственный и нравственный разврат, та же пустота ума,
отсутствие всякого характера и пр. и пр. Их интеллигенция – такая же гадость, как и
наша, да у них еще хуже, с прибавкою католицизма. Тут поистине нечем гордиться и превозноситься перед нами» (Никитенко 1955–1956, т. 2, с. 413–414)).
7
Статья подписана: А. С-н.
8
Несмотря на то, что этот и следующий примеры выходят за рамки обозначенного периода, важно понимать, что и В. Маканин, и В. Кунин сформировались в его рамках и их
словоупотребление отражает привычные им реалии, а не новые веяния 90-х годов.
9
Данный и приводимые ниже примеры датированы периодом 2000–2012 гг.
10
http://fantlab.ru/work14798
�Заключение
Заключение
Сюжет данной монографии будет выглядеть незавершенным, если в
заключение не сказать несколько слов о главном методологическом
посыле, стоящем за данным исследованием. Его можно обозначить
как призыв к междисциплинарности.
Как известно, путь европейской культуры в Новое время связан с
разрушением средневекового холизма и расчленением средневекового
образа мира на все более и более мелкие фрагменты. Это проявляется
в религии (распад религиозной целостности на католичество и протестантизм в его разнообразных вариациях и формулирование идеи
толерантности как признания невозможности для каждой из враждующих сторон добиться победы), в политическом самосознании (движение от ромеев, подданных Римской империи, к гражданам национальных государств), указанная тенденция проявляется и в науке. Если на
закате Средневековья все знание аккумулируется в объемных «Суммах»
или трактатах «De rerum natura», то позднее из этого нерасчлененного
массива выделяются сначала физика, потом другие естественные науки, а в XIX–XX веках гуманитарная область также дробится на составные части. Раньше можно было говорить о двух фундаментальных
дисциплинах, охватывающих весь спектр гуманитарного и социального знания – истории и философии, теперь же появляются экономика,
психология, социология, лингвистика, политология и др.. В конце ХХ
века этот процесс доходит до своего логического предела: акмеология,
транзитология, конфликтология и тому подобные карликовые научные
«государства» претендуют на самостоятельную атрибутику и собственное «место под солнцем».
Следует признать, что такое фрагментирование областей научного
знания дало важные положительные результаты: появление различных
системно оформленных языков описания позволило уйти от размытого «философствования» и перейти к гораздо более четкому осмыслению
наукой своих границ, выработке отчетливых критериев научности и
образцов оформления научного текста. Однако чрезмерная специализация породила новые проблемы, которые с годами превращались во
все более заметный тормоз для развития науки. Человек и мир рас-
315
пались на отдельные фрагменты, и оборотной стороной скрупулезного, методологически выверенного описания отдельной дисциплиной
этих фрагментов стала потеря ощущения целого. Используя терминологию Т. Куна, науки в значительной степени свелись к разгадыванию
головоломок, часто придуманных искусственно и теряющих всякий
смысл при взгляде на местность с высоты птичьего полета. Идея «железного занавеса» стала важным элементом профессионального самоощущения. Факт появления исследователя-«иностранца» на уже
обжитой территории, попытка проблематизировать постулаты, ставшие
для ее обитателей чем-то самоочевидным, обычно воспринимаются
как опасная провокация и вызывают резкую охранительную реакцию.
Глубина профессиональных деформаций становится особенно наглядной, когда ученые из смежных областей обращаются к одному и
тому же сюжету и интерпретируют его на своем языке, или, более того,
используют одни и те же категории в различном значении. Тогда стремление к отстаиванию «чистоты веры» заметно сужает возможности для
конструктивного научного диалога и порождает массу досадных недоразумений. В частности, значительная часть монографии Глебкин 2010
посвящена описанию расхождений в представлениях о мышлении,
доминирующих среди философов и психологов, а также проблем, к
которым это расхождение ведет при интерпретации результатов конкретных исследований.
Выход из данной ситуации один – работа в междисциплинарном
поле. Разумеется, такая работа содержит в себе серьезные риски:
часто отказ от дисциплинарных границ влечет за собой отказ от научной строгости, и научное исследование редуцируется до не связывающей себя никакими обязательствами около- или псевдонаучной
эссеистики. Другая опасность состоит в методологической эклектике,
в использовании не согласованных друг с другом или даже противоречащих друг другу элементов инструментария, заимствованных из
различных дисциплин. Часто упоминаемый в этом контексте принцип
дополнительности Бора предполагает, прежде всего, наличие общего
основания для сопоставления полученных в рамках разных парадигм
результатов. Междисциплинарность требует новых подходов в построении методологического каркаса теории, но при этом открывает
возможность и для более критического взгляда на уже освоенное
дисциплинарное пространство. Взгляд на это пространство со стороны, с принципиально иной позиции, ведет к «остранению» кажущихся очевидными постулатов и правил, к большей методологической
рефлексии.
Высказанные соображения самым непосредственным образом
связаны с сюжетом данной книги. Понимание языка как когнитив-
�316
Заключение
ного феномена предполагает включение лингвистики в поле дисциплин, формирующих структуру когнитивной науки (психология,
нейрофизиология, теория искусственного интеллекта и т. д.), восприятие языка как социокультурного явления невозможно без непосредственной ее корреляции с культурологией, социологией,
социальной и культурной антропологией. Указанный путь чреват
многими рисками, но ему нет альтернативы, если мы хотим восстановить на новом уровне утраченную целостность восприятия
мира.
Приложения
�Сокращения
Arist. – Аристотель (Metaph. – Метафизика; Eth. Nicom. – Никомахова этика; Phys. – Физика).
Aesch. – Эсхил (Sept. – Семеро против Фив)
Apollod. – Аполлодор
Cic. – Цицерон (Tusc. Disput. – Тускуланские беседы)
D.S. – Диодор Сицилийский
Eur. – Еврипид (Andr. – Андромаха)
Her. – Геродот
Horat. – Гораций (Epist. – Послания)
Parmen. – Парменид
Paus. – Павсаний
Pl. – Платон (Crat. – Кратил; Clit. – Клитофон; Phil. – Филеб,
Phd. – Федон; RP – Государство; Sym. – Пир; Tht. – Теэтет;
Tym. – Тимей)
Plut. – Плутарх (Per. – Перикл)
Soph. – Софокл (OT – Царь Эдип)
S.Th. – Сумма теологии
Thuc. – Фукидид
ВЕ – Вестник Европы
НКРЯ – Национальный корпус русского языка
ОЗ – Отечественные записки
�Литература
Литература
Аксаков 2002 – Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в России?
М.: РОССПЭН, 2002.
Андреев 1988 (1911) – Андреев Л.Н. Правила добра // Андреев Л.Н.
Рассказы. Сатирические пьесы. Фельетоны. М.: Правда, 1988.
С. 157–183.
Апресян 1990 – Апресян Ю.Д. Формальная модель языка и представление лексикографических знаний // Вопросы языкознания. № 6.
М., 1995. С. 123–139.
Апресян 1994 – Апресян Ю.Д. О языке толкований и семантических
примитивах // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 53, № 4.
М., 1994. С. 27–40.
Апресян 1995 (1974) – Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 1. Лексическая семантика. М.: Шк. Языки рус. культуры: Издат. фирма «Восточная литература» РАН, 1995.
Апресян 1995а – Апресян Ю.Д. О языке толкований и семантических
примитивах // Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. II. Интегральное
описание языка и системная лексикография. М.: Шк. Языки русской культуры, 1995. С. 466 – 484.
Апресян 1995б – Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. № 1. М.,
1995. С. 37–67.
Апресян 2006 – Языковая картина мира и системная лексикография /
Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М.: Языки славянских культур, 2006.
Апресян 2006a – Апресян Ю.Д. Основания системной лексикографии // Языковая картина мира и системная лексикография. М.:
Языки славянских культур, 2006. С. 33–162.
Апресян 2009 – Апресян Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии. Т. 1. Парадигматика. М.: Языки славянских культур, 2009.
Апресян 2010 – Апресян Ю.Д. Введение // Проспект активного словаря русского языка. М.: Языки славянских культур, 2010. С. 17–
55.
Араева и др. 2010 – Араева Л.А., Осадчий М.А., Шабалина А.Н. Множественная мотивация, полисемия, омонимия в аспекте пропози-
321
циональной организации гнезда однокоренных слов // Вестник
Алтайской государственной педагогической академии. № 4, 2010.
С. 38-47.
Арманд 1999 – Арманд А.Д. Кризисы в эволюции звезд // Анатомия
кризисов. М.: Наука, 1999.
Арутюнова 1991 – Арутюнова Н.Д. От редактора // Логический анализ
языка. Культурные концепты. М.: Наука, 1991.
Арутюнова 1993 – Арутюнова Н.Д. Введение // Логический анализ
языка. Ментальные действия. М.: Наука, 1993.
Арутюнова 1999 – Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: Языки
русской культуры, 1999.
Архангельский 2007 – Архангельский А. Свободы деятель пустынный //
Октябрь, № 4, 2007. С. 173–181.
БАСРЯ 2004– – Большой академический словарь русского языка. М.,
2004–.
Бергсон 2001 (1907) – Бергсон А. Творческая эволюция. М.: ТЕРРАКнижный клуб; КАНОН-пресс-Ц, 2001.
Бердяев, 1955 – Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма.
Париж: YMCA-PRESS, 1955.
Бердяев 1991 (1909) – Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909–1910.
М.: Молодая гвардия, 1991. С. 24–42.
Богданов 2003 (1922) – Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука. М.: Финансы, 2003.
Бор 1961 – Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М.: Издательство иностранной литературы, 1961.
Бородай, 1984 – Бородай Т.Ю. Семантика слова chora у Платона //
Вопросы классической филологии. VIII. М.: Изд-во МГУ, 1984.
C. 58–72.
Булгаков 1991 (1909) – Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество // Вехи;
Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909–1910. М., 1991. С. 43–84.
Вебер 1995 (1924) – Вебер А. Германия и кризис европейской культуры // Культурология. ХХ век: Антология. М.: Юрист, 1995. С. 281–
296.
Вебер 1995а (1904) – Вебер М. «Объективность» познания в области
социальных наук и социальной политики // Культурология. ХХ век:
Антология. М.: Юрист, 1995. С. 557–603.
Вежбицкая 2001 – Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. М.: Языки славянской культуры,
2001.
Величковский 2006 – Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы
психологии познания: в 2 т. М.: Смысл: Изд. центр «Академия»,
2006.
�322
Литература
Вертгеймер 1987 (1943) – Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М.:
Прогресс, 1987.
Витгенштейн 1994 (1953) – Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгештейн Л. Философские работы. Часть I. М.: Гнозис,
1994. С. 75–319.
Виноградов 1977 – Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология
и лексикография. М.: Наука, 1977.
Виноградов 1995 – Виноградов В.В. Слово и значение как предмет
историко-лексикологического исследования // Вопросы языкознания. 1995. № 1. С. 5–34.
Волков 1999 – Волков С.В. Интеллектуальный слой в советском обществе // Русский исторический журнал. М: РГГУ, 1999. Т. 2. № 1.
С. 19–53.
Выготский 1982 (1934) – Выготский Л.С. Мышление и речь // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. – М.: Педагогика, 1982. Т. 2.
С. 5–361.
Выготский 1983 (1931) – Выготский Л.С. История развития высших
психических функций // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В
6 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 3. С. 5–328.
Выготский 1984 (1933/34) – Выготский Л.С. Кризис первого года жизни // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Педагогика,
1984. Т. 4. С. 318–339.
Выготский 1984а (1933/34) – Выготский Л.С. Раннее детство // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Педагогика, 1984. Т. 4.
С. 340–367.
Выготский 2004 (1933) – Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом
развитии ребенка // Выготский Л.С. Психология развития ребенка.
М.: Изд-во «Смысл», Издательство «Эксмо», 2004. С. 200–223.
Выготский 2004а (1928/9) – Выготский Л.С. Предыстория письменной
речи // Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М.: Смысл:
Эксмо, 2004. С. 421–452.
Вяземский 1882 – Вяземский П.А. Допотопная или допожарная Москва // Вяземский П.А. Полное собрание сочинений. Т. 7. Спб.: Изд.
гр. С.Д. Шереметьева, 1882. С. 80–116.
Гадамер 1988 – Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988.
Гадамер 1991 – Гадамер Г.-Г. Философские основания ХХ века // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 16–25.
Гадамер 1991а – Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 72–82.
Гарэн 1986 – Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М.: Прогресс, 1986.
Гайденко 1970 – Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. М.: Искусство,
1970.
Литература
323
Гайденко 2003 – Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
Гайденко, Смирнов 1989 – Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Западноевропейская наука в средние века. М.: Наука, 1989.
Гаспаров 1999 – Гаспаров М.Л. Русская интеллигенция как отводок
европейской культуры // РОССИЯ/RUSSIA. Вып. 2 [10]: Русская
история и западный интеллектуализм: история и типология. М.:
О.Г.И., 1999. С. 20–27.
Гаспаров 1999а – Гаспаров М.Л. Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность // Русская интеллигенция. История и судьба. М.: Наука, 1999. С. 5–14.
Гвардини 1990 – Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. М., 1990. № 4. C. 127–163.
Гинзбург 2010 – Гинзбург Е.Л. Словообразвание и синтаксис. М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.
Герцен 1956 (1856) – Герцен А.И. Сочинения в 9 томах. Т. 5. Былое и
думы. Ч. 4-5. М.: Государственное издательство художественной
литературы, 1956.
Гладкова 2010 – Гладкова А. Русская культурная семантика. М.: Языки
славянской культуры, 2010.
Глазов 2001 (1973) – Глазов Ю.Я. Тесные врата. Возрождение русской
интеллигенции. Спб.: Изд-во журнала «Звезда», 2001.
Глебкин 1994 – Глебкин В.В. Наука в контексте культуры. «Начала»
Евклида и «Цзю чжан суань шу». М.: Интерпракс, 1994.
Глебкин 1998 – Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. М.: Янус-К,
1998.
Глебкин 2000 – Глебкин В.В. Мир в зеркале культуры. Ч. 1. Первобытная и традициональная культура, культура Древнего Египта, культура Древней Месопотамии. М.: Добросвет, 2000.
Глебкин 2002 – Глебкин В.В. Интеллигентный диссидент: тавтология или оксюморон? // Культура и власть в условиях коммуникационной революции ХХ века. М.: АИРО-ХХ, 2002. С. 416–
432.
Глебкин 2002а – Глебкин В.В. Теоретическое мышление как культурноисторический феномен. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата философских наук. М., 2002.
Глебкин 2002б – Глебкин В.В. Можно ли «говорить ясно» об интеллигенции? // Труды по культурной антропологии. М.: Восточная литература, 2002. С. 91–116.
Глебкин 2005 – Глебкин В.В. Что мы имеем в виду, говоря о кризисе
культуры? // Дискурс. М.: РГГУ, 2005. № 12/13. С. 23–35.
Глебкин 2007 – Глебкин В.В. Проблема мышления в философии //
Развитие личности. М., 2007. № 2. С. 162–193.
�324
Литература
Глебкин 2007а – Глебкин В.В. Проблема мышления в психологии //
Развитие личности. М., 2007. № 3. С. 108–137.
Глебкин 2007б – Глебкин В.В. Критика семантического разума // Вестник РГГУ. Сер. «Языкознание». М.: РГГУ, 2007. № 8. С. 10–40.
Глебкин 2007в – Глебкин В.В. Интеллигенция // Культурология. Энциклопедия. В 2 т. М.: РОССПЭН, 2007. Т. 1. С. 771–779.
Глебкин 2007г – Глебкин В.В. Мещанство // Культурология. Энциклопедия. В 2 т. М.: РОССПЭН, 2007. Т. 1. С. 1312–1314
Глебкин 2007д – Глебкин В.В. Пошлость // Культурология. Энциклопедия. В 2 т. М.: РОССПЭН, 2007. Т. 2. С. 242–244.
Глебкин 2007е – Глебкин В.В. Скука // Культурология. Энциклопедия.
В 2 т. М.: РОССПЭН, 2007. Т. 2. С. 493–494.
Глебкин 2007ж – Глебкин В.В. Советская культура // Культурология.
Энциклопедия. В 2 т. М.: РОССПЭН, 2007. Т. 2. С. 510–520.
Глебкин 2007з – Глебкин В.В. Экзистенциал // Культурология. Энциклопедия. В 2 т. М.: РОССПЭН, 2007. Т. 2. С. 1026–1027.
Глебкин 2007и – Глебкин В.В. Советская культура 20–30-х годов: поиск
методологических ориентиров // Культурно-историческая психология. № 4, 2007. С. 50–58.
Глебкин 2009 – Глебкин В.В. Число у Плотина и Августина // Число.
М.: МАКС Пресс, 2009. С. 264–272.
Глебкин 2009а – Глебкин В.В. Методологическая революция XX века
и ее итоги // Исследователь/Researcher. № 1, 2009. C. 82–88.
Глебкин 2010 – Глебкин В.В. Мышление и эмоции в междисциплинарной перспективе. M.: Модерн-А; Центр гуманитарных инициатив,
2010.
Глебкин 2012 – Глебкин В.В. Метафора механизма и теория концептуальной метафоры Лакоффа-Джонсона // Вопросы языкознания.
№ 3, 2012. С. 51-68.
Глебкин 2012а – Глебкин В.В. Когнитивные основания метонимии и
метафоры // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 71, №4,
2012. С. 12-19.
Глебкин 2013 – Глебкин В.В. Теория концептуальной интеграции Ж.
Фоконье и М. Тернера: опыт системного анализа // Вопросы философии. № 9, 2013. С. 161-174.
Голикова 2002 – Голикова Л.В. О природе социальных процессов //
Кризис как иррациональное явление: Сб. материалов межвузовской
научной конференции. Вып. 1. Магнитогорск: МГТУ, 2002.
Гоббс 1991 (1651) – Т. Гоббс. Левиафан, или материя, форма и власть
государства церковного и гражданского // Гоббс Т. Сочинения в 2 т.
М.: Мысль, 1991. Т. 2. С. 3–545.
Градовский 2001 – Градовский А.Д. Задача русской молодежи // Градовский А.Д. Сочинения. СПб.: Наука, 2001. С. 474–484.
Литература
325
Гудков, Дубин 1994 – Гудков Л., Дубин Б. Идеология бесструктурности
(интеллигенция и конец советской эпохи) // Знамя. М., 1994. № 11.
С. 166–179.
Гуссерль 1992 (1936) – Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Вопросы философии. М., 1992.
№ 7. С. 136–176.
Гуссерль 1986 (1935) – Гуссерль Э. Кризис европейского человечества
и философия // Вопросы философии, 1986. № 3. C. 101–116.
Демьянков 2001 – Демьянков В.З. Понятие и концепт в художественной литературе и в научном языке // Вопросы филологии, 2001.
№ 1. С. 35–47.
Демьянков 2007 – Демьянков В.З. Термин «концепт» как элемент терминологической культуры // Язык как материя смысла: Сборник
статей в честь академика Н.Ю. Шведовой. М.: Издательский центр
«Азбуковник», 2007. С. 606–622.
Джемс 1991 (1890) – Джемс У. Психология. М.: Педагогика, 1991.
Джеммер 1985 – Джеммер М. Эволюция понятий квантовой механики.
М.: Наука, 1985.
Дильтей 1995 (1912) – Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение
их в метафизических системах // Культурология. ХХ век. М.: Юрист,
1995. С. 213–255.
Доброхотов 1986 – Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической
западноевропейской философии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.
Дьюи 1999 (1910) – Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления
(Как мы мыслим). М.: Лабиринт, 1999.
Живов 1996 – Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М.:
Школа «Языки русской культуры», 1996.
Жильсон 2004 – Жильсон Э. Философия в средние века. М.: Республика, 2004.
Жуковский 1994 – Жуковский В.А. Из дневников 1827–1840 гг. // Наше
наследие. 1994. № 32. С. 35–47.
Зализняк и др. 2005 – Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.
Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005.
Зализняк и др. 2012 – Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.
Константы и переменные русской языковой картины мира. М.:
Языки славянской культуры, 2012.
Зябухина 2009 – Зябухина П. Метафора «время – деньги» в русской
литературе. Курсовая работа. М., 2009.
Иванов-Разумник 1910 – Иванов-Разумник Р.В. Об интеллигенции.
СПб., 1910.
Иванов-Разумник 1911 – Иванов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли. Т. 1, СПб: Типография М.М. Стасюлевича, 1911.
�326
Литература
Каблиц 1886 – Каблиц И.И. Интеллигенция и народ в общественной
жизни России. СПб.: тип. Н.А. Лебедева, 1886.
Карасик 2002 – Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты,
дискурс. Волгоград: Перемена, 2002.
Касатонов 2011 – Касатонов В.Н. Метафизическая математика XVII в.
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.
Кезин 2006 – Кезин А.В. Натуралистические подходы в эпистемологии
ХХ века. М: ИНИОН РАН, 2006.
Келер 1998 (1917) – Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян // Основные направления психологии в классических трудах. Гештальт-психология. М.: АСТ, 1998. С. 33 – 280.
Киреева 2010 – Киреева Д.М. Метафорическое переосмысление концептосферы <Head> /<голова> в английском и русском языках.
Дисс. … кандидата филологических наук. Горно-Алтайск, 2010.
Ключевский 1987–1990 – Ключеский В.О. Сочинения в 9 т. М.: Мысль,
1987–1990.
Ковальчук 2011 – Ковальчук Л.П. Теория концептуальной интеграции
Ж. Фоконье и М. Тернера // Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 1(8), 2011.
Ковальчук 2012 –Ковальчук Л.П. Концептуальная интеграция исходного пространства «женщина» в сказочном дискурсе (на материале
русских и английских народных сказок). Диссертация … кандидата
филологических наук. Челябинск, 2012.
Колпстон 1997 – Колпстон Ф.Ч. История средневековой философии.
М.: Энигма, 1997.
Кормер 1989 (1970) – Кормер В.Ф. Двойное сознание интеллигенции
и псевдокультура // Вопросы философии. 1989. № 9. С. 65–79.
Кравченко 2001 – Кравченко А.В. Знак, значение, знание. – Иркутск:
Издание ОГУП «Иркутская областная типография № 1», 2001.
Красс 2000 – Красс Н.А. Концепт дерева в лексико-фразеологической
семантике русского языка (на материале мифологии, фольклора и
поэзии). Диссертация… кандидата филологических наук. М.: РУДН,
2000.
Кронгауз 2005 – Кронгауз М.А. Семантика. М.: Издат. центр «Академия», 2005.
Крылова 2006 – Крылова Т.В. Наивно-языковые представления о
вежливости и обслуживающая их лексика // Языковая картина мира
и системная лексикография / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М.: Языки
славянских культур, 2006. C. 241–404.
Кубрякова 2002 – Кубрякова Е.С. О современном понимании термина
«концепт» в лингвистике и культурологии // Реальность, язык, сознание: Международный межвузовский сборник научных трудов.
Вып. 2. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2000.
Литература
327
Кубрякова 2004 – Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения
знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль
языка в познании мира. М.: Языки славянской культуры, 2004.
Кузнецова 2005 – Кузнецова Л.Э. Любовь как лингвокультуральный
эмоциональный концепт: ассоциативный и гендерный аспекты.
Диссертация… кандидата филологических наук. Краснодар, 2005.
Кузьмин 1996 – Кузьмин С.А. Социальные системы: опыт структурного анализа. М.: Наука, 1996.
Кун 1977 (1962) – Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс,
1977.
Куренной 2006 – Куренной В. Теория мифа // Неприкосновенный
запас. М., 2006. № 3 (47). С. 39–47.
Лавровский 1861 – Л...й П. [= П.А. Лавровский]. Южнорусский элемент в Австрии // Санкт-Петербургские ведомости. 1861. № 73.
Лакатос 1995 (1968) – Лакатос И. Фальсификация и методология
научно-исследовательских программ. М.: Медиум, 1995.
Леви-Брюль 1994 – Леви-Брюль Л. Первобытное мышление // ЛевиБрюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.:
Педагогика-Пресс, 1994. С. 7–372.
Левин 2000 – Левин К. Теория поля в социальных науках. Спб.: «Сенсор», 2000.
Левонтина 2006 – Левонтина И.Б. Понятие цели и семантика целевых
слов русского языка // Языковая картина мира и системная лексикография / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М.: Языки славянских культур,
2006. C. 163–240.
Лейбниц 1982 (1710) – Лейбниц Г.-В. Монадология // Лейбниц Г.-В.
Сочинения. В 4 т. М.: Мысль, 1982. Т. 1. С. 413–429.
Лейбниц 1983 (1703 – 1704) – Лейбниц Г.-В. Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии //
Лейбниц Г.-В. Сочинения. В 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 2. С. 47–545.
Лейбниц 1984 (1678) – Лейбниц Г.-В. Что такое идея // Лейбниц Г.-В.
Сочинения. В 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 3. С. 103–104.
Лейбниц 1984а – Лейбниц Г.-В. Об универсальной науке, или философском исчислении // Лейбниц Г.-В. Сочинения. В 4 т. М.: Мысль,
1984. Т. 3. С. 494–500.
Лейбниц 1989 (1710) – Лейбниц Г.-В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла // Лейбниц Г.-В. Сочинения в
четырех томах: Т. 4. – М.: Мысль, 1989. – С. 49–413.
Лихачев 1997 – Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская
словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология.
М.: Academia, 1997. С. 280-287.
Логический анализ 1991 – Логический анализ языка. Культурные концепты. М.: Наука, 1991.
�328
Литература
Лосев 1994 (1930) – Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Миф–
Число–Сущность. М.: Мысль, 1994. С. 5–216.
Лотман 1992 –Лотман Ю.М. Риторика // Лотман Ю.М. Избранные
статьи. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн:
Александра, 1992. C. 167–183.
Лотман 1994 – Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб.: Искусство – СПБ, 1994.
Лотман 1996 – Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры
XVIII – начала XX века // Из истории русской культуры. Т. IV
(XVIII – начало XIX века). М.: Языки русской культуры, 1996.
Луначарский 1906 – Луначарский А.В. Отклики жизни. СПб: О.Н. Попова, 1906.
Луначарский 1924 – Луначарский А.В. Интеллигенция в ее прошлом,
настоящем и будущем. М.: Новая Москва, 1924.
Лурия, 1974 – Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных
процессов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974.
Лурия, 1979 – Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: Изд-во Моск. ун-та,
1979.
Лурия 1994 – Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. М.:
Эйдос, 1994.
Мельчук 1995 – Мельчук И.А. Русский язык в модели «Смысл-Текст».
М.; Вена: Школа «Языки русской культуры», Венский славистический альманах, 1995.
Мельчук 1997 – Мельчук И.А. Курс общей морфологии. Т. 1. М.: Вена:
«Языки русской культуры»: Венский лингвистический альманах:
Издательская группа «Прогресс», 1997.
Мельчук 1999 – Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей
«Смысл – Текст». М.: Языки русской культуры, 1999.
Мережковский 1991 (1906) – Мережковский Д.С. Грядущий хам //
Мережковский Д.С. «Больная Россия». Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.
С. 11–110.
Милюков 1902 – Милюков П.Н. Из истории русской интеллигенции.
СПб.: Знание, 1902.
Милюков 1991 (1910) – Милюков П.Н. Интеллигенция и историческая
традиция // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909–1910. М.,
1991. С. 294–381.
Мироненко-Макарова 2009 – Мироненко-Макарова И.К. Концепт
святости в культурной традиции России и Франции XIX столетия.
Диссертация … кандидата исторических наук. М.: РГГУ, 2009.
Михайловский 1897 – Михайловский Н.К. Записки современника //
Михайловский Н.К. Сочинения. Т. 5. СПб.: Типолитография
Б.М. Вольфа, 1897. С. 391–703.
Литература
329
Никитенко 1955–1956 – Никитенко А.В. Дневник в трех томах. Л.: Гос.
изд-во художественной литературы, 1955–1956.
НОССРЯ 1997 – Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. М.: Языки славянской культуры,
1997.
НОССРЯ 2000 – Новый объяснительный словарь синонимов русского
языка. Второй выпуск. М.: Языки славянской культуры, 2000.
НОССРЯ 2003 – Новый объяснительный словарь синонимов русского
языка. Третий выпуск. М.: Языки славянской культуры, 2003.
Ожегов 1990 – Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык,
1990.
Онианс 1999 – Онианс Р. На коленях богов. М.: Прогресс-Традиция,
1999.
Паперно 1996 – Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение, 1996.
Петр Великий 1900 – Письма и бумаги Петра Великого. Т. 4 (1706).
Спб.: Государственная типография, 1900.
Петрова 2006 – Петрова М.Л. Концепт «свой/чужой» в журналистике
и литературе России и Франции на рубеже XX–XXI вв. Диссертация… кандидата филологических наук. М.: РГГУ, 2006.
Пиаже, 1994 – Пиаже Ж. Психология интеллекта // Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М.: Международная педагогическая академия, 1994. С. 51–236.
Плотинский 2001 – Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов.
М.: Логос, 2001.
Подзолкова 2005 – Подзолкова Н.В. Концепт «одиночество» в немецкой и русской лингвокультурах. Диссертация… кандидата филологических наук. Волгоград: Волгоградский государственный педагогический университет, 2005.
Померанц 1995 (1969) – Померанц Г. Человек ниоткуда // Померанц Г.
Выход из транса. М.: Юрист, 1995. С. 103–145.
Поппер 1983 – Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983.
Приходько 1999 – Приходько Е.В. Двойное сокровище. М.: ПрогрессТрадиция, 1999.
Прохоров 2006 – Прохоров Ю.Е. Концепт, текст, дискурс в структуре
и содержании коммуникации. Диссертация … доктора филологических наук. М.-Екатеринбург, 2006.
Пушкин 1949 (1824) – Пушкин А.С. <Причинами, замедлившими
ход нашей словесности…> // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Критика и публицистика. 1819–1834. М., 1949. Т. 11.
С. 21.
�330
Литература
Пятаева 2006 – Пятаева Н.В. Антропоцентрический и системоцентрический принципы лингвистики в динамическом исследовании
лексических гнезд. Уфа: Гилем, 2006.
Романов 1978 – Романов В.Н. Древнеиндийские представления о царе
и царстве // Вестник древней истории. № 4, 1978. С. 26−33.
Романов 1991 – Романов В.Н. Историческое развитие культуры. Проблемы типологии. М.: Наука, 1991.
Романов 2003 – Романов В.Н. Историческое развитие культуры.
Психолого-типологический аспект. М.: Издатель Савин С.А.,
2003.
Сабуров 2006 – Сабуров Е. Разбухающая прослойка // Неприкосновенный запас. М., 2006. № 3 (47). С. 14–17.
Самухин и др. 1981 (1934) – Самухин Н.В., Биренбаум Г.В., Выготский Л.С. К вопросу о деменции при болезни Пика // Хрестоматия
по патопсихологии. М.: Издательство Московского университета,
1981. С. 114–149.
Сартр 1989 (1946) – Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм //
Сумерки богов. М.: Издательство политической литературы, 1989.
С. 319–344.
Свендсен 2003 – Свендсен Ларс. Философия скуки. М.: ПрогрессТрадиция, 2003.
Селищев 1928 – Селищев А.М. Язык революционной эпохи. М.: Работник просвещения, 1928.
Сидорина 2002 – Сидорина Т.Ю. Парадоксы кризисного сознания. М.:
РГГУ, 2002.
Скребцова 2000 – Скребцова Т.Г. Американская школа когнитивной
лингвистики. СПб.: Анатолия, 2000.
Скребцова 2002 – Скребцова Т.Г. Языковые бленды в теории концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера // Respectus
philologicus, 2002, № 2 (7).
Скребцова 2011 – Скребцова Т.Г. Когнитивная лингвистика: курс лекций. СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2011.
Словарь 1997 – Словарь русского языка XVIII века. Вып. 9 (Из – Каста).
СПб.: Наука, 1997.
Солженицын 1991 (1974) – Солженицын А.И. Образованщина // Новый мир. М., 1991. № 5. С. 28–46.
Соловьев 2005 – Соловьев В.Д. К методологии описания синонимии
(на материале эмотивной лексики русского языка) // Эмоции в
языке и речи. М.: РГГУ, 2005. С. 86–105.
Степанов 2001 – Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Академический Проект, 2001.
Тестелец 2001 – Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ,
2001.
Литература
331
Тихонов 1996 – Тихонов А.Н. Гнездовые словари русского языка //
Глагол и имя в русской лексикографии: вопросы теории и практики.
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1996.
С. 75-87.
Ткаченко 2008 – Ткаченко Г.А. Избранные труды. Китайская космология и антропология. М.: OOO «РАО Говорящая книга», 2008.
Толстой 1965 – Толстой Л.Н. Собрание сочинений. Т. 17. Письма. М.:
Художественная литература, 1965.
Томаселло 2011 – Томаселло М. Истоки человеческого общения. М.:
Языки славянских культур, 2011.
Тульвисте 1988 – Тульвисте П. Культурно-историческое развитие вербального мышления. Таллин: Валгус, 1988.
Урысон 2003 – Урысон Е.В. Проблемы исследования языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2003.
Успенский 1999 – Успенский Б.А. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // РОССИЯ/RUSSIA. Вып. 2 [10]:
Русская история и западный интеллектуализм: история и типология.
М.: О.Г.И., 1999. С. 7–19.
Федотов, 1991 (1926) – Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции // Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии
русской истории и культуры): В 2 т. Спб.: София, 1991. Т. 1. С. 66–
101.
Филлмор 1983 – Филлмор Ч. Основные проблемы лексической семантики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М.: Радуга, 1983.
С. 74–122.
Филлмор 1988 – Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. М.: Прогресс, 1988.
С. 52–93.
Франк 1991 (1909) – Франк С.Л. Этика нигилизма // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909–1910. М., 1991. С. 153–184.
Фрумкина 1985 – Фрумкина Р.М. Смысл и сходство // Вестник языкознания. № 1, 1985. С. 22–31.
Фрумкина 1991 – Фрумкина Р.М. Интерпретация смыслов: признаки
и целостности // Семантика и категоризация. М.: Наука, 1991.
С. 128–143.
Фрумкина 2001 – Фрумкина Р.М. Вокруг детской речи: методологические размышления // Российская Академия наук. Известия
Академии наук. Сер. литературы и языка. Т. 60. № 2, 2001. С. 33–
39.
Фрумкина 2007 – Фрумкина Р.М. Психолингвистика: Учеб. пособие.
М.: Академия, 2007.
Фрумкина, Михеев 1985 – Фрумкина Р.М., Михеев А.В. «Свобода» и
«нормативность» в экспериментах по свободной классификации //
�332
Литература
Лингвистические и психолингвистические структуры речи. М., 1985.
С. 78 – 93.
Хайдеггер 2003 (1927) – Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков: Фолио,
2003.
Хайдеггер 2007 (1962) – Хайдеггер М. Время и бытие // Хайдеггер М.
Время и бытие. Спб.: Наука, 2007. С. 541–562.
Холькин 2002 – Холькин Р.В. Кризис как социально-философская
категория // IV Социологические чтения преподавателей, аспирантов и студентов, посвященные 150-летию со дня рождения М.М. Ковалевского (доклады, выступления, сообщения). Пенза, 2002.
Хомский 2005 (1966) – Хомский Н. Картезианская лингвистика. М.:
КомКнига, 2005.
Хоркхаймер, Адорно 1997 (1948) – М. Хоркхаймер, Т. Адорно. Диалектика Просвещения. М., Спб.: Медиум, Ювента, 1997.
Хархордин 2002 – Понятие государства в четырех языках / Ред. Хархордин О. СПб., М.: ЕУСПб-Летний Сад, 2002.
Швейцер 1992 (1923) – Швейцер А. Культура и этика // Швейцер А.
Благоговение перед жизнью. М.: Прогресс, 1992. С. 81–239.
Шендерович 2002 – Шендерович В. «Здесь было НТВ» и другие истории. М.: Захаров, 2002.
Ширшов 1996 – Ширшов И.А. Границы словообразовательного гнезда // Филологические науки. № 5, 1996. С. 43-54.
Шмелев 2002 – Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира. Материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры, 2002.
Шмидт 1996 – Шмидт С.О. К истории слова «интеллигенция» //
Россия–Запад–Восток. Встречные течения. К столетию со дня
рождения М.П. Алексеева. М., 1996. С. 409–417.
Шайкевич 2005 – Шайкевич А.Я. Русская языковая картина мира в
ряду других картинок // Московский лингвистический журнал. Т. 8,
№ 2. М., 2005. С. 5–21.
Якобсон 1990 (1956) – Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990.
С. 110–132.
Яковлева 1998 – Яковлева Е.С. О понятии «культурная память» в применении к семантике слова // Вопросы языкознания. № 3, 1998.
С. 43-73.
Ясперс 1991 (1948) – Ясперс К. Философская вера // Ясперс К. Смысл
и назначение истории. М.: Издательство политической литературы,
1991. С. 420–508.
Akhtar et al. 1996 – Akhtar N., Carpenter M., Tomasello M. The Role of
Discourse Novelty in Early Word Learning // Child Development, 1996.
V. 67. N. 2. P. 635–645.
Литература
333
Alexander 2011 – Alexander J. Blending in mathematics // Semiotica. V. 187,
2011.
Angier 2008 – Angier T. Aristotle’s Ethics and the Crafts: a Critic. Ph.D.
dissertation. Toronto: Univ. of Toronto, 2008.
Anttila 1989 – Anttila R. Historical and comparative linguistics. Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins publishing company, 1989.
Arata 2005 – L. Arata. The Definition of Metonymy in Ancient Greece //
Style, 2005. V. 39. N. 1, P. 55–71.
Barnden et al. 2004 – Barnden J., Glasbey Sh., Lee M., Wallington A.
Varieties and Directions of Interdomain Influence in Metaphor //
Metaphor and Symbol. V. 19. N. 1. 2004. P. 1–30.
Barry 1959 – Barry R. History of Christian Philosophy in the Middle Ages //
Journal of the History of Ideas. 1959. V. 20. N. 1. P. 105–110.
Barsalou 1999 – Barsalou L. Perceptual symbol systems // Behavioral and
brain sciences. – V. 22, 1999. P. 577–660.
Barsalou 2005 – Barsalou L. Abstraction as Dynamic Interpretation in Perceptual Symbol Systems // Building object categories in developmental
time. Gershkoff-Stowe L., Rakison D. (eds). Mahwah, N.J.: L. Erlbaum
Associates, 2005. P. 389–431.
Barsalou 2008 – Barsalou L. Grounded cognition // The Annual Review of
Psychology. 2008. V. 59. P. 617–645.
Barsalou 2010 – Barsalou L. Grounded cognition: Past, Present and Future //
Topics in Cognitive Science. 2010. V. 2. N. 4. P. 716–724.
Barsalou, Wiemer-Hastings 2005 – Barsalou L., Wiemer-Hastings K.
Situating abstract concepts // Grounding cognition: the role of perception
and action in memory, language, and thinking. Pecher D., Zwaan R. (eds.)
N.Y.: Cambridge Univ. Press, 2005. P. 129–163.
Barsalou etc. 2008 – Barsalou L., Santos A., Simmons K., Wilson Ch. Language
and simulation in conceptual processing // Symbols and embodiment:
debates on meaning and cognition. de Vega M., Arthur M. Glenberg A.,
Graesser A. (eds.) Oxford; N.Y.: Oxford Univ. Press, 2008. P. 245–283.
Barselona 2011 – Barselona A. Reviewing the properties and prototype
structure of metonymy // Defining metonymy in cognitive linguistics:
towards a consensus view. Benczes R., Barcelona A., Joseé Ruiz de
Mendoza Ibán˜ez F. (eds.). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins
Pub. Co., 2011. Р. 7–57.
Bartsch 2003 – Bartsch R. Generating polysemy: metaphor and metonymy /
Metaphor and metonymy in comparison and contrast. Dirven R.,
Pörings R. (eds.). Berlin, N.Y.: Mouton de Gruyter, 2003. P. 49–74.
Bennett 1916 – Bennett C. Bergson’s Doctrine of Intuition // The Philosophical Review. V. 25. N. 1. 1916. P. 45–58.
Bergen 2007 – Bergen B. Experimental methods for simulation semantics //
Methods in cognitive linguistics. Gonsales-Marquez M., Mittelberg I.,
�334
Литература
Coulson S., Spivey M. (eds.) Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins,
2007. P. 277–301.
Bernstein 1975 – Bernstein H.E. Boredom and the Ready-Made Life //
Social research. V. 42, N. 3. 1975. P. 512-537.
Bermúdez 2010 – Bermúdez J.L. Cognitive science: an introduction to the
science of the mind. Cambridge; N.Y.: Cambridge Univ. рress, 2010.
Bertman 1991 – Bertman M. Body and Cause in Hobbes: Natural and Political. Wakefield, New Hampshire: Longwood Academic, 1991.
Bloom et al. 1975 – Bloom L., Lightbown P., Hood L. Structure and variation in child language. Chicago (Ill.): Univ. of Chicago press, 1975.
Boroditsky, Ramscar 2002 – Boroditsky L., Ramscar M. The roles of body
and mind in abstract thought // Psychological science. V. 13. N. 2, 2002.
P. 185–189.
Bower, Morrow 1990 – Bower G., Morrow D. Mental Models in Narrative
Comprehension // Science. 1990. V. 247. P. 44–47.
Bowerman 1985 – Bowerman M. What Shapes Children»s Grammars? //
The Crosslinguistic Study of Language Acquisition. V. 2: Theoretical Issues. Hillsdate; New Jersey, 1985. P. 1257–1319.
Brandt 1986 – Brandt F. Thomas Hobbes’s Mechanical Conception of Nature. Copenhagen: Levin and Munksgaard, 1986.
Brandt 2005 – Brandt P.A. Mental spaces and cognitive semantics: A critical
comment // Journal of Pragmatics. V. 37, 2005.
Bruner 1990 – Bruner Jerome. Acts of Meaning. Cambridge, Mass.; L.:
Наrvard Univ. рress, 1990.
Byron 1977 – Byron T. Historical linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
Callaghan et al. 2011 – Callaghan T., Moll H., Rakoczy H., Warneken F.,
Liszkowski U., Behne T., Tomasello M. Early Social Cognition in Three
Cultural Contexts. Antigonish: St. Francis Xavier University, 2011
Carpenter et al. 2002 – Carpenter M., Call J., Tomasello M. Understanding «Prior Intentions» Enables Two-Year-Olds to Imitatively Learn a
Complex Task Author // Child Development. 2002. V. 73. N. 5. P. 1431–
1441.
Chomsky 1965 – Chomsky N. Aspects of the theory of syntax. Cambridge,
Mass.: MIT Press, 1965.
Chomsky 1995 – Chomsky N. The Minimalist Program. Cambridge, Mass.,
London: The MIT Press, 1995.
Chomsky 1995а – Chomsky N. Language and Nature // Mind, New Series.
V. 104. N. 413. 1995. P. 1–61.
Chomsky 1998 (1977) – Chomsky N. Language and responsibility // Chomsky N. On Language. N.Y.: The New Press, 1998.
Chomsky 1998a (1975) – Chomsky N. Reflections on language // Chomsky N. On Language. N.Y.: The New Press, 1998.
Литература
335
Chomsky 2000 – Chomsky N. New horizons in the study of language and
mind. Cambridge; New York: Cambridge Univ. рress, 2000.
Chomsky 2002 (1957) – Chomsky N. Syntactic structures. B.; N.Y.: Mouton:
de Gruyter, 2002.
Chomsky 2003 – Chomsky N. Reply to Lycan // Chomsky and his critics. –
Antony L., Hornstein N. (eds.). Malden, MA: Blackwell Pub., 2003.
P. 255–263.
Chomsky 2003a – Chomsky N. Reply to Horwich // Chomsky and his
critics. – Antony L., Hornstein N. (eds.). Malden, MA: Blackwell Pub.,
2003. P. 295–304.
Chomsky 2006 – Chomsky N. Language and mind. Cambridge etc:
Cambridge Univ. press, 2006.
Chomsky, Foucault 2006 – Chomsky N., Foucault M. The ChomskyFoucault debate: on human nature. N.Y.: New Press, 2006.
Clauser, Croft 1999 – Clauser T., Croft W. Domains and image schemas //
Cognitive linguistics. 1999. V. 10. N. 1. P. 1–31.
Clark 2008 – Clark A. Supersizing the mind: embodiment, action, and
cognitive extension. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2008.
Collins 1957 – Collins J. Faith and Reflection in Kierkegaard // The Journal
of Religion, 1957. V. 37. N. 1. P. 10–19.
Cook 2007 – Cook J. Machine and metaphor: the ethics of language in
American realism. N.Y.: Routledge, 2007.
Croft 2002 – Croft W. The role of domains in the interpretation of metaphors
and metonymies // Metaphor and Metonymy in Comparison and
Contrast. Dirven R., Pörings R. (eds.). B.; N.Y.: Mouton de Gruyter.
P. 161–205.
Croft 2006 – Croft W. On explaining metonymy: Comment on Peirsman and
Geeraerts, «Metonymy as a prototypical category» // Cognitive Linguistics.
2006. V. 17. N. 3. P. 317–326.
Croft, Cruse 2004 – Croft W., Cruse D. Cognitive Linguistics. Cambridge,
U.K.; New York: Cambridge University Press, 2004.
Cunningham 1924 – Cunningham G. Bergson’s Doctrine of Intuition // The
Philosophical Review. 1924. V. 33. N. 6. P. 604–606.
Das 1998 – Das V. Wittgenstein and Anthropology // Annual Review of
Anthropology. 1998. V. 27. P. 171–195.
Deignan 2003 – Deignan A. Metaphorical Expressions and Culture: An
Indirect Link // Metaphor and Symbol. 2003. V. 18. N. 4. P. 255–
271.
Deignan 2005 – Deignan A. Metaphor and corpus linguistics. Amsterdam;
Philadelphia: J. Benjamins Pub., 2005.
Deignan 2005a – Deignan A. A Corpus Linguistic Perspective on the
Relationship between Metonymy and Metaphor // Style. V. 39. N. 1.
2005. P. 72–91.
�336
Литература
Dirven 2003 – Dirven R. Metonymy and metaphor: Different mental
strategies of conceptualisation // Metaphor and metonymy in comparison
and contrast. – Dirven R., Pörings R. (eds.). Berlin; New York: Mouton
de Gruyter, 2003. P. 75–112.
Des Chene 2001 – Des Chene D. Spirits and clocks: machine and organism
in Descartes. Ithaca: Cornell University Press, 2001.
de Vega 2008 – de Vega M. Levels of embodied meaning: From pointing to
counterfactuals // Symbols and embodiment: debates on meaning and
cognition. / de Vega M., Glenberg A., Graesser A. (eds.). Oxford; New
York: Oxford University Press, 2008. P. 285–308.
de Vega et al. 2007 – de Vega M., Uritta M., Riffio B. Canceling updating
in the comprehension of counterfactuals embedded in narratives //
Memory and Cognition. V. 35, 2007. P. 1410–1421.
de Vega, Uritta 2011 – de Vega M., Uritta M. Counterfactual sentences
activate embodied meaning: An action–sentence compatibility effect
study // Journal of Cognitive Psychology. V. 23. N. 8, 2011.
Diessel, Tomasello 2005 – Diessel H., Tomasello M. A New Look at the
Acquisition of Relative Clauses // Language. V. 81. N. 4, 2005. P. 882–
906.
Djordjevic et al. 2004 – Djordjevic J., Zatorre R.J., Petrides M., JonesGotman M. The Mind’s Nose: Effects of Odor and Visual Imagery on
Odor Detection // Psychological Science. V. 15. N. 3. P. 143–148.
Dodge, Lakoff 2005 – From perception to meaning: image schemas in cognitive linguistics. – Hampe B., Grady J. (eds.) – Berlin; New York:
Mouton de Gruyter, 2005. P. 57–92.
Dummett 1991 – Dummett M. The logical basis on metaphysics. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 1991.
Edwards 1971 – Edwards P. Kierkegaard and the 'Truth' of Christianity //
Philosophy. V. 46. N. 176, 1971. P. 89–108.
Emmanuel 1991 – Emmanuel S. Kierkegaard's Pragmatist Faith // Philosophy and Phenomenological Research, V. 51. N. 2, 1991. P. 279–302.
Evans 2003 – Evans V. The structure of time: language, meaning, and temporal cognition. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Pub., 2003.
Evans 2006 – Evans V. Lexical concepts, cognitive models and meaningconstruction // Cognitive linguistics. V. 17. N. 4, 2006. P. 491–534.
Evans 2009 – Evans V. How words mean: lexical concepts, cognitive models,
and meaning construction. Oxford; New York: Oxford University Press,
2009.
Evans, Green 2006 – Evans V., Green M. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
Farah 1988 – Farah M. J. Is visual imagery really visual? Overlooked evidence
from neuropsychology // Psychological Review. V. 95, 1988. P. 307–
317.
Литература
337
Farah 1989 – Farah, M. J. Mechanisms of imagery-perception interaction //
Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance.
V. 15, 1989. P. 203–211.
Fauconnier 1978 – Fauconnier G. Is there a linguistic level of logical
representation? // Theoretical linguistics. V. 5. N. 1. 1978. P. 31–50.
Fauconnier 1985 – Fauconnier G. Mental spaces. Cambridge, Mass.: MIT
Press, 1985.
Fauconnier 1997 – Fauconnier G. Mappings in Thought and Language.
Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
Fauconnier 2009 – Fauconnier G. Generalized integration networks // New
Directions in Cognitive Linguistics. – Evans V., Pourcel S. (eds.). Amsterdam: John Benjamins Pub., 2009. P. 147–160.
Fauconnier, Turner 1994 – Fauconnier G., Turner M. Conceptual Projection and Middle Spaces. San Diego: University of California, Department of Cognitive Science Technical Report 9401, 1994. (электронная
в е р с и я : h t t p : / / p a p e r s . s s r n . c om / s o l 3 / p a p e r s . c f m ? a b s t r a c t _
id=1290862)
Fauconnier, Turner 1996 – Fauconnier G., Turner M. Blending as a Central
Process of Grammar // Conceptual Structure, Discourse, and Language. –
A. Goldberg (ed.). Stanford: CSLI Publications, 1996. P. 113–129.
Fauconnier, Turner 1998 – Fauconnier G., Turner M. Conceptual integration
networks // Cognitive science. V. 22. N. 2, 1998. P. 133–187.
Fauconnier, Turner 2000 – Fauconnier G., Turner M. Compression and
global insight // Cognitive linguistics. V. 11. N. 3/4, 2000. P. 283–
304.
Fauconnier, Turner 2002 – Fauconnier G., Turner M. The Way We Think.
Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. N.Y.: Basic
Books, 2002.
Fauconnier, Turner 2008 – Fauconnier G., Turner M. The Origin of Language
as a Product of the Evolution of Modern Cognition // Origin and
evolution of languages: approaches, models, paradigms. – Laks B. (ed.).
L.; Oakville, CT: Equinox, 2008. P. 133–156.
Ferguson, Sanford 2008 – Ferguson H., Sanford A. Anomalies in real and
counterfactual worlds: An eye-movement investigation // Journal of
Memory and Language. V. 58, 2008. P. 609–626.
Feyaerts 2000 – Feyaerts K. Refining the Inheritance Hypothesis: Interaction
between metaphoric and metonymic hierarchies // Metaphor and
metonymy at the crossroads: a cognitive perspective. Barcelona A. (ed.).
Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2000. P. 59–78.
Fillmore 1976 – Fillmore Ch. Frame Semantics and the Nature of
Language // Annals of the New York Academy of Sciences: Conference
on the Origin and Development of Language and Speech, V. 280, 1976.
P. 20–32.
�338
Литература
Fillmore 1977 – Fillmore Ch. Topics in Lexical Semantics // Current Issues
in Linguistic Theory. – Cole R. (ed.). Bloomington, L.: Indiana University
Press, 1977. P. 76–138.
Fillmore 1985 – Fillmore Ch. Frames and the Semantics of Understanding //
Quaderni di Semantica, V. 6. N. 2. P. 222–254.
Fillmore, Atkins 1994 – Fillmore Ch., Atkins B. Starting where the
dictionaries stop: the challenge for computational lexicography //
Computational Approach to the Lexicon. – Atkins B. and Zampolli A.
(eds.). Oxford; New York: Oxford University Press, 1994. P. 349–393.
Fisher at al. 1994 – Fisher C., Hall D.G., Rakowitz S., Gleitman L. When
it is better to receive than to give: Syntactic and conceptual constrains of
vocabulary growth // The acquisition of the lexicon. Gleitman L. and
Landau B. (eds.). Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994. P. 333–376.
Fodor 1975 – Fodor J. The language of thought. New York: Crowell, 1975.
Fodor 1983 – Fodor J. The modularity of mind: an essay on faculty
psychology. Cambridge, Mass: MIT Press, 1983.
Foster 1907 – Foster G. Pragmatism and Knowledge // The American
Journal of Theology, V. 11. N. 4, 1907. P. 591–596.
Gallese, Lakoff 2005 Gallese, V., Lakoff, G. The Brain»s Concepts: The role
of the Sensory-Motor System in Conceptual Knowledge // Cognitive
Neuropsychology. V. 22. N. 3-4, 2005. P. 455–479.
Gärdenfors 2007 – Gärdenfors P. Cognitive semantics and image schemas
with embodied forces // Embodiment in Cognition and Culture. –
Krois J., Rosengren M., Steidele A., Westerkamp D. (eds.) Amsterdam,
Philadelphia: John Benjamins, 2007. P. 57–76.
Garver 1960 – Garver N. Wittgenstein on Private Language // Philosophy
and Phenomenological Research, V. 20. N. 3, 1960. P. 389–396.
Geeraerts, Grondelaers 1995 – D. Geeraerts, S. Grondelaers. Looking back
at anger. Cultural traditions and metaphorical patterns // Language and
the Construal of the World. Taylor J., MacLaury R. (eds.). Berlin: Mouton
de Gruyter, 1995. P. 153–180.
Geeraerts 1997 – Geeraerts D. Diachronic prototype semantics: a contribution
to historical lexicology. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford
University Press, 1997.
Geeraerts 2006 – Geeraerts D. Words and other wonders: papers on lexical
and semantic topics. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2006.
Geeraerts 2009 – Geeraerts D. Prisms and blends. Digging one’s grave from
two perspectives. // Cognitive Approaches to Language and Linguistic
Data. – Oleksy W., Stalmaszczyk P. (eds.). Frankfurt am Main: Peter
Lang, 2009. P. 87–104.
Geeraerts et al. 1994 – Geeraerts D., Grondelaers S., Bakema P. The
structure of lexical variation: meaning, naming, and context. Berlin; New
York: M. de Gruyter, 1994.
Литература
339
Geeraerts et al. 2010 – Advances in cognitive sociolinguistics. – Geeraerts D.,
Kristiansen G., Peirsman Y. (eds.) New York, N.Y.: Mouton de Gruyter,
2010.
Geeraerts, Grondelaers 1995 – Geeraerts D., Grondelaers S. Looking back
at anger. Cultural traditions and metaphorical patterns // J. Taylor,
R. MacLaury (eds.). Language and the Construal of the World. Berlin:
Mouton de Gruyter, 1995. P. 153–180.
Geeraerts, Cuyckens 2007 – Geeraerts D., Cuyckens H. Introducing
Cognitive Linguistics // D. Geeraerts, H. Cuyckens (eds.). The Oxford
handbook of cognitive linguistics. Oxford; New York: Oxford University
Press, 2007. P. 3–24.
Geertz 1966 – Geertz C. Religion as a Cultural System // Anthropological
approaches to the study of religion – Banton M. (ed.) New York:
F.A. Praeger, 1966. P. 1–46.
Gevaert 2005 – Gevaert C. The ANGER IS HEAT question: Detecting
cultural influence on the conceptualization of ANGER through diachronic
corpus analysis. // N. Delbecque, J. van der Auwera, D. Geeraerts (eds.).
Perspectives on variation: sociolinguistic, historical, comparative. Berlin;
New York: Mouton de Gruyter, 2005. P. 195–208.
Gibbs 2000 – Gibbs, Jr.R.W. Making good psychology out of blending
theory // Cognitive linguistics. V. 11. N. 3/4, 2000. P. 347–358.
Gibbs 2006 – Gibbs R.W.Jr. Embodiment and cognitive science. Cambridge;
New York: Cambridge University Press, 2006.
Gibbs 2007 – Gibbs R.W.Jr. Cognitive linguistics and empirical methods //
Methods in cognitive linguistics. – Gonsales-Marquez M., Mittelberg I.,
Coulson S., Spivey M. (eds.) Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins,
2007. P. 2–18.
Gibson 1979 – Gibson J. The ecological approach to visual perception.
Boston, MA: Houghton Mifflin, 1979.
Gigerenzer, Todd 1999 – Gigerenzer G., Todd P. Fast and Frugal Heuristics:
The Adaptive Toolbox // Simple heuristics that make us smart. –
G. Gigerenzer, P. Todd. (eds.) N.Y.: Oxford University Press, 1999.
P. 3–36.
Ginascol 1959 – Ginascol F. The Question of Universals and the Problem
of Faith and Reason // The Philosophical Quarterly, V. 9. N. 37, 1959.
P. 319–329.
Glebkin 2009 – Glebkin V. The problem of sentence meaning: the quantum
theory approach // Proceedings of the Thirty-First Annual Conference of
the Cognitive Science Society. July 29–August 1, 2009. Taatgen N., van
Rijn H. (eds.) – Amsterdam: Vrije Universiteit, 2009. P. 1483–1487.
Glebkin 2011 – Glebkin V. Hermeneutics and cognitive science: a preliminary
approach // European Perspectives on Cognitive Science. Proceedings of
the European Conference on Cognitive Science EuroCosSci2011. Eds.
�340
Литература
Kokinov, B., Karmiloff-Smith, A., Nersessian, N.J. Sophia: New Bulgarian University Press, 2011. P. 1–5.
Glebkin 2013 – Glebkin V. A socio-cultural history of the machine
metaphor // Review of cognitive linguistics. V. 11. N. 1, 2013. Р. 145–
162.
Gleitman 1990 – Gleitman L. The structural sources of verb meanings //
Language acquisition. V. 1, Is. 1, 1990. P. 3–55.
Glenberg et al. 1987 – Glenberg A., Meyer M., Lindem K. Mental models
contribute to foregrounding during text comprehension // Journal of
Memory and Language. V. 26. N. 1. P. 69–83.
Glenberg, Mehta 2008 – Glenberg A., Mehta S. The limits of covariation //
Symbols and embodiment: debates on meaning and cognition / de Vega
M., Glenberg A., Graesser A. (eds.) Oxford; New York: Oxford University Press, 2008. P. 11–32.
Goatly 2007 – Goatly A. Washing the brain: metaphor and hidden ideology.
Philadelphia: John Benjamins Pub. Co., 2007.
Goddard 1998 – Goddard C. Bad arguments against semantic primitives //
Theoretical Linguistics. V. 24. N. 2–3, 1998 P. 129–156.
Goddard 2002 – Goddard C. The search for the shared semantic core of all
languages // Meaning and Universal Grammar. Theory and Empirical
Findings. Goddard C. and Wierzbicka A. (eds). V. I. Amsterdam: John
Benjamins. P. 5–40.
Goldstone et al. 2008 – Goldstone R., Landy D., Son J. A well grounded
education: The role of perception in science and mathematics // Symbols
and embodiment: debates on meaning and cognition. / de Vega M.,
Glenberg A., Graesser A. (eds.) Oxford; New York: Oxford University
Press, 2008. P. 327–355.
Goossens 1995 –Goossens L. Metaphonymy: The Interaction of Metaphor
and Metonymy in Figurative expressions for Linguistic Action // By word
of mouth: metaphor, metonymy, and linguistic action in a cognitive perspective. – Pauwels P., Rudzka-Ostyn B., Simon-Vandenbergen A.-M.,
Vanparys J. (eds.) Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co., 1995.
P. 159–174.
Goldstone et al. 2010 – Goldstone R., Landy D., Son J. The Education of
Perception // Topics in Cognitive Science. V. 2. N. 2, 2010. P. 265–284.
Grady 2000 – Grady J. Cognitive mechanisms of conceptual integration //
Cognitive linguistics. V. 11. N. 3/4, 2000. P. 335–345.
Grady 2005 – Grady J. Image schemas and perception: Refinding a
definition // From perception to meaning: image schemas in cognitive
linguistics. Hampe B., Grady J. (eds.) Berlin; New York: Mouton de
Gruyter, 2005. P. 35–56.
Green 1974 – Green G. Semantics and syntactic regularity. Bloomington,
IN: Indiana University Press, 1974.
Литература
341
Haken etc. 1993 – The Machine as metaphor and tool. Haken H.,
Karlqvist A., Svedin U. (eds.) Berlin; New York: Springer-Verlag, 1993.
Harder 2003 – Harder P. Mental spaces: exactly when do we need them? //
Cognitive Linguistics. V. 14. N. 1, 2003. P. 91–96.
Hari 2011 – Hari R. How Do We Understand Each Other: A Neuroscientist»s
Viewpoint // European Perspectives on Cognitive Science / Kokinov, B.,
Karmiloff-Smith, A., Nersessian, N.J. (eds.) Sofia: New Bulgarian
University Press, 2011.
Hari, Kujala 2009 – Hari R., Kujala M.-V. Brain basis of human social
interaction. From concepts to brain imaging // Physiological Reviews.
V. 89, 2009. P. 453–479.
Harris 1993 – Harris R. The linguistics wars. – New York, Oxford: Oxford
University Press, 1993.
Healy 1984 – Healy S.D. Boredom, Self and Culture. Rutherford: Fairleigh
Dickinson University Press; L.: Associated University Presses, 1984.
Heller 2006 – Heller K. The Downing of the West: On the Genesis of a
Concept. – Ph.D. dissertation. Union Institute & University Cincinnati,
Ohio, 2006.
Hertwig, Hoffrage 2012 – Hertwig R., Hoffrage U. Simple Heuristics: the
Foundations of Adaptive Social Behavior // Social rationality: simple
heuristics in a social context – Hertwig R., Hoffrage U. (eds.). N.Y.:
Oxford University Press, 2012. P. 3–38.
Hunter 1980 – Hunter J. Wittgenstein on Language and Games // Philosophy,
V. 55. N. 213, 1980. P. 293–302.
Husserl 1954 – Husserl E. Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und
die transzendentale Phnomenologie // Husserl E. Gesammelte Werke.
B. VI. Haag: Martin Nijhoff, 1954. S. 1–278.
Husserl 1954a – Husserl E. Die Krisis des Europäischen Menschentums und
die Philosophie // Husserl E. Gesammelte Werke. B. VI. Haag: Martin
Nijhoff, 1954. S. 314–348.
Heine 1995 – Heine B. Conceptual grammatization and prediction //
Language and the cognitive construal of the world. Taylor J., MacLaury R.
(eds.). Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1995. P. 119–135.
Held 1957 – Held M. The Historical Kierkegaard: Faith or Gnosis // The
Journal of Religion. V. 37. N. 4, 1957. P. 260–266.
Horwich 2003 – Horwich P. Meaning and its Place in the Language Faculty //
Chomsky and his critics. – Antony L., Hornstein N. (eds.). Malden, MA:
Blackwell Pub., 2003. P. 162–178.
Hubbard, Stoeckig 1988 – Hubbard, T. , Stoeckig, K. Musical imagery:
Generation of tones and chords // Journal of Experimental Psychology.
Learning, Memory, and Cognition. V. 14, 1988. P. 656–667.
Huck, Goldsmith 1995 – Huck G., Goldsmith J. Ideology and linguistic
theory. London; New York: Routledge, 1995.
�342
Литература
Imai, Saalbach 2010 – Imai M., Saalbach H. Categories in Mind and Categories
in Language: Do Classifier Categories Influence Conceptual Structures? //
Words and the Mind. How Words Capture Human Experience. Malt B.C.,
Wolff Ph. (eds.). N.Y., Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 138–164.
Ishai, Sagi 1997 – Ishai A., Sagi D. Visual imagery: Effects of short- and
long- term memory // Journal of Cognitive Neuroscience. V. 9, Is. 6.
P. 734–743.
Jackendoff 1983 – Jackendoff R. Semantics and Cognition. Cambridge,
Mass.: MIT Press, 1983.
Jackendoff 1990 – Jackendoff R. Semantic Structures. Cambridge, Mass.:
MIT Press, 1990.
Jackendoff 2002 – Jackendoff R. Foundations of Language. Oxford: Oxford
University Press, 2002.
Jackendoff 2010 – Jackendoff R. Meaning and the Lexicon. Oxford: Oxford
University Press, 2010.
Johnson 1987 – Johnson M. The Body in the Mind. Chicago and London:
The University of Chicago Press, 1987.
Johnson 2005 – Johnson M. The philosophical significance of image
schemas // From perception to meaning: image schemas in cognitive
linguistics. Hampe B., Grady J. (eds.) Berlin; New York: Mouton de
Gruyter, 2005. P. 15–34.
Johnson 2007 – Johnson M. The meaning of the body: aesthetics of human
understanding. Chicago and London: The University of Chicago Press,
2007.
Just 2008 – Just M. What brain imaging can tell us about embodied
meaning // Symbols and embodiment: debates on meaning and
cognition. / de Vega M., Glenberg A., Graesser A. (eds.) Oxford; New
York: Oxford University Press, 2008. P. 75–84.
Kallen 1914 – Kallen H. James, Bergson, and Traditional Metaphysics //
Mind, New Series, V. 23. N. 90, 1914. P. 207–239.
Katz, Postal 1964 – Katz J., Postal P. An integrated theory of linguistic
descriptions. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1964.
Kellman et al. 2010 – Kellman Ph., Massey Ch., Son J. Perceptual Learning
Modules in Mathematics: Enhancing Students» Pattern Recognition,
Structure Extraction, and Fluency // Topics in Cognitive Science. V. 2.
N. 2, 2010. P. 265–284.
Kierkegaard 2004 (1850) – Kierkegaard S. Training in Christianity. New York:
Vintage Books, 2004.
Klerks 1961 – Klerks W. Madame du Deffand essai sur l’ennui. Leiden:
Universitaire pers; Assen: Van Gorcum et Co, 1961.
Kornprobst et al.2008 – Metaphors of Globalization: Mirrors, Magicians
and Mutinies. – Kornprobst M., Pouliot V., Shah N., Zaiotti R. (eds)
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008.
Литература
343
Koselleck 2002 – Koselleck R. The practice of conceptual history: timing
history, spacing concepts. Stanford, Calif.: Stanford University Press,
2002.
Koselleck 2004 – Koselleck R. Futures past: on the semantics of historical
time. New York: Columbia University Press, 2004.
Kosslyn et al. 1993 – Kosslyn S. , Alpert N., Thompson W. , Maljkovic V., Weise S.
, Chabris C.F., Hamilton S., Rauch S., Buonanno, E. (1993). Visual mental
imagery activates topographically organized visual cortex: PET investigations //
Journal of Cognitive Neuroscience. V. 5, 1993. P. 263–287.
Kövecses 2005 – Kövecses Z. Metaphor in culture: universality and variation.
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2005.
Kövecses 2010 – Kövecses Z. Metaphor: a practical introduction. Oxford:
Oxford University Press, 2010.
Keller-Cohen 1978 – Keller-Cohen D. Context in Child Language // Annual
Review of Anthropology. V. 7, 1978. P. 453–482.
Lakoff 1970 – Lakoff G. Global Rules // Language. V. 46, № 3, 1970.
P. 627–639.
Lakoff 1970a – Lakoff G. Linguistics and Natural Logic // Synthese. V. 22.
N. 1/2, 1970. P. 151–271.
Lakoff 1972 – Lakoff G. The Arbitrary Basis of Transformational Grammar //
Language, V. 48. N. 1, 1972. P. 76–87.
Lakoff 1987 – Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things. Chicago and
London: The University of Chicago Press, 1987.
Lakoff 1995 – Lakoff G. Embodied Minds and Meanings // Speaking minds:
interviews with twenty eminent cognitive scientists. – Baumgartner P.,
Payr S. (eds.) Princeton: Princeton University Press, 1995. P. 115–130.
Lakoff 2002 – Lakoff G. Moral politics: how liberals and conservatives think.
Chicago: University of Chicago Press, 2002.
Lakoff 2006 – Lakoff G. Thinking points: communicating our American
values and vision: a progressive»s handbook. New York: Farrar, Straus and
Giroux, 2006.
Lakoff, Johnson 1980 – Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. –
Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980.
Lakoff, Johnson 1999 – Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the flesh: the
embodied mind and its challenge to western thought. N.Y.: Basic books,
1999.
Lakoff, Nún˜ez 2000 – Lakoff G., Nun˜ez R. Where mathematics comes from:
how the embodied mind brings mathematics into being. N.Y.: Basic books,
2000.
Landy, Goldstone 2009 – Landy D., Goldstone R.L. (2009). How much of
symbolic manipulation is just symbol pushing? // Proceedings of the 31th
Annual Conference of the Cognitive Science Society. Taatgen N.A., van
Rijn H. (Eds.). Austin, TX: Cognitive Science Society. P. 1318–1323.
�344
Литература
Langacker 1993 – Langacker R. Reference-point constructions // Cognitive
Linguistics. V. 4, 1993. P. 1-38.
Langacker 2000 – Langacker R. Grammar and Conceptualization. Berlin,
New York: Moution de Gruyter, 2000.
Liddell, Scott 1961 A Greek-English lexicon. Liddell H., Scott R. (eds.).
Oxford, Clarendon Press: 1961.
Lohmann, Tomasello 2003 – Lohmann H., Tomasello M. The Role of Language in the Development of False Belief Understanding: A Training
Study // Child Development, V. 74, № 4, 2003. P. 1130–1144.
Luria 1976 – Luria A.R. Cognitive Development: Its Cultural and Social
Foundations. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976.
Lust, Foley 2004 – First language acquisition: the essential readings. – Lust B.
and Foley C. (eds.) Malden, MA: Blackwell Pub., 2004.
Lycan 2003 – Lycan W. Chomsky on the Mind-Body Problem // Chomsky
and his critics. – Antony L., Hornstein N. (eds.) Malden, MA: Blackwell
Pub., 2003. P. 11–28.
Mac Cormac 1985 – Mac Cormac Е. A cognitive theory of metaphor. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985.
Marrati 2005 – Marrati P. Time, Life, Concepts: The Newness of Bergson //
MLN, V. 120. N. 5, 2005. P. 1099–1111.
McCawley 1968 – McCawley J. The role of semantics in a grammar //
Universals in linguistic theory. – Bach E., Harms R. (eds.). New York:
Holt, Rinehalt&Winston, 1968. P. 125–170.
Mills 1983 – Mills A. Language acquisition in the blind child: normal and
deficient – A. Mills (ed.) London: Croom Helm; San Diego: College-Hill
Press, 1983.
Moll, Tomasello 2007 – Moll H., Tomasello M. Cooperation and Human
Cognition: The Vygotskian Intelligence Hypothesis // Philosophical
Transactions: Biological Sciences. V. 362. N. 1480, 2007. P. 639–648.
Maltock 2004 – Maltock T. Fictive motion as cognitive simulation // Memory and Cognition. V. 32, 2004. P. 1389–1400.
Musolff 2010 – Musolff A.. Metaphor, nation and the holocaust: the concept
of the body politic. New York: Routledge, 2010
Musolff, Zinken 2009 – Metaphor and discourse. – Musolff A., Zinken J.
(eds.). – Basingstoke; New York: Palgrave Macillan, 2009
Newmeyer 1996 – Newmeyer F. Generative linguistic: A Historical
Perspective. – London; New York: Routledge, 1996.
Nahoum-Grappe 1995 – Nahoum-Grappe V. L’Ennui ordinaire. P.: Austral,
1995.
Noё 2009 – Noё A. Out of our heads: why you are not your brain, and other
lessons from the biology of consciousness. N.Y.: Hill and Wang, 2009.
Oakley, Coulson 2008 – Oakley T., Coulson A. Connecting the dots. Mental
spaces and metaphoric language in discourse // Mental spaces in discourse
Литература
345
and interaction. – Oakley T., Hougaard A. (eds.). Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Publishing, 2008. P. 27–51.
Oakley, Hougaard 2008 – Oakley T., Hougaard A. Mental spaces and
discourse analysis // Mental spaces in discourse and interaction. –
Oakley T., Hougaard A. (eds.). Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins
Publishing, 2008. P. 1–26.
OLD 1968 – Oxford Latin Dictionary. Oxford, London: Clarendon Press,
1968.
Ormerod 2006 – The History and Ideas of Pragmatism // The Journal of the
Operational Research Society, V. 57. N. 8, 2006. P. 892–909.
Pagán Cánovas 2011 – Pagán Cánovas C. The Genesis of the Arrows of Love:
Diachronic Conceptual Integration in Greek Mythology // American
Journal of Philology. V. 132. N. 4, 2011. P. 553–579.
Patrologia Latina 1844–1855 – Patrologia Latina. J.-P. Migne (ed.). V. 1–217.
Paris, 1844–1855; Patrologia Latina database [computer file]. Alexandria,
VA: Chadwyck-Healey, 1995.
Peifer 1952 – Peifer J.F. The Concept in Thomism. N.Y.: Bookman, 1952.
Peirsman, Geeraerts 2006 – Peirsman Y., Geeraerts D. Metonymy as a prototypical
category // Cognitive Linguistics. V. 17. N. 3, 2006. P. 269–316.
Peirsman, Geeraerts 2006a – Peirsman Y., Geeraerts D. Don»t let metonymy
be misunderstood: An answer to Croft // Cognitive Linguistics. V. 17.
N. 3, 2006. P. 227–335.
Peérez-Pereira, Conti-Ramsden 1999 – Peérez-Pereira M., ContiRamsden G. Language development and social interaction in blind
children. Hove, East Sussex, UK: Psychology Press, 1999.
Perky 1910 – Perky C. An experimental study of imagination // American
Journal of Psychology. V. 21. N. 3, 1910. P. 422–452.
Pocock 2009 – Pocock J.G.A. Political thought and history : essays on theory
and method – Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press,
2009.
Popper 1962 – Popper K.R. Conjectures and Refutations. N.Y., L.: Basic
Books, Publishers, 1962.
Pulvermüller 2008 – Pulvermüller F. Grounding language in the brain //
Symbols and embodiment: debates on meaning and cognition. / de
Vega M., Glenberg A., Graesser A. (eds.). Oxford; New York: Oxford
University Press, 2008. P. 85–116.
Putnam 1988 – Putnam H. Representation and Reality. Cambridge, Mass.:
MIT Press, 1988.
Putnam 1995 – Putnam H. Pragmatism // Proceedings of the Aristotelian
Society, New Series, V. 95, 995. P. 291–306.
Quine 1969 – Quine W. Reply to Chomsky // Words and Objections: Essays
on the Work of W.V. Quine. – Davidson D. and Hintikka J. (eds.). Dordrecht: D. Reidel, 1969. P. 302–311.
�346
Литература
Quinn 1991 – Quinn N. The Cultural Basis of Metaphor. // Beyond metaphor: the theory of tropes in anthropology. Fernandez J. (ed.). Stanford,
Calif.: Stanford University Press, 1991. P. 56–93.
Radden, Kövecses 1999 – Radden G., Kövecses Z. Metonymy: Developing
a cognitive linguistic view // Cognitive Linguistics. V. 9. N. 1, 1998.
P. 37–77.
Rizzolatti, Craighero 2004 – Rizzolatti G., Craighero L. The mirrorneuron system // Annual Review of Neuroscience. V. 27, 2004. –
P. 169–192.
Rizzolatti, Sinigaglia 2007 – Rizzolatti G., Sinigaglia C. Mirror neurons and
motor intentionality // Functional Neurology. V. 22, № 4, 2007. –
P. 205–210.
Rizzolatti, Fabbri-Destro 2010 – Rizzolatti G., Fabbri-Destro M. Mirror
neurons: from discovery to autism // Experimental Brain Research. V. 200,
2010. P. 223–237.
Roberts 2007 – Roberts C. Wisdom in Practice: Socrates» Conception of
Technē. Ph.D. dissertation. Queen»s University, Kingston, 2007.
Roher 2005 – Roher T. Image schemata in the brain // From perception to
meaning: image schemas in cognitive linguistics. Hampe B., Grady J.
(eds.). Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2005. P. 199–234.
Roochnik 1996 – Roochnik D. Of art and wisdom: Plato»s understanding of
techne. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 1996.
Rosch 1973 – Rosch E. Natural categories // Cognitive psychology. V. 4,
1973. P. 328–350.
Rosch 1975 – Rosch E. Reference points // Cognitive psychology. V. 7, 1975.
P. 532–547.
Rosch 1975a – Rosch E. Cognitive Representations of Semantic Categories //
Journal of Experimental Psychology: General. V. 104, 1975. P. 192–
233.
Rosch 1978 – Rosch E. Principles of Categorization // Cognition and categorization. – Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates; New York: distributed by Halsted Press, 1978. P. 27–48.
Rosch 1988 – Rosch E. Coherences and categorization: a historical view //
The Development of Language and Language Researches. – Kessel F.
(eds.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1988. P. 373–392.
Sanford 2008 – Sanford A. Defining embodiment in understanding // Symbols and embodiment: debates on meaning and cognition. / de Vega M.,
Glenberg A., Graesser A. (eds.). Oxford; New York: Oxford University
Press, 2008. P. 181–194.
Searle 1972 – Searle J. Chomsky’s Revolution in Linguistics // New York
Review of Books, June 29, 1972.
Searle 1983 – Searle J. Intentionality, an essay in the philosophy of mind
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1983.
Литература
347
Shapiro 2008 – Shapiro L. Symbolism, embodied cognition, and the broader debate // Symbols and embodiment: debates on meaning and cognition. / de Vega M., Glenberg A., Graesser A. (eds.). Oxford; New York:
Oxford University Press, 2008. P. 57–74.
Slobin 1985 – Slobin Dan I. Crosslinguistic Evidence for the LanguageMaking Capacity // The Crosslinguistic Study of Language Acquisition.
V. 2: Theoretical Issues. Hillsdate, New Jersey, 1985. P. 1127–1256.
Smith, Nachtomy 2010 – Machines of Nature and Corporeal Substances in
Leibniz. – Smith J., Nachtomy O. (eds.). Dordrecht etc.: Springer,
2010.
Smith, Tsimpli 1995 – Smith N., Tsimpli I.M. The mind of a savant:
language learning and modularity. – Oxford; Cambridge, Mass.:
Blackwell, 1995.
Sorokin 1937 – Sorokin P. Social and Cultural Dynamics. V. 3. N.Y., 1937.
Sorokin 1941 – Sorokin P.A. The crisis of our age. N.Y.: E.P. Dutton & Co.,
1941.
Sorokin 1951 – Sorokin P.A. Social Philosophers of an Age of Crisis. Boston:
The Beacon Press, 1951.
Sorokin 1964. – Sorokin P.A. The Basic Trends of Our Times. New Haven:
College & University Press, 1964.
Spacks 1995 – Spacks P.M. Boredom: the literary history of a state of mind.
Chicago: The University of Chicago Press, 1995.
Sweetser 1990 – E. Sweetser. From etymology to pragmatics: metaphorical
and cultural aspects of semantic structure. Cambridge [England]; New
York: Cambridge University Press, 1990.
Sweetser 2000 – Sweetser E. Blended spaces and performativity // Cognitive
linguistics. V. 11, N. 3-4, 2000. P. 305–333.
Sweetser, Fauconnier 1996 – Sweetser E., Fauconnier G. Cognitive Links
and Domains: Basic Aspects of Mental Space Theory // Spaces, Worlds
and Grammar. – Fauconnier G., Sweetser E. (eds.). Chicago: University
of Chicago Press, 1996. P. 1–28.
Swenson 1916 – Swenson D. The Anti-Intellectualism of Kierkegaard // The
Philosophical Review, V. 25. N. 4, 1916. Р. 567–586.
Talmy 2005 – Talmy L. The fundamental system of spatial schemas in language // From perception to meaning: image schemas in cognitive linguistics. Hampe B., Grady J. (eds.). Berlin; New York: Mouton de
Gruyter, 2005. P. 199–234.
Thagard 2005 – Thagard P. Mind: introduction to cognitive science. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005.
Tomasello 1999 – Tomasello M. The Human Adaptation for Culture // Annual Review of Anthropology. V. 28, 1999. P. 509–529.
Tomasello 2000 – Tomasello M. Culture and Cognitive Development // Current Directions in Psychological Science. V. 9. N. 2, 2000. P. 37–40.
�348
Литература
Tomasello 2004 – Tomasello M. Learning through Others // Daedalus. –
V. 133, №. 1, 2004. – P. 51–58.
Tomasello 2008 – Tomasello M. Origins of human communication. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008.
Tomasello et al. 1997 – Tomasello M., Call J., Gluckman A. Comprehension
of Novel Communicative Signs by Apes and Human Children // Child
Development. V. 68, № 6, 1997. P. 1067–1080.
Tomasello et al. 2005 – Tomasello M., Carpenter M., Hobson P. The Emergence of Social Cognition in Three Young Chimpanzees // Monographs
of the Society for Research in Child Development. V. 70. N. 1, 2005.
Tomasello 2009 – Tomasello M. Why we cooperate. Cambridge, Mass.: MIT
Press, 2009.
Tomasello 2009a – Tomasello M. Cultural Transmission: A View from Chimpanzees and Human Infants // Cultural transmission: psychological,
developmental, social, and methodological aspects U. Schönpflug (ed.)
N.Y.: Cambridge University Press, 2009. P. 33–47.
Turner 1994 – Turner M. Design for a Theory of Meaning // The Nature
and ontogenesis of meaning. Overton W., Palermo D. (eds.). Hillsdale,
N.J.: L. Erlbaum Associates, 1994. P. 91–107.
Vankov, Kokinov 2011 – Vankov I., Kokinov B. Embodied Comparison of
Functional Relations // European Perspectives on Cognitive Science. –
Kokinov, B., Karmiloff-Smith, A., Nersessian, N.J. (eds.). Sofia: New
Bulgarian University Press, 2011.
Völker 1975 – Völker L. Langeweile. Untersuchungen zur Vorgeschichte
eines Literarischen Motivs. München: Wilhelm Fink Verlag, 1975.
Ungerer, Schmid 2006 – An introduction to cognitive linguistics. Ungerer F.,
Schmid H.-J. (Eds.). N.Y.: Longman, 2006.
Wierzbicka 1972 – Wierzbicka A. Semantic Primitives. Linguistische Forschungen. N 22. Frankfurt/M: Athenäum, 1972.
Wierzbicka 1980 – Wierzbicka A. Lingua mentalis: The Semantics of natural
Language. Sydney etc.: Academic Press, 1980.
Wierzbicka 1985 – Wierzbicka A. Lexicography and Conceptual Analysis.
Ann Arbor: Karoma, 1985.
Wierzbicka 1996 – Wierzbicka A. Semantics: primes and universals. Oxford,
N.Y.: Oxford University Press, 1996.
Wierzbicka 2002 – Wierzbicka A. Russian Cultural Scripts: the Theory of
Cultural Scripts and its Applications // Ethos. V. 30. N. 4, 2002. P. 401–
432.
Wierzbicka 2005 – Wierzbicka A. Empirical Universals of Language as a
Basis for the Study of Other Human Universals and as a Tool for Exploring Cross-Cultural Differences // Ethos. V. 33. N. 2, 2005. P. 256–291.
Wierzbicka 2006 – Wierzbicka A. English: meaning and culture. Oxford; New
York: Oxford University Press, 2006.
Литература
349
Wierzbicka 2010 – Wierzbicka A. Experience, evidence, and sense : the hidden cultural legacy of English. Oxford; N.Y.: Oxford University Press,
2010.
Wilson et al. 1993 – Wilson S., Rinck M., McNamara T., Bower G., Morrow D. Menal Models and Narrative comprehension: Some Qualifications // Journal of Memory and Language. V. 32, 1993. P. 141–154.
Winters 2010 – Winters M. Introduction: on the emergence of diachronic
cognitive linguistics // Historical cognitive linguistics. Winters M., Tissari H., Allan K. Berlin; New York: De Gruyter Mouton, 2010.
P. 3–30.
Yeh, Barsalou 2006 – Yeh W., Barsalou L. The Situated Nature of Concepts //
The American Journal of Psychology. V. 119. N. 3, 2006. P. 349–384.
Yu 2009 – Yu N. From body to meaning in culture: papers on cognitive
semantic studies of Chinese. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins
Pub. Co., 2009.
Zatorre, Halpern 1993 – Zatorre R., Halpern A. Effect of unilateral temporal-lobe excision on perception and imagery of songs // Neuropsychologia. V. 31, 1993. P. 221–232.
Zwaan 2008 – Zwaan R. Experiental traces and mental simulations in language comprehension // Symbols and embodiment: debates on meaning
and cognition. de Vega M., Glenberg A., Graesser A. (eds.). Oxford; New
York: Oxford University Press, 2008. P. 165–180.
�Указатель имен
Указатель имен
Августин Аврелий 59, 82, 139, 166, 168, 169, 234, 248
Аверинцев С.С. 163, 185
Адамар Ж. 72, 74
Адлер А. 23, 24, 38
Адорно Т.В. 160, 332
Азаров Ю. 175
Азольский А. 244
Аксаков И.С. 285, 320
Аксенов В. 239, 247
Алексеев М.П. 151, 332
Амвросий Медиоланский (Ambrosius Mediolanensis) 176, 350
Анакреонт 164
Андреев Л.Н. 49, 50, 320
Антипин В. 242
Антоний (Блум) 151, 248
Аполлодор 319
Апресян Ю.Д. 7, 9, 34-36, 45-47, 49-51, 53, 54, 148, 204, 220, 224, 320
Апт С.К. 163
Араева Л.А. 224, 320
Арбатов Г.А. 88
Аристотель 58-60, 163, 164, 176, 185-187, 205, 211, 234, 319
Арманд А.Д. 205, 321
Артемон из Клазомен 125
Арутюнова Н.Д. 133, 155, 156, 226, 321
Архангельский А. 246, 306, 321
Архилох 164
Арцыбашев М.П. 298
Асеев Ю. 65
Аскольдов С.А. 136
Астафьев В. 246
Аткинс Б. (Atkins В.) 128, 129, 338
Ахмедов Р.Б. 265, 273, 279
Бакланов Г.Я. 48
Балашов Ю.В. 10
Барсалоу Л. (Barsalou L.) 77-80, 84-86, 98, 123, 124, 129, 130, 208, 211
Батюшков К.Н. 216
Бауэрмэн М. (Bowerman М.) 53, 334
Бах И.С. 196, 197
351
Беленькая А.Л. 10
Белинский В.Г. 294
Белый Андрей (наст, имя: Бугаев Б.Н.) 224
Беляева Д. 244, 273
Бенвенист Э. 144
Бергсон A. (Bergson Н.) 62, 64, 83, 321
Бердяев Н.А. 49, 139, 140, 151, 213, 295, 296, 312, 321
Бернар Клервоский 166
Бетховен Л. ван 196
Биренбаум Г.В. 330
Блум Л. (Bloom L.) 42, 52, 53, 151, 334
Боас Ф. 43
Боборыкин П.Д. 189, 286, 287
Бобров Е.Н. 39
Богданов А.А. 193, 293, 321
Бондарев Ю.В. 303, 304
Бор Н. 321
Бородай Т.Ю. 133, 321
Бородицкая Л. (Boroditsky L.) 96, 124, 223, 334
Боэций А.М.Т.С. 283
Брунер Дж. (Bruner J.) 41, 53, 54, 334
Булгаков С.Н. 217, 295, 296, 312, 321
Булгарин Ф.В. 294
Вайль П. 151
Ванков И. 74
Васильев Б. 240
Вебер А. 154, 198, 199, 204, 321
Вебер М. 6, 7, 147, 206, 208
Вежбицкая A. (Wierzbicka А.) 6, 9, 18, 24, 29, 31, 34-44, 46, 51-54, 121, 133, 156,
224, 321, 348, 349
Вейнрейх М. 15
Величковский Б.М. 29, 30, 321
Веллер М. 279
Вересаев В.В. 218
Вернадский В.И. 146
Вертгеймер М. 67, 84, 322
Веселый Артем (наст, имя: Кочкуров Н.И.) 301
Виноградов В.В. 7, 212, 322
Витгенштейн Л. 37, 51, 59, 65, 66, 83, 84, 322
Власов Д. 311
Волков С.В. 299, 322
Воробьев М. 242
Воронцов В.П. 288, 312
Выготский Л.С. (Vygotsky L.S.) 59, 67-71, 80, 81, 83-85, 91, 114, 115, 178, 180,
181, 207, 212, 322, 330
Вяземский П.А. 285, 322
Гаврилов А. 225
Гадамер Х.-Г. 64, 65, 83, 322
Гайденко П.П. 4, 82, 83, 160, 322, 323
�352
Указатель имен
Гален Клавдий 190
Галилей Г. 200
Гарэн Э. 177, 322
Гаспаров М.Л. 206, 305, 306, 323
Гачев Г. 151
Гвардини Р. 205, 323
Гегель Г.В.Ф. 144, 198, 284
Гейер Т. 87
Гельвеций К.А. 226
Гераклид Понтийский 205
Герартс Д. (Geeraerts D.) 10, 77, 98, 119, 120, 133, 158, 187, 216, 338, 339, 345
Геродот 165, 176, 184
Герцен А.И. 143, 144, 156, 211, 217, 272, 310, 323
Гершензон М.О. 295
Гессен С.И. 61
Гибсон Дж. (Gibson J.) 86, 110, 208, 339
Гизо Ф. 284, 287
Гийом Тирский 176
Гинзбург Е.Л. 212, 224, 322
Гиппократ 190
Гирц К. (Geertz C.) 224, 339
Гладов О. 217
Глазов Ю.Я. 302, 323
Глебкин В.В. (Glebkin V.) 10, 33, 51, 64, 67, 71, 72, 82, 83, 85, 116, 119, 120, 125,
146, 155, 156, 175-177, 187, 188, 204, 206, 208, 211, 215, 216, 219, 222-225,
299, 312, 315, 323, 324, 339, 340
Глебов Ан. 301
Глейтман Л. (Gleitman L.) 31, 338, 340
Гленберг А. (Glenberg А.) 76, 333, 336, 340, 342, 345-347, 349
Глушкин О. 246
Гнедич Н.И. 184, 187
Гоббс Т. (Hobbes Th.) 159, 171, 175, 177, 324
Гоголь Н.В. 224
Годдард К. (Goddard С.) 9, 31, 34, 36, 37, 43, 52, 340
Голдстоун P. (Goldstone R.L.) 74, 80, 84, 340, 343
Голикова Л.В. 190, 324
Гомер 176, 179, 184
Гончаров П. 88, 245
Гораций Квинт Флакк 176, 318
Гордеева Т.О. 217
Горький М. 89, 144, 251, 279
Градовский А.Д. 145, 287, 288, 290, 324
Гранин Д.А. 304
Грановский Т.Н. 294
Гришковец Е.В. 87, 310
Грищенко Б. 219
Губарев В. 278
Гудков Л.Д. 306, 325
Гумбольдт В. фон 30
Гурченко Л. 246
Гусева О. 278
Указатель имен
353
Гуссерль Э. (Husserl Е.) 160, 194, 199-201, 204, 205, 325, 341
Гутерман А. 175
Давыдов B.C. 89
Даммит М. (Dummett М.) 15, 30, 210, 336
Данилевский Н.Я. 194, 205
Дарвин Ч. 114
Дас В. (Das V.) 83, 335
Двойнин Л. 278
Дедал 161
Дейнан 270
Декарт Р. 22, 25, 27, 38, 92, 93, 159, 171, 198, 224, 220
Демокрит 192
Демьянков В.З. 137, 138, 325
Джакендофф P. (Jackendoff R.) 52, 121, 342
Джемс (Джеймс) У. (James W.) 63, 86, 325
Джонсон М. (Johnson М.) 9, 23-25, 29, 32, 57, 83, 86, 87, 90-95, 97-100, 121,
123, 129, 130, 158, 160, 163, 173-175, 180, 182, 187, 205, 219, 223, 232, 235,
241, 252, 342, 343
Дильтей В. 61, 62, 64, 65, 74, 83, 213, 325
Диодор Сицилийский 161, 329
Дионисий Ареопагит 202
Доброхотов А.Л. 83, 312, 325
Довбня С. 243
Долгоруков И.М. 235
Домбровский Ю. 240, 242
Донцова Д. 219, 238
Достоевский Ф.М. 89, 203
Драгунский Д. 311
Дубин Б.В. 306, 325
Дьюи Дж. 63, 86, 325
Дюгем П. 32
Евклид 40
Еврипид 184
Екатерина II 222
Елисеев Г.З. 286
Ельмеев В.Я. 86
Ельчанинов Ал. 151
Есин С.Н. 87, 272
Желтов Ф.А. 291
Живов 133, 325
Жильсон Э. 82, 325
Жихарев С.П. 248
Жолковский А.К. 9, 34, 36, 51
Жуковский В.А. 284, 285, 325
Забелин И.Е. 297
Зализняк А.А. 7, 133, 148, 149, 151, 156, 325
Зангалис К. 275
�354
Указатель имен
Земляной С.Н. 66, 112
Зеньковский В.В. 146
Зиммель Г. 194
Зощенко М.М. 301
Зуева О. 88
Зябухина П. 175, 325
Иван IV Грозный 294
Иванов-Разумник Р.В. 144, 145, 292, 294, 296, 302, 305, 312, 325
Ильф Илья (наст, имя: Файнзильберг И.Л.) 300
Иннокентий III, папа римский 166
Иоаким Флорский 295
Иосиф Флавий 167
Искандер Ф.А. 91, 151, 240, 245
Исократ 165
Истомин К. 52, 84, 173
Каблиц И.И. (псевдоним И. Юзов) 288-291, 312, 326
Казютинский В.В. 10
Кант И. 42, 43, 63, 86, 104, 105, 111, 116, 197, 198, 277
Кантор Ю. 243
Карабош А. 217
Карамзин Н.М. 221
Карасик В.И 137, 326
Карнап Р. 51
Карпов В.П. 154
Карцев Д. 274
Касатонов В.Н. 177, 326
Катц Дж. (Katz J.) 18, 29-31, 37, 121, 342
Кезин А.В. 6, 326
Келер В. 67, 326
Ключевский В.О. 89, 160, 297, 326
Ковалевский М.М. 236
Ковалев Г. 274
Ковальчук Л.П. 119, 326
Ковечеш 3. (Kövecses Z.) 86, 90, 97, 160, 175, 179, 182, 187, 343, 346
Козеллек Р. (Koselleck R.) 133, 147, 204, 224, 343
Козлова М. 65
Кокинов Б. (Kokinov В.) 74, 340, 341, 348
Коплстон Ф.Ч. 82, 326
Кормер В.Ф. 301, 326
Короленко В.Г. 49
Косой Ф. 294
Котляр Г. 61
Кравченко А.В. 23, 32, 326
Красс Н.А. 140
Крон А.А. (наст, фам.: Крейн) 54
Кронгауз М.А. 51, 326
Крофт В. (Croft W.) 11, 98, 187, 335, 345
Крылова Т.В. 50, 326
Указатель имен
355
Куайн У. (Quine W.) 23, 32, 54, 346
Кубицкий А.В. 163, 164
Кубрякова Е.С. 10, 23, 29, 32, 138, 326, 327
Кузнецова Л.Э. 138, 139, 140, 156, 327
Кузьмин С.А. 189, 327
Кун Т. 6, 34, 315, 327
Кунин В.В. 225, 303, 313
Курбский А.М. 294
Куренной В.А. 306, 327
Кьеркегор С. (Kierkegaard S.) 61, 82, 83, 335, 336, 342, 246, 250
Лавровский П.А. 284, 327
Лакатос И. 6, 29, 32, 327
Лакофф Дж. (LakoffG.) 9, 23-25, 29, 31, 32, 57, 86, 87, 92-95, 97-100, 121, 123,
130, 158, 160, 163, 173-175, 179, 180, 182, 186, 187, 205, 219, 232, 235, 241,
252, 336, 338, 343
Лакофф Р. 31
Лангакер P. (Langacker R.) 32, 98, 187, 344
Ласник Г. 29
Леви-Брюль Л. 114, 115, 327
Левин К. 67, 327
Левонтина И.Б. 50, 151, 325, 327
Лейбниц Г.В. 38-40, 43, 52, 159, 171-173, 177, 198, 277, 327
Ленин В.И. 293
Леонардо да Винчи 171
Леонт, правитель Флиунта 206
Леонтьев К.Н. 221
Лермонтов М.Ю. 153, 290
Лесков Н.С. 291, 297
Лессинг Т. 194
Лидцелл Г. (Liddell Н.) 162, 183, 344
Лихачев Д.С. 136, 146, 151, 327
Локк Дж. 38, 224
Лосский Н. 277
Лотман Ю.М. 177, 187, 328
Лукреций Тит Кар 165, 166, 176
Луначарский А.В. 293, 294, 298, 328
Лурия А.Р. (Luria A.R.) 31, 43, 53, 120, 328, 344
Лэнди Д. (Landy D.) 74, 340, 343
Лютер М. 52
Майоров Г.Г. 40
Маканин B.C. 303, 313
Макаренко А.С. 218
Маккоули Дж. (McCawley J.) 29, 31, 344
Максвелл 34
Малахов B.C. 112
Мандельштам О.Э. 224
Маркс К. 24, 144
Мах Э. 197
Мельгунов С.П. 113
�356
Мельник А. 217
Мельчук И.А. 34, 36, 44, 45, 51, 53, 54, 328
Меньшиков А.Д. 218
Мережковский Д.С. 144, 294, 295, 328
Меркулов Д 245
Милюков П.Н. 297, 328
Минь Ж.-П. (Migne J.-P.) 129, 248
Мироненко-Макарова И.К. 139, 328
Митяев О.Г. 225
Михайлов А.В. 279
Михайловский Н.К. 286, 289, 290, 292, 294, 306, 328
Михеев А.В. 120, 331
Мэтлок Т. (Matlock Т.) 75
Набоков В.В. 146
Наумов В.Н. 87
Никитенко А.В. 248, 294, 302, 312, 313, 329
Никитин Ю. 310
Нова У. 219
Новиков Н.И. 234, 235, 294
Нуньес P. (Nún˜ez R.) 99
Ньюмейер Ф. (Newmeier F.) 30, 31, 344
Ньютон И. 21, 22, 25, 34, 140, 277
Овсянников В.В. 88
Оже Э. 72
Ожегов С.И. 247, 248, 329
Окуджава Б.Ш. 225
Онианс Р. 187, 329
Ордерик Витал ис 176
Остин Дж. 31
Островский А.Н. 201
Островский Н.А. 48
Павлов И.П. 90
Павсаний 319
Паперно И. 312, 329
Парменид 58, 281
Паскаль Б. 139
Патнэм X. (Putnam Н.) 23, 32, 83, 345
Пашин С.А. 175
Перикл 162, 319
Перки К. (Perky С.) 73, 74, 84, 345
Петр I 192, 218, 287, 295, 297, 298, 312, 329
Петр III 222
Петров Е.П. (наст. фам.: Катаев) 245
Петрова М.Л. 141, 245, 300, 329
Петровский Ф.А. 166
Петросян М. 219, 265, 279
Пиаже Ж. 6, 23, 28, 29, 32, 59, 67, 71, 72, 85, 99, 329
Пирс Ч. 22
Указатель имен
Указатель имен
Пирсман И. (Peirsman Y.) 187, 339
Писарев Д.И. 203
Писемский А.Ф. 217, 297
Пифагор 205, 206
Платон 58, 59, 62, 139, 163, 168, 176, 184, 185, 187, 200, 205, 283, 319, 321
Платонов А.П. (наст, фам.: Климентов) 87
Плотин 324
Плотинский Ю.М. 189, 329
Плутарх 164
Подзолкова Н.В. 7, 133, 138, 142, 146, 156, 329
Покровский Б.А. 48
Поликлет 164
Померанц Г.С. 302, 329
Попов Г. 275
Попов П.С. 186, 328
Поппер К. (Popper K.R.) 6, 23, 32, 38, 43, 51 110, 329, 345
Постал П. (Postal P.) 18, 29-31, 37, 121, 342
Потресов А.Н. 293
Пракситель 196
Приходько Е.В. 133, 329
Проханов А. 311
Прохоров Ю.Е. 138, 139, 329
Пуанкаре А. 72
Пудин А. 221
Пушкин А.С. 53, 157, 211, 215, 216, 224, 329
Пятаева Н.В. 212, 330
Пятковский А.Я. 285, 287
Радден Г. (Radden G.) 179, 182, 187, 346
Радзинский Э.С. 48
Радищев А.Н. 216, 294
Рассел Б. 51
Ревазов А.А. 307
Рембрандт X. ван Рейн 196-198
Рецептер В. 243
Ризолатти Дж. (Rizzolatti G.) 73, 84, 346
Романов В.Н. 10, 33, 53, 99, 120, 224, 330
Росс X. 29, 31
Рош Э. (Rosch Е.) 76, 77, 84, 346
Рубанов А. 241
Рубина Д. 272, 277
Руденко Б. 274
Рункин А. 245
Руссо Ж.-Ж. 159, 171
Рыбаков А.А. 242, 246
Сабуров Г. 88
Сабуров Е.Ф. 306, 330
Саитов М.И. 265
Салтыков-Щедрин М.Е. 285, 286
Самарин Ю.Ф. 297
357
�358
Указатель имен
Самойлов Д.С. 89
Самсонов Н.В. 185
Самсонов С. 265, 280
Самухин Н.В. 70, 330
Санин А.В. 63
Сартинов Е.П. 307
Сартр Ж.-П. 63, 330
Свендсен Л. 225, 330
Свитцер Е. 108, 113, 115, 116
Селищев А.М. 182, 330
Сельвинский И..Л. 301
Серафимович А.С. 113
Сергеенко М.С. 169, 248
Сёрль Дж. (Searle J.) 23, 32, 130, 347
Сидорина Т.Ю. 190, 330
Скабичевский А.М. 286
Скот Д. 137
Скотт P. (Scott R.) 162, 183, 344
Скребцова Т.Г. 119, 330
Слобин Д. (Slobin D.) 41, 53, 347
Смирнов Г.А. 82, 323
Смит Н. (Smith N.) 31, 177, 340, 341, 347
Соболевский С.И. 164
Солдатенко В. 273, 276
Солженицын А.И. 151, 154, 231, 246, 301, 302, 308, 330
Соллогуб В. 248
Солнцев Р. 280
Соловьев В.Д. 52, 330
Соломатина Т. 265, 268, 270, 273, 276, 278, 310
Сорокин П.А. (Sorokin Р.) 194-199, 201, 204, 205, 347
Спивакова С. 246
Спиноза Б. 177, 198
Сталин И.В. 300
Степанов Ю.С. 7, 133, 136, 138, 143-146, 156, 330
Струве П.Б. 295
Суворин А.С. 287
Суворов А.В. 151
Сурикова А.И. 87
Сурмава А.В. 91
Талми Л. (Talmy L.) 98, 347
Тарасова В. 239
Терехов А. 311
Тёрнер М. (Turner М.) 4, 9, 57, 100, 102, 104-113, 116, 117, 119-121, 179, 223,
337, 348
Тертуллиан К.С.Ф. 166
Тестелец Я.Г. 23, 29, 31, 32, 330
Тимофеева О. 272
Титченер Э. 84
Тихонов А.Н. 212, 268, 311, 331
Ткаченко Г.А. 10, 133, 331
Указатель имен
359
Тойнби А. 194, 205
Токарева В. 310
Толстой А.А. 151
Толстой Л.Н. 93, 94, 99, 151-155, 159, 160, 175, 180, 197, 204, 245, 248, 291,
331
Толь (Толль) Ф.-Э.Г. 284
Томаселло М. (Tomasello М.) 80, 81, 82, 85, 331,332, 334, 348
Тредиаковский В.К. 284
Тронина Т. 219
Троцкий Л.Д. 143
Трубецкой Н.С. 113
Тульвисте П. 120, 331
Тургенев И.С. 204, 285
Тютчев Ф.И. 280
Уилкинс Дж. 39
Улицкая Л.Е. 88, 240, 246
Урысон Е.В. 148, 331
Успенский Б.А. 213, 305, 331
Утесов Л.О. 89
Федотов Г.П. 296, 297, 312, 331
Феодосий Косой 198
Фидий 164
Филемон 164
Филлмор Ч. (Fillmore Ch.) 9, 57, 119. 128, 129, 209, 331, 337, 338
Фихте И.Г. 60, 198
Флавий 167
Флерова В.А. 62, 64
Флорский И. 295
Фодор Дж. (Fodor J.) 29, 338
Фоконье 4, 9, 57, 100-102, 105-113, 116, 117, 119-121
Фома Аквинский 59, 137, 202
Фонвизин Д.И. 235, 294
Франк С.Л. 244, 295, 296, 331
Фрейд З. 13, 24
Фрумкина P.M. 53, 54, 84, 115, 120, 331
Фукидид 176, 184
Фуко М. (Foucault М.) 23, 32, 335
Фукс Г. 89
Хайдеггер М. 62, 64, 83, 332
Ханин В.Е. 268
Харрис P. (Harris R.) 29, 30, 31, 341
Хархордин О.В. 204, 332
Хокинг С. 110
Холькин Р.В. 189, 332
Хомский Н. (Chomsky N.) 6, 9, 13-32, 34, 35, 38, 40, 41, 51, 52, 57, 71, 72, 92,
93, 99, 210, 332, 334, 335, 344
Хоркхаймер М. 160, 332
Хусяинова Р. 130
�360
Цветков И. 244
Цеткин К. 143
Цицерон Марк Туллий 283, 319
Чаадаев П.Я. 192, 295
Чарская JI.A. (урожд. Воронова) 91
Черныщевский Н.Г. 251, 285, 312
Чехов А.П. 89, 154, 155, 291, 292
Чехова М.П. 292
Чижевский А.Л. 88
Чулков Г. 245
Шайкевич А.Я. 332
Шаляпин Ф.И. 48
Шахиджанян В. 239
Шапиро Л. (Shapiro L.) 78, 347
Швейцер А. 194, 198, 199, 204, 332
Шекспир У. 159
Шеллинг Ф.В.Й. 60, 198, 280, 284
Шендерович В.А. 332
Шергин Б.В. 88, 246
Шестерова Т. 242
Шестова О. 273
Ширшов И.А. 212, 224, 332
Шишкин М. 235, 275, 276
Шкловский В.Б. 20, 243
Шлик М. 51
Шмелев А.Д. 151, 152, 154, 325, 332
Шмидт С.О. 312, 332
Шопенгауэр А. 61
Шпенглер О. 194, 198, 205
Шубин А. 310
Щапов А.П. 286, 287
Щеглов А. 219
Эванс В. (Evans V.) 9, 10, 57, 119, 121-130, 208, 229, 336, 337
Эйнштейн А. 23, 111
Эпикур 192
Эренбург И.Г. 278
Юм Д. 242
Юрский С. 242
Якобсон P.O. 181, 182, 187, 332
Яковлева Е.С. 133, 332
Ясперс К. 63, 332
Указатель имен
Указатель имен
Akhtar N. 332
Alanus de Insulis 177
Alexander J. 106, 333
Allan К. 349
Alpert N. 343
Angier T. 175, 333
Anttila R. 157, 224, 333
Antony L. 335, 341, 344
Arata L. 187, 333
Arthur M. 333
Atkins B. 128, 129, 338
Auwera J. van der 339
Bach E. 344
Bakema P. 338
Banton M. 339
Barnden J. 175, 333
Barrow J. 10
Barry R. 82, 333
Barsalou L. 79, 80, 84, 85, 333, 349
Barselona A. 187, 333
Bartsch R. 187, 333
Behne T. 334
Benczes R. 333
Bennett C. 64, 333
Bergen B. 75, 333
Bermúdez J.L. 30, 334
Bernstein H.E. 225, 334
Bertman M. 177, 334
Bloom L. 52, 53, 334
Boroditsky L. 96, 223, 334
Bower G. 84, 334, 349
Brandt F. 100, 102, 119, 120, 177, 334
Bruner J. 53, 54, 334
Buonanno E. 343
Call J. 334, 348
Callaghan T. 81, 334
Carpenter M. 80, 332, 334, 348
Chabris C.F. 343
Chomsky N. 14-22, 25-32, 334, 335, 344
Clark A. 84, 335
Clauser T. 98, 335
Collins J. 83, 335
Conti-Ramsden G. 29, 345
Cook J. 175, 335
Coulson S. 120, 334, 339, 345
Craighero L. 84, 346
Croft W. 10, 98, 187, 335, 345
Cruse D. 10, 335
Cunningham G. 64, 335
361
�362
Указатель имен
Cuyckens H. 10, 98, 119, 339
Das V. 83, 335
Davidson D. 346
De Vega M. 85, 116, 117, 333, 3362
Deignan A. 99, 183, 187, 269, 335
Delbecque N. 339
Des Chene D. 177, 336
Diessel H. 336
Dirven R. 187, 333, 335, 336
Djordjevic J. 73, 336
Dodge E. 98, 336
Dummett M. 30, 336
Edwards P. 83, 336
Emmanuel S. 83, 336
Evans V. 10, 119, 121-123, 128, 130, 336, 337
Fabbri-Destro M. 84, 346
Farah M J. 73, 336, 337
Fauconnier G. 101, 102, 104, 106, 107, 109, 119, 120, 337, 347
Feyaerts K. 180, 337
Fisher C. 180, 337
Fodor J. 29, 338
Foley C. 29, 32, 33, 344
Foster G. 83, 338
Foucault M. 32, 335
Gallese V. 338
Gärdenfors P. 98, 338
Garver N. 83, 338
Geeraerts D. 10, 77, 98, 119, 120, 133, 158, 187, 216, 338, 339, 345
Geertz C. 224, 339
Gerhohus Reicherspergensis 177
Gevaert C. 158, 339
Gibbs R.W. jr. 78, 84, 95, 96, 100, 110, 339
Gibson J. 86, 339
Gigerenzer G. 119, 339
Ginascol F. 82, 339
Glasbey Sh. 333
Glebkin V. 10, 85, 120, 125, 175, 208, 223, 339, 340
Gleitman L. 31, 338, 340
Glenberg A. 76, 333, 336, 340
Gluckman A. 348
Goatly A. 175, 177
Goddard C. 36, 37, 43, 52, 340
Goldsmith J. 31, 341
Goldstone R. 74, 80, 84, 340, 343
Gonsales-Marquez M. 333, 339
Goossens L. 187, 340
Grady J. 98, 336, 340
Указатель имен
363
Graesser A. 237, 240, 243, 245, 248, 250, 252
Green G. 340
Green M. 10, 31, 119, 336, 340
Grondelaers S. 158, 338, 339
Haken H. 175, 341
Hall D.G. 338
Halpern A. 73, 349
Hamilton S. 343
Harder P. 100, 102, 341
Hari R. 84, 341
Harris R. 29, 30, 31, 341
Harms R. 344
Healy S. 225, 341
Heine B. 99, 341
Held M. 83, 341
Heller K. 204, 341
Hertwig R. 119, 341
Hieronymus Stridonensis 176
Hintikka J. 346
Hobson P. 348
Hoffrage U. 119, 341
Hood L. 334
Hornstein N. 238, 239, 245, 247
Horwich P. 335, 341
Hougaard A. 102, 345
Hubbard T. 73, 341
Huck G. 31, 341
Hugo Eterianus 177
Hunter J. 83, 341
Husserl E. 199, 200, 205, 341
Imai M. 115, 342
Ishai A. 84, 342
Jackendoff R. 52, 342
Johnson M. 29, 32, 83, 86, 87, 90, 91, 93, 98, 99, 130, 160, 175, 180, 187, 223, 342,
343
Jones-Gotman M. 336
Just M. 30, 84, 342
Kallen H. 83, 342
Karlqvist A. 341
Karmiloff-Smith A. 340, 341, 348
Katz J. 18, 30, 342
Keller-Cohen D. 53, 343, 363
Kellman Ph. 84, 342
Kessel F. 346
Kierkegaard S. 61, 335, 336, 341, 342
Klerks W. 225, 342
Kokinov B. 74, 340, 341, 348
�364
Указатель имен
Kornprobst M. 99, 342
Koselleck R. 133, 147, 204, 224, 343
Kosslyn S. 73, 343
Kövecses Z. 86, 90, 97, 160, 175, 179, 187, 343
Kristiansen G. 339
Krois J. 338
Kujala M.-V. 84, 341
Lakoff G. 29, 32, 86, 87, 93, 98, 99, 160, 175, 180, 182, 187, 336, 338, 343
Landau B. 338
Landy D. 74, 340, 343
Langacker R. 32, 187, 344
Lee M. 333
Liddell H. 162, 344
Lightbown P. 344
Lindem K. 340
Liszkowski U. 334
Lohmann H. 344
Luria A.R 43, 344
Lust B. 29, 32, 33, 344
Lycan W. 29, 32, 344
Mac Cormac E. 175, 344
MacLaury R. 338, 339, 341
Maljkovic V. 343
Matlock T. 75, 344
Marrati P. 62, 344
Massey Ch. 342
McNamara T. 349
Mehta S. 340
Meyer M. 340
Mills A. 29, 344
Mittelberg I. 333, 339
Moll H. 80, 85, 334, 344
Morrow D. 84, 334, 349
Musolff A. 99, 344
Nachtomy O. 177, 347
Nahoum-Grappe V. 225, 344
Nersessian N.J. 340, 341, 348
Newmeyer F. 30, 31, 344
Noё F. 84, 344
Oakley T. 102, 120, 345
Ormerod R. 83
Overton W. 348
Palermo D. 348
Pauwels P. 340
Pecher D. 333
Peifer J.F. 137, 345
Указатель имен
Peirsman Y. 187, 339, 345
Pérez-Pereira M. 29, 345
Perky C. 73, 345
Petrides M. 336
Petrus Lombardus 177
Philippus de Harveng 177
Pocock J.G. 147, 204, 345
Popper K.R. 6, 32, 345
Postal P. 18, 30, 342
Pouliot V. 342
Pulvermüller F. 130, 345
Putnam H. 32, 83, 345
Quine W. 32, 346
Quinn N. 99, 346
Radden G. 179, 187, 346
Rakowitz S. 334
Ramscar M. 96, 223, 334
Rauch S. 343
Riffio B. 336
Rijn H. van 339, 344
Rinck M. 349
Rizzolatti G. 84, 346
Roberts C. 175, 346
Robertus Pullus 175, 346
Roher T. 98, 346
Roochnik D. 175, 346
Rosch E. 76, 77, 84, 346
Rosengren M. 338
Rudzka-Ostyn B. 340
Rufius Aquileiensis 176
Saalbach H. 115, 342
Sagi D. 84, 342
Sanford A. 84, 102, 116-118, 337, 346
Santos A. 333
Scott R. 62, 344
Searle J. 130, 347
Shah N. 342
Shapiro L. 78, 347
Sicardus Cremonensis 171
Simmons K. 333
Simon-Vandenbergen A.-M. 171, 340
Sinigaglia С. 84, 346
Smith J. 31, 177, 340, 341, 347
Smollett T.G. 191
Son J. 340, 342
Sorokin P.A. 194-197, 205, 347
Spacks P.M. 225, 347
Spivey M. 237, 242
365
�366
Steidele A. 338
Stoeckig K. 73, 341
Svedin U. 341
Sweetser E. 101, 108, 175, 347
Swenson D. 83, 347
Taatgen N. 339, 343
Talmy L. 98, 347
Taylor J. 338, 339, 341
Thagard P. 30, 347
Thompson W. 343
TiplerF. 11, 237
Tissari H. 349
Todd P. 119, 339
Tomasello M. 80, 81, 85, 332, 334, 336, 344, 348
Tsimpli I.M. 31, 347
Turner M. 102, 104, 106, 107, 109, 119, 120, 223, 337, 348
Ungerer F. 119, 348
Uritta M. 116, 117, 336
Vankov I. 74, 348
Völker L. 225, 348
Wallington A. 343
Warneken F. 334
Wellington A. 333
Weise S. 343
Westerkamp D. 338
Wiemer-Hastings K. 79, 80, 333
Wilson Ch. 84, 333
Wilson S. 349
Winters M. 98, 349
Yeh W. 78, 79, 85, 349
Yu N. 99, 349
Zaiotti R. 246
Zampolli A. 241
Zatorre R.J. 73, 336, 349
Zinken J. 99, 344
Zwaan R. 79, 333, 349
Указатель имен
Содержание
Введение
Часть I. Модели языка как автономной системы
Глава I. Мировоззренческие основания и методология
генеративной грамматики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Глава 2. Мировоззренческие основания и методология
изоляционистских теорий в области лингвистической
семантики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Часть II. Антропоцентричные семантические модели
Глава 3. Философские и психологические основания
антропоцентричных семантических моделей . . . . . . . . . . . . . . 58
Глава 4. Теория концептуальной метафоры
Лакоффа–Джонсона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Глава 5. Tеория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и
М. Тернера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Глава 6. Теория лексических концептов и когнитивных
моделей и семантика фреймов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Часть III. Культурно-исторический подход в когнитивной семантике
Глава 7. Концепт, концептосфера, языковая картина мира:
критический анализ терминов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Глава 8. Социокультурная история метафоры механизма . . . . . 158
Глава 9. Когнитивные основания метонимии и метафоры . . . . 178
Глава 10. Термин и его интерпретация: что мы имеем в виду,
говоря о кризисе культуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Глава 11. Общие контуры социокультурной теории
лексических комплексов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Глава 12. Описание комплекса «открывать» в рамках
социокультурной теории лексических комплексов . . . . . . . 226
Глава 13. Описание комплекса «камень» в рамках
социокультурной теории лексических комплексов . . . . . . . . 250
Глава 14. Описание комплекса «интеллигенция» в рамках
социокультурной теории лексических комплексов . . . . . . . 281
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Приложения
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Указатель имен. Составитель В.В. Лавреников . . . . . . . . . . . . . . . 350
�НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
Humanitas
Глебкин Владимир Владиславович
Смена парадигм в лингвистической семантике:
от изоляционизма к социокультурным моделям
Корректор И.И. Ремезова
Идея обложки Н.В. Глебкина
Компьютерная верстка В.Д. Лавреников
Подписано в печать 20.04.2014.
Гарнитура NewtonC. Формат 60x901/16. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 23 .
Тираж 1000 экз. Заказ
По издательским вопросам обращаться
в «Центр гуманитарных инициатив»,
e-mail: unikniga@yandex.ru, unibook@mail.ru.
Руководитель центра Соснов П.В.
Оптовая продажа в Санкт-Петербурге:
ООО «Университетская книга-СПб»,
тел.: (812) 640-08-71, e-mail: uniknigal@westcalll.net.
Оптовая продажа в Москве:
ООО «Университетская книга-СПб»,
тел.: (495) 915-32-84, e-mail: ukniga-m@libfl.ru.
Розничная продажа в Санкт-Петербурге:
магазин «Книжный окоп»,
В. О., Тучков пер., 11,
тел.: (812)323-85-84.
Розничная продажа в Москве:
тел. (495)745-15-36, e-mail: www.notabene.ru.
Отпечатано: Издательско-полиграфическая компания «Контент-пресс»
127016 Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 18, под. 3,
тел.: (495) 648-88-6000
�
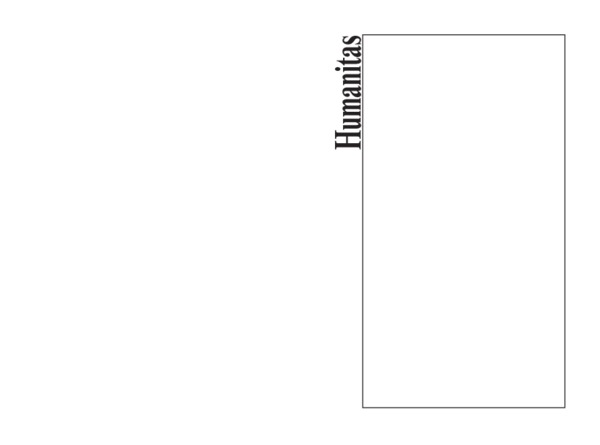
 Vladimir Glebkin
Vladimir Glebkin