ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
2018 · № 1
К У Л ЬТ У РА
И.О. ДЕМЕНТЬЕВ
Науки о человеке как призвание и профессия
В настоящем исследовании проанализировано содержание коллективной монографии “Науки о человеке. История дисциплин” (2015) в контексте современных подходов к истории науки.
Представлены основные тезисы авторов монографии, в том числе интерпретация предыстории
гуманитарной эпистемологии в Европе и истории дисциплиностроительства в социогуманитарном знании в XVIII–XXI вв. Охарактеризована генеалогия понятия “гуманитарные науки”,
отмечены культурно обусловленные различия в классификации гуманитарных и социальных
наук. Предложены возможные перспективы дальнейшей разработки тематики монографии
в свете анализа процессов глобализации, дигитализации и демодернизации наук о человеке.
Ключевые слова: гуманитарные науки, история знания, науки о человеке, социальные
науки.
Человек как предмет научного знания – далеко не новая тема, однако каждый исследователь на очередном этапе осмысления эволюции наук о человеке, то есть гуманитарных и социальных дисциплин, вынужден ставить новые вопросы и переосмысливать пройденный предшественниками путь. Вехой в российской истории науки
можно признать коллективный труд “Науки о человеке. История дисциплин”, изданный в 2015 г. под редакцией А. Дмитриева и И. Савельевой [Науки о человеке… 2015].
Этот проект, объединивший ученых из разных стран, позволил представить широкую
панораму социально-гуманитарного знания и предложить пересмотр традиционных
подходов к вопросам континуитета в развитии знания, соотношения теории и практики, противостояния академической иерархии и альтернативных сообществ.
Три раздела книги посвящены трем этапам становления социогуманитарного знания – в раннее Новое время, в долгом “золотом веке” (с конца XVIII до середины
ХХ в.) и в (пост)современности. Эта периодизация не вполне совпадает с предложенной во введении к книге Дмитриевым на основе схемы Й. Хейлброна периодизацией
смены режимов дисциплинарности: “эпоха водораздела” (1750–1850 гг.), “интенсивное
онаучивание” (1890–1920-е гг.), период утверждения формата Big Science как главной
модели организации науки (с. 20–23)1. Теоретическая мысль, то есть “рефлексия дис1
Здесь и далее в тексте ссылки на работу [Науки о человеке… 2015] даются в круглых скобках с указанием номера страницы.
Д е м е н т ь е в Илья Олегович – кандидат исторических наук, доцент Института гуманитарных наук
Балтийского федерального университета им. И. Канта. Адрес: 236041 Калининград, ул. А. Невского, 14.
E-mail: IDementev@kantiana.ru
158
�циплинарности”, отмечает Дмитриев, отставала от практики дисциплиностроительства, поэтому основные этапы становления этой рефлексии выпадают, в сущности,
на ХХ столетие (с. 24).
В первом разделе “Порядки и структуры знания: от гуманизма к Просвещению”
всего три главы, но они формируют представление о проблематичности дисциплинарного порядка в канун дифференциации наук. П. Соколов пишет о предыстории
гуманитарной эпистемологии, Ю. Иванова анализирует развитие принципа дисциплинарности в раннее Новое время, а Н. Осминская обращается к казусу классификации наук в мысли раннего Г.В. Лейбница. Демонстрируя, как в XV–XVII вв. менялся
эпистемологический статус гуманитарного знания, Соколов подчеркивает наличие
разных, даже противоположных тенденций в теоретических воззрениях на ученые
занятия. Стремлению к “интегральной науке” об историческом мире сопутствовали
проявления дисциплинарного монизма, то есть претензии отдельных дисциплин на
метадисциплинарный статус (с. 49). В главе Ивановой показано, как в XVII–XVIII вв.
параллельно дисциплинарной специализации, укорененной в научном знании раннего Нового времени, развивались альтернативы дисциплинарному принципу. Автор прослеживает эволюцию этой оппозиции вплоть до методологических дискуссий ХХ в.: гуманитарная эпистемология в такой трактовке оказывается обреченной на
пребывание в состоянии in between – между безуспешным поиском, в терминах Ивановой, единого языка гуманитарной теории и существованием множественности дисциплинарных диалектов (с. 73). Наконец, Осминская исследует попытку Лейбница
разработать всеобщую науку. Философ большое внимание уделял вопросам классификации наук и условий их интеграции в рамках энциклопедии. Интерес к методологическим экспериментам Лейбница не только носит характер антикварного влечения
к курьезам (кто теперь вспомнит, что такое пойография – наука о чувственно воспринимаемых качествах?), но и помогает осмыслить важный этап в развитии принципа дисциплинарности. Самой постановкой проблемы Лейбниц прокладывает дорогу
и энциклопедистам-практикам XVIII в. и тем ученым, с именами которых связано
оформление дисциплин в веке девятнадцатом.
Второй раздел, озаглавленный “Золотой век дисциплиностроительства”, – самый
большой по объему, в нем 10 глав. После общего очерка Л. Дастон о “дисциплинировании дисциплин” в конце XVIII–конце ХIХ в. следуют характеристики отдельных
дисциплин в разных национальных традициях, в соответствии, надо полагать, с научными интересами авторов. В некоторых главах предметом исследования становится
европейская традиция в целом – П. Резвых пишет о мифологии как предмете и дисциплине в романтической науке о древности, Г. Юдин – о наукоучении Э. Гуссерля
в контексте кризиса теории разделения наук, а Р. Тоштендаль – о метаморфозах дисциплинарности в практических профессиях и в исследовательской деятельности на
протяжении столетия (1850–1940 гг.). Однако бóльшая часть кейсов относится к родным пенатам – “наука русских древностей” (В. Боярченков), историография (В. Берелович), правоведение (М. Тисье), русская социология (И. Герасимов, М. Могильнер,
А. Семёнов) и советская социология (А. Филиппов), психология (А. Ясницкий).
Третий раздел «“После дисциплин” или новая дисциплинарность?» включает
восемь глав. Г. Юдин продолжает разговор о социологии, Б. Степанов обращается
к культурным исследованиям, В. Файер – к науке о языке, М. Дёмин – к университетской философии, Р. Капелюшников – к поведенческой экономике. Новые процессы
побудили авторов сконцентрироваться на новых вызовах – так, И. Савельева размышляет о публичной истории (принадлежность которой к кругу дисциплин сама по себе
под вопросом), а О. Кирчик – о транснациональных иерархиях и локальных порядках
знания в экономике. В последней главе А. Дмитриев и О. Запорожец пишут о дисциплинарном принципе и аналитике “общества знания”. Характерно, что если второй
раздел концентрируется на национальной традиции, то третий в большей степени
свидетельствует об интернационализации знания. Введение и заключение, очерчивающие концептуальные рамки исследования, написаны Дмитриевым, в приложении
159
�к книге публикуется перевод методологически значимой статьи А. Момильяно “Древняя история и любители древностей” (1950).
Главы в основной части позволяют сфокусироваться на конкретных дисциплинах, при этом сами названия разделов отражают смысл процессов, характерных для
каждого этапа: в первом проблематизируется картина синкретичного знания о человеке, которое на поверку оказывается лишенным стратегического единства; во втором
предлагается case study на примере конкретных дисциплин; в третьем предлагается
увидеть в актуальном состоянии наук либо исчезновение дисциплинарности, либо
дисциплинарность нового качества.
Охарактеризовать фундаментальную работу значительного объема, открывающую множество перспектив для осмысления опыта становления, развития и, в иных
случаях, краха дисциплин о человеке, – непростая задача. Трудно однозначно идентифицировать направление, в котором работает авторский коллектив, – это и история
наук, приобретающая новое дыхание в последние годы (так, в 2015–2016 гг. история
наук фигурировала в числе тем нескольких номеров знаменитого журнала “Анналы”;
см., например, [Chartier 2016]), и интеллектуальная история (с. 388), и социология научного знания. Жанр издания заявлен как коллективная монография, хотя скептически настроенному читателю книга больше напомнит сборник статей (тем более что
некоторые главы представляют собой переводы материалов из иноязычных изданий).
И в то же время это коллективный труд, посвященный углубленному изучению одной
темы – эволюции принципа дисциплинарности в науках о человеке. В нем сочетаются исторические очерки, теоретические экскурсы и тщательное изучение отдельных
кейсов, так что проблематика дисциплинарности рассматривается и на микро-, и на
макроуровне с учетом как общемировых, так и национальных трендов.
Общетеоретический вопрос разделения наук обсуждается в книге редко, авторы
в большей части исходят из предзаданной картины дифференциации знания о мире
и человеке. Заметное исключение – глава, написанная Юдиным, в которой актуализируется наукоучение Гуссерля. Достаточно поздно подключившись к затянувшемуся
спору о разделении наук, Гуссерль своим феноменологическим анализом последовательно отстаивал тезис о нарушении паритета между естественными и гуманитарными науками (как и между науками в целом и философией). Поскольку жизненный мир
“окружает нас прежде всякой науки… познание природы не может быть равноправным
по отношению к познанию мира духовного”, а философия “только и может выступать
в качестве подлинной и универсальной науки о духе” (с. 261).
Этот подход позволяет взглянуть на прогресс научного знания исторически: на
этапе институционализации гуманитарных дисциплин их претензии на равный статус с науками естественными были эффективной стратегией, однако сегодня эта эффективность утрачена. Признание диспаритета должно защитить гуманитарное знание от натурализма и опереться на потенциал философии как научного инструмента
познания духовного мира. Превосходство гуманитарного знания над естественным
носит онтологический характер, но реализация этого превосходства, к пониманию
которого подошел Гуссерль несколько десятилетий назад, еще впереди (с. 262). Особенно любопытно сравнить выводы Гуссерля с предпринятым тем же Юдиным анализом обособления социологии в версии Т. Парсонса, настаивавшего через четыре
десятилетия после Гуссерля на решительном размежевании социологии и философии
(с. 384–385).
Между тем, другие авторы по большей части ушли от обсуждения сухой теории
и предложили анализ феномена дисциплинарности на примере конкретных дисциплин, которые стали полем борьбы различных стратегий и институтов. Когда
в XXI столетии заходит разговор о дисциплинах, неизбежно возникает вопрос о междисциплинарности, которой свойственны те же внутренние противоречия: она, подобно уроборосу, и преодолевает дисциплинарные разногласия, и воспроизводит их.
Междисциплинарность как тренд в развитии научного знания может трактоваться как органичный синтез разных подходов, но иногда востребованными оказываются
160
�и экзотические риторические фигуры. Так, Капелюшников применительно к вторжению психологии в экономическую науку использует метафору империализма2, интерпретируя одну область как метрополию, а другую как колонию (с. 510). Этот случай
междисциплинарного взаимодействия тем более интересен, что внутридисциплинарные ситуации существенно различаются: в экономической теории констатируется “монопарадигмальность”, тогда как для психологии характерен методологический
плюрализм. Казус поведенческой экономики, исследованный глубже, таким образом, побуждает к ревизии перспектив рефлексии над другими междисциплинарными экспериментами.
Более глубокому пониманию сути междисциплинарных проектов способствует
и рассмотрение истории культурных исследований, которая обнаруживает важность
для понимания дискурсивных механизмов конструирования дисциплинарности. Степанов показывает, что даже развернутая критика дисциплинарности, предпринятая
в cultural studies и выразившаяся в стремлении этой области знания самоопределиться
в качестве “антидисциплины”, носит внутренне противоречивый характер и порождает дисциплинаризацию исследований на следующем уровне (с. 419). Наконец, как
отмечает Файер, появление научных направлений поверх дисциплинарных границ
(семиотика или когнитивная наука) повышает общую неопределенность в интерпретации современного состояния дисциплинарности (с. 482).
Частный случай междисциплинарного подхода, достойный отдельного анализа, – квантификация социогуманитарного знания. На основе активного использования математического аппарата наука приобретает своеобразную “недосягаемость для
критики”, которая в “Науках о человеке” рассмотрена на нескольких примерах, хотя,
возможно, недостаточно подробно: Кирчик показывает на примере экономической
теории отсутствие консенсуса по поводу эпистемологических границ применения
математических методов (с. 547–550), а Файер восстанавливает картину восприятия
математизации как средства защиты от идеологического диктата в советской лингвистике (с. 468).
Еще один аспект современных наук о человеке – переопределение их границ в свете анализа профессионализма ученого, “по отношению к труду которого публичность
выступает в качестве отклоняющейся модели” (с. 421). Развернутого очерка удостоилась лишь публичная история, хотя Савельева кратко обозначает широкий круг тем
для дальнейшего изучения – от публичной психологии и криминологии до философии и социологии. В том, что касается публичной истории, вопрос о специализации
и внутренней логике работы ученого на поверку оказывается важнее вопроса о границах между строгой наукой и ее популярными версиями. Публичная история как феномен современного общества, констатирует Савельева, также позволяет прояснить
взаимоотношения между профессионализмом и дисциплинарностью: не являясь отдельной дисциплиной, public history безусловно несет все признаки профессии (с. 451).
Наряду с ревизией границ (меж)дисциплинарности авторы “Наук о человеке” прощупывают и культурно-географические границы, соотнося богатейший российский
материал с мировой повесткой. Сверка часов – стандартная процедура, но в данном
случае она касается практически всех основных гуманитарных и общественных наук,
что создает особый “оптический эффект” – читателю начинает казаться, что отечественная наука развивается в русле общемировой, несмотря на все девиации советского периода. Возможно, впрочем, подобный взгляд отчасти обусловлен сохраняющимся
бессознательным стремлением легитимизировать российскую науку, чей вклад и потенциал остаются недооцененными в мире: травматический опыт, как замечает Дёмин, блокирует всякую рефлексию (с. 502), так что рефлексия сама по себе сигнализирует о начавшемся отступлении травматизма.
2
Возможно, эта метафора появилась у него по аналогии с широко употребляемой метафорой “экономический империализм”, в котором экономистов часто упрекают представители других дисциплин, прежде всего социологии.
161
�Обращение к российскому опыту предполагает вечное возвращение идеи континуитета между дореволюционным и (пост)советским периодами отечественной истории. Авторы обсуждаемой книги нередко обнаруживают приметы преемственности:
например, предметная организация философского образования в императорских
университетах влияет на модель (вос)производства философского знания в советских
вузах, которая, в свою очередь, обеспечивает сохранение философии как дисциплины после краха марксизма-ленинизма (с. 494). В этом анализе было бы уместно учесть
опыт воспроизводства философского знания в русской эмиграции, который оказался
значимым для переопределения контуров отечественной философии в постсоветский
период (и это касается не только философии).
Генеалогию научных традиций не всегда приятно признавать. Ясницкий, например, исследует становление русской психологии в первой половине ХХ в., отказываясь видеть в событиях 1917 г. причину радикального разрыва в традиции. В силу ряда
обстоятельств дореволюционные, соответствующие общеевропейским трендам, особенности психологической науки сохранялись в СССР вплоть до “Великого перелома” рубежа 1920–1930-х гг. Идеологизация психологической науки подчинялась своей
логике, которая, между прочим, не изжита: исследователь констатирует, что “сталинистская модель” в советской психологии до сих пор “во многом остается основной организационной формой существования отечественной университетской психологии”
(с. 329). Непредвзятое обсуждение некоторых генеалогий пока доставляет серьезный
дискомфорт – обсуждаются ли всерьез вопросы о том, сколько в современном российском правоведении рудиментов сталинской юриспруденции или в современной официозной историографии стереотипов, унаследованных от историографии советской?..
Конечно, некоторым авторам удается противостоять соблазну поиска внутренней
преемственности практик и институтов поверх внешних изменений общественного
порядка. Так, Герасимов, Могильнер и Семёнов констатируют дисконтинуитет в развитии российской социологии, пережившей после 1917 г. навязывание новой ортодоксии, которая mutatis mutandis положила конец “наиболее творческому и критически
заостренному социальному теоретизированию” (с. 298).
Словом, в “Науках о человеке” читатель найдет множество умозаключений, важных для понимания развития социогуманитарного знания, и прежде всего отечественного материала. Исторический подход, вводя в соблазн анахронизма, позволяет
вычитывать актуальность в любом, даже внешне совершенно архаичном сюжете. Боярченков восстанавливает острополемический контекст, в котором формировалась
наука о русских древностях первой половины XIX в.: большинство исследователей
тогда оказались психологически неготовыми к дисциплинарным вызовам, оставшись
в плену “бесхитростных описательных подходов” (с. 186). Несмотря на подчеркнуто историографический характер исследования Боярченкова, трудно удержаться и не
провести аналогии с состоянием отечественной гуманитаристики периода распада
официального методологического монизма. Другую “вечную” русскую тему, вероятно, составляет вопрос о соотношении знания о родине и любви к ней: “…наша, отечественная история. Кажется, мы потому плохо ее знаем, что очень ее любим”, – цитирует Берелович лекцию В. Ключевского 1884 г. (с. 200). Нет сомнений, на чьей стороне
был бы автор “Курса русской истории” в возобновившихся в последнее время дебатах
о национальных интересах в историографии.
Дёмин на примере современной университетской философии в России размышляет о “дилемме профессионализма”, которая состоит в необходимости выбора между
стратегиями лояльности и саботажа: лояльность к существующим институтам в отсутствие реальных репутационных механизмов выгодна, но приводит к замыканию
знания, тогда как саботаж действующих норм в отсутствие значительных ресурсов
чреват неоправданными рисками (с. 507). Степанов показывает, как отечественная
культурология, вопреки названию, практически не участвовала в трансляции достижений и методов cultural studies, уступив эту задачу истории и антропологии (с. 390).
Файер от анализа западного контекста переходит к рассмотрению соотношения между
162
�лингвистикой и языкознанием в советской науке (за внешней синонимичностью понятий скрываются парадигмальные различия) (с. 481–482).
Не менее интересны наблюдения Кирчик над эволюцией отечественной экономической науки: даже при наличии некоторых достижений советских экономистов
после распада СССР “не осталось ничего или почти ничего, что можно было бы из их
наследия взять в будущее. В самом деле, в постсоветский период весь комплекс экономических дисциплин претерпел кардинальные изменения в том, что касается теоретических и мировоззренческих оснований, методологии, научного языка” (с. 558).
В этом отношении весьма плодотворным было бы изучение истории математической
экономики в СССР, которая стала альтернативой идеологически стерильной политэкономии социализма и в этом статусе еще ждет своего исследователя (с. 550). Однако достоин особого внимания и сам по себе парадокс – именно экономическая наука,
которая обладает наиболее развитым формальным аппаратом, оказалась разрушена
“до основанья” после краха СССР.
Филиппов в главе с эпатирующим названием “Советская социология как полицейская наука” обыгрывает двусмысленность слова “полиция” в современном прочтении: от обыденного понятия “органов правопорядка” (с унаследованным от советского времени коннотативным значением “репрессивных органов”) к забытому понятию
“благочиния” (как полицию понимали во времена Екатерины II) (с. 334). Преодолев
дисконтинуитет в истории понятия, исследователь показывает, как советская социология сложилась в качестве практической дисциплины – науки “о регуляции поведения, трансформации мотивов и распределении стимулов для достижения общего
блага в бюрократическом, социально-полицейском государстве” (с. 348). Такая история советской социологии, констатирует Филиппов, еще не разработана, хотя общие
контуры ее проблематики просматриваются со всей очевидностью.
Некоторые соображения авторов монографии относятся и к более общим закономерностям развития научного знания. Так, Юдин показывает, как реализация
парсонсовской модели, ориентированной на “экспансию рациональности”, привела
к тому, что “социологическое образование готовит главным образом тех, кто осуществляет социологическое образование”: выбор профессионалами привычной среды для
построения карьеры вполне рационален (с. 386). Нет ли в этом факте проявления общих черт, присущих профессионализации знания на основе дисциплинарности, как
показано еще на примере науки XIX в., когда “историки стали писать для историков”
(с. 431)? Нельзя ли усмотреть ту же самую закономерность и в состоянии философского образования в России, где более рациональным оказывается построение карьеры
в “привычной среде”, то есть в условиях неразвитых репутационных механизмов?
Анализ тенденций в становлении публичной истории побуждает Савельеву констатировать (на российском материале) дифференциацию среди историков, обращающихся к сотрудничеству с публикой, которое строится на почве общего интереса
в условиях отсутствия социально-культурного конфликта между сторонами. Наряду
с академическими историками, которые “научились быть публичными, а значит популярными, оставаясь в границах науки и не поступаясь ее принципами в своей основной работе”, есть такие историки, для которых public history стала самостоятельной
профессией в социологическом смысле слова (с. 435). Савельева ставит новые вопросы
об изменении профессионализма и дисциплинарности в свете вызова публичности,
отмечая, что сами ученые, выступая в публичной роли, уклоняются от манифестации своих размышлений о “трансформации мастерства”, произошедшей вследствие
перестройки их роли в обществе. Особая ценность этой главы, как и некоторых других, в том, что автор от привычного жанра “истории вопроса” переходит к конструированию исследовательских перспектив, попутно показывая читателю собственную лабораторию профессионала. Когда выяснилось, что опубликованные материалы не дают ответов на важные вопросы, Савельева задействовала “интерактивный
метод” – эти вопросы появились в интервью с участниками студенческих проектов
и в частной переписке с коллегами. Возможно, именно этот переход границы между
163
�респектабельными (но отстающими от динамично меняющейся жизни) источниками
и эго-документами нового поколения позволяет исследователю ipso facto продемонстрировать важные изменения в современных науках о человеке.
В обсуждаемой монографии с трудом улавливается единство подхода столь внушительного авторского коллектива. Для одних исследователей важен вопрос о соотношении гуманитарного и естественного знания (Юдин), другие исходят из предзаданной автономии наук о человеке, уклоняясь от вопроса о фундаменте, на котором
зиждется эта автономия. В некоторых случаях читатель получает общий обзор парадигмальных сдвигов (например, в главах Савельевой и Степанова), в иных изучение
конкретного кейса обрывается на полуслове: узнав о революционном вкладе Гуссерля
в науковедение, о модели профессионализма в социологии Парсонса или о диалектике теории и практики в российском правоведении рубежа XIX–XX вв., читатель вправе
ожидать очерка дальнейшего развития этой проблематики в науке, но на это уже не
осталось места. Даже на уровне лексики одни авторы склонны больше к традиционному языку науковедения, другие тяготеют к постмодернизму: Степанов прямо говорит
о деконструкции стереотипов, а Капелюшников “деконструкцию” закавычивает, рассуждая о том, как “стандартная” модель рационального выбора была атакована в ходе
бихевиористского поворота в экономической теории (с. 420, 514).
“Цветущая сложность”, которая свойственна этому коллективному труду, – не
невольная дань эклектизму, а, как мне представляется, сознательный выбор авторов и составителей. Постараюсь поместить этот подход в более широкий контекст.
Одна из навязчивых идей современной истории науки – поиск первоначала, отдаленно напоминающий интенции ранней греческой натурфилософии. Можно все науки
о человеке (humanities) выводить из классической филологии, подобно Дж. Тёрнеру
[Turner 2014], или из немецкой герменевтики второй половины XVIII в., как это делает Р. Левенталь [Leventhal 1994]. Однозначного решения вопроса о первоначале может
и не быть – ведь уже в раннемодерной науке, как показано в первых главах “Наук о человеке”, формирующийся дисциплинарный ландшафт был отмечен многообразием
стратегий, а современный ретроспективный взгляд на истоки humanities нередко детерминирован актуальной проблематикой. Похоже, авторы монографии принципиально уклоняются от обсуждения этого вопроса. Близок к постановке вопроса о субстанциальности, пожалуй, Резвых, показавший, как трансформация проблематики
и методологии современных гуманитарных наук обретает истоки в филологической
дисциплине мифологии, получившей мощный импульс в период романтизма.
Распад представления о единстве научного знания мгновенно актуализирует вопрос о том, как оно дифференцировано, особенно внутри знания “неестественного”.
Дмитриев трактует социогуманитарное знание как единое, хотя и разделенное на разные отрасли и науки (с. 10, 14), вследствие чего и у других авторов понятия “гуманитарные науки” и “социальные науки” незаметно начинают использоваться как синонимичные. Так, у Тисье речь идет об ансамбле “гуманитарных и общественных наук”
(с. 207), хотя для Тоштендаля, например, гуманитарные и общественные науки – две
разные группы дисциплин (с. 367).
Что такое гуманитарные науки? И что такое науки социальные?
Что такое гуманитарные науки и каковы их отличия от наук социальных? Этот
вопрос сегодня постоянно, хотя и безуспешно, обсуждается в литературе по истории
науки. Если оставить за скобками утилитаризм (гуманитарные науки – те, что изучаются на гуманитарных факультетах [Bod 2013, р. 2]) и попытаться выйти из герменевтического круга (гуманитарные науки – это “понимание того, как мы себя понимаем”
[Renaudo 2016, p. 496]), то целесообразно обратиться к истории понятий, бытующих
в научном дискурсе уже несколько столетий.
Понятие “гуманитарные науки” существует в разных европейских языках.
Во Франции говорят о les sciences humaines, в странах Скандинавии – о humaniora /
164
�humanvidenskaber, есть англоязычное понятие humanities, которое изначально самой
морфологией как бы отделяло область занятий гуманитариев от объектов собственно научного изучения (наука, Science – всегда точная наука). Однако в ХХ в. ясное
понимание дисциплинарных границ стало размываться. В английском языке появилось понятие human sciences (по общему мнению, под влиянием английских переводов работ М. Фуко – это едва ли не единственный случай импорта французского понятия в английский язык [The Cambridge History… 2003, p. 3]). В немецкой традиции
“гуманитарного” корня в этой номинации не существовало, потому что самим временем было испытано понятие Geisteswissenschaften (науки о духе), которое в оппозиции к наукам о природе порождено немецкой идеалистической философией начала
XIX в. (Г.В.Ф. Гегель и Ф.В.Й. Шеллинг). По крайней мере, к 1825 г. бинарная структура научного знания получила признание [Kjørup 2001, S. 3], а на рубеже XIX–ХХ вв.
эта оппозиция приобрела дополнительную легитимность под пером теоретиков неокантианства. Однако влияние английской терминологии во второй половине ХХ в.
привело к появлению новых концептов: Gesellschaftswissenschaften (социальные науки),
Menschenwissenschaften и даже Humanwissenschaft (науки о человеке). Так в немецкой
литературе по истории наук, где царил некоторый порядок, в результате экспансии
англоязычной терминологии началась неразбериха. В коллективной работе по компаративистике вместо старомодного определения “науки о духе” пришлось перечислять группы дисциплин, которые ранее им охватывались: социальные, исторические
и культурные науки (Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften), причем первые из них,
похоже, не совпадают в чем-то по значению с Gesellschaftswissenschaften [Vergleich… 2003].
Проблема немецкой терминологии во многом связана с тем, что на каждый германский корень в немецком языке есть романский дублет (отсюда пары Gesellschaftи Sozialwissenschaften, например). Если во французском языке, как и во многих отношениях в английском, лексика дискурса о научном знании восходит к латыни, то для немецкого языка (как и для русского, ср. “социальные науки” и “общественные науки”),
наряду с терминологией латинского происхождения, сформировался “национальный”
категориальный аппарат (во многом под влиянием романтизма, с расцветом которого
совпало складывание базовых научных концептов).
Понятие “гуманитарные науки” (sciences humaines), зафиксированное во французском языке не позднее 1644 г., первоначально обозначало корпус знаний, включавших язык, грамматику, поэзию и риторику. На протяжении следующих столетий оно
противопоставлялось не естественным, а так называемым “высоким наукам” (hautes
sciences), к которым относили теологию, философию и математические дисциплины.
Лишь в ХХ в., по мнению французских лексикографов, sciences humaines стали сближаться со sciences sociales (последнее понятие представляло собой кальку с английского
social sciences) [Dictionnaire… 2000, pp. 3417–3418].
Объектом этого ансамбля гуманитарных и социальных наук стал “человек в обществе”. Именно такое понимание разделял Ф. Бродель, продвигая понятие “науки о человеке” (sciences de l’homme). В статье “История и социальные науки. La longue durée”
(впервые опубликована в 1958 г.) Бродель в духе предыдущего поколения школы “Анналов” отстаивал единство корпуса наук о человеке: “Все науки о человеке, включая
историю, заражены друг другом. Они говорят на одном и том же языке или могут на
нем говорить” [Braudel 1977, p. 55].
Необходимость демаркации границ между науками гуманитарными и социальными волновала и молодого К. Леви-Строса. С цитатой из одного из его сочинений
связана любопытная история бытования в русскоязычной гуманитарной литературе
приписанного ему претенциозного заявления о том, что XXI в. будет веком гуманитарных наук или его не будет вовсе. У раннего Леви-Строса действительно есть похожая мысль – в предисловии к книге К.Х. Берндт “Обряды обмена женщинами в Северной Австралии”: “XXI век будет веком социальных наук или его не будет” (“…le
XXIe siècle sera le siècle des sciences sociales, ou ne sera pas”) [Lévi-Strauss 1950, p. 8]. Однако реконструировать понимание социальных наук у Леви-Строса не очень просто.
165
�В 1950-х гг. у него сложилось представление о разнице между гуманитарными и социальными науками. В “Структурной антропологии” (1958), например, он указывает,
что антропология “опирается на естественные науки, прислоняется к гуманитарным
наукам и обращает свой взор к социальным” [Леви-Строс 2001, с. 377]. Под гуманитарными науками он понимал историю, географию и лингвистику, а под социальными –
социальную психологию, социологию и политические исследования.
Системное изложение взгляда на дисциплинарные границы Леви-Строс представил в статье “Научные критерии в социальных и гуманитарных дисциплинах”
(1964 г.), которая вошла во второй том “Структурной антропологии” (1973 г.), к сожалению, не переведенный на русский язык [Lévi-Strauss 1973]. Рассматривая, насколько
научны разные дисциплины, Леви-Строс приходит к выводу, что граница определяется эпистемологически: точные (естественные или, как в процитированном предисловии, физические) науки, в отличие от прочих, достигают объективности в познании
своего объекта. Среди гуманитарных и социальных наук критерию научности отвечает только постсоссюровская лингвистика. Однако некоторые гуманитарные науки
(археология и история, антропология, лингвистика, философия, логика, психология)
больше сближаются с естественными, чем с социальными (право, экономика, политические исследования, некоторые разделы социологии) [Lévi-Strauss 1973, pp. 341–
363] (см. подробнее [Johnson 2003, pp. 19–25]).
Почему это происходит? По мере развития научного знания, с точки зрения Леви-Строса, раскол между гуманитарными и социальными науками будет углубляться.
Те, кто изучают социальные науки, готовятся к практической работе – профессиональной службе обществу, потому эти дисциплины ориентированы на поддержание
status quo. Науки гуманитарные выстраивают внешнюю перспективу по отношению
к тому же объекту (человек в обществе), отказываясь прямо вовлекаться в решение
текущих общественных проблем. Вывод Леви-Строса состоит в том, что именно в некоторой дистанцированности от злобы дня гуманитарные науки сближаются с естественными и вместе с последними оказываются в оппозиции к наукам социальным.
Подход Леви-Строса в целом разделяют многие авторы, пытающиеся адекватно
передать французские понятия на других языках. Так, М. Гилли в обзоре французских наук о человеке отталкивается от классификации Леви-Строса, а потом предлагает читателю все же придерживаться немецкого понятия Geisteswissenschaften (науки о духе), к которым она относит социологию, этнологию и антропологию, политические науки, изучение наследия, экономику, психологию, педагогику, философию,
лингвистику и когнитивные науки, то есть почти все, исключая историю и филологию [Gilly 2007].
Вопрос о соотношении разных групп дисциплин возник и у Ю. Хабермаса. Во
вступительной лекции во Франкфуртском университете в 1965 г. он постарался распределить виды научного знания в зависимости от соотношения между знанием и интересом. Для осуществления интереса, то есть технического господства над природой,
необходимы эмпирико-аналитические исследования, которыми заняты естественные
науки (Naturwissenschaften), выявляющие всеобщие закономерности. Историко-герменевтические дисциплины, или Geisteswissenschaften, сосредоточены на интерпретации
текста в рамках реализации интереса к пониманию людей и их культурных традиций.
Общественные науки (Gesellschaftswissenschaften), такие как экономика, социология
и политическая наука, тоже исследуют закономерности, но административно-технического характера: они занимаются вопросами управления [Habermas 1968]. В отличие
от Леви-Строса, не без грусти констатировавшего подчиненный интересам власти характер социальных наук, неомарксист Хабермас настаивает, что критическая общественная наука востребует критику идеологии, поэтому она, в общем, близка к требованиям объективности, которые Леви-Строс резервировал лишь за первыми двумя (об общественной теории как критике см. первый раздел сборника [Das Interesse…
2000]).
166
�Влияние зарубежных традиций ощущается и в англо-американском мире, который привык, казалось бы, диктовать свою волю академическому сообществу. Каждая
обобщающая работа о гуманитарных или социальных науках начинается с констатации неразрешимых внутренних противоречий любой классификации. В редких случаях авторы попросту нивелируют различия между гуманитарными и социальными дисциплинами, как это сделал, скажем, Д. Айзек в статье “Гуманитарные науки
в Америке периода Холодной войны”: у него понятие human sciences обнимало сразу
философию, психологию, экономику, социологию и антропологию, то есть те дисциплины, которые традиционно распределены между humanities и social sciences [Isaac
2007].
Такой подход вписывается в общую сциентистскую систему координат, которая
все еще остается актуальной для англоязычной науки: в список наук входят точные
и естественные дисциплины, на все прочие понятие science не распространяется (обзор истории вопроса см. [The Cambridge History… 2003, pp. 3–5]). Подобный ригоризм,
между прочим, приводит к курьезной ситуации, когда общие работы по истории науки или философии науки строятся в форме типично “гуманитарного” нарратива,
но по-прежнему отказывают ему в праве претендовать на свой домен в пространстве
науки (см. [The Continuum… 2011], где представлена классическая гуманитарная дисциплина – философия науки, которая складывается из философии физики, философии биологии, философии нейронауки, философии химии и философии математики).
Р. Бод констатировал отсутствие общей истории гуманитарных наук, тогда как существуют история наук (sciences) и история социальных наук. В “Новой истории гуманитарных наук” он предложил компаративное и междисциплинарное исследование,
которое не ограничивается одним регионом [Bod 2013, р. 1, 5].
В “Кембриджской истории науки”, между тем, вышел отдельный том, посвященный социальным наукам Нового времени [The Cambridge History… 2003]. Таким образом, распространение понятия science на область, которой традиционно в научности отказывали, стало фактом. Редактировавшие этот том Т. Портер и Д. Росс, тем не
менее вынуждены были во введении обосновывать свою дерзкую попытку перейти
традиционные границы дисциплинарности. Из этого пояснения следовало, что в их
понимании бытовавшие на протяжении долгого времени определения sciences of man,
moral sciences, moral and political sciences, behavioral sciences, human sciences – предшественники современного понятия social sciences [The Cambridge History… 2003, p. 1]. Таким
образом, признавая уместность использования понятия “гуманитарные науки”, Портер и Росс в поисках общей рамки для обзора остановились на “социальных науках”.
Но реальный выбор дисциплин, на которых сосредоточились составители тома,
охватывает далеко не весь спектр наук о человеке. В фокусе их внимания – психология, экономика, политическая наука, социология, антропология, география, история (описанная в ее новаторских междисциплинарных интенциях), менеджмент
и бухгалтерия, психиатрия и множество трансдисциплинарных полей (от гендерных
исследований до теории модернизации). Уже в содержании заметны лакуны: в число социальных наук не попали лингвистика и другие филологические дисциплины,
а историография представлена фрагментарно, в части своих пересечений с другими
социальными науками (археология, например, отсутствует вовсе) [The Cambridge
History… 2003, рp. 391–405].
Р. Бэкхауз и Ф. Фонтен в “Истории социальных наук после 1945 года” дают обзор
развития психологии, экономики, политической науки, социологии, социальной антропологии и гуманитарной географии (human geography). Первый и последний случаи вызывают у них сомнения, поэтому они отдельно обосновывают правомерность
их включения [Backhouse, Fontaine 2010, pp. 3–4]. При этом они совершают экскурс
в историю попыток упорядочить классификацию, которые все без исключения завершились фиаско (с точки зрения и логики, и согласия коллег) – как, например, бихевиоральные науки (behavioral sciences) у Б. Берельсона. Зато для Бэкхауза и Фонтена нет
сомнения, что наука управления, социальная история, лингвистика и юриспруденция
167
�также могут входить в домен социальных наук, хотя традиционно они стоят особняком [Backhouse, Fontaine 2010, pp. 4–5]. Современные адепты “наук о мозге”, или нейронаук (brain science), пытаются поместить гуманитарное знание в свою рамку.
Некоторые исследователи обращаются не к англосаксонскому миру, стремясь
(в силу приверженности принципу “насыщенного описания”) приспособить свой категориальный аппарат под понятия, присущие другим культурам. Тогда получается,
что в специальном выпуске журнала “История науки” об истории гуманитарных наук
в Китае под рубрику human sciences попадают государствоведение, палеоантропология, психология, медицина и физиология, что совсем нетипично для англоязычной
традиции (см. вступительную статью к этому выпуску журнала [Chiang 2015]). Еще
дальше в уважении к национальным культурам пошел Д. Бир, который в новаторской
монографии “Обновляя Россию. Гуманитарные науки и судьба либеральной модерности, 1880–1930” выбрал среди российских и раннесоветских human sciences одну группу дисциплин – “биомедицинские науки”, после чего сосредоточился на психиатрии,
криминологии, эпидемиологии и социальной психологии [Beer 2008]. Едва ли российские коллеги сегодня признали бы в этом экзотическом наборе дисциплин привычные гуманитарные науки, и также трудно предполагать, что англоязычные читатели
книги Бира узнали бы в этих науках знакомые им humanities. Автор, похоже, и сам отдавал себе отчет в необычности этих идентификаций, поэтому периодически оговаривался: “Дисциплинарные границы были явно подвижными в гуманитарных науках
революционного времени” или “Дисциплинарные границы были явно подвижными
в позднеимперских гуманитарных науках” [Beer 2008, pp. 8, 135] (пожалуй, с учетом
хронологических рамок своей работы Бир мог бы выразиться проще: дисциплинарные
границы в гуманитарных науках подвижны всегда).
Общую картину хаоса, царящего в зарубежной науке, органично дополняют оригинальные взгляды отечественных ученых. Приведу лишь один пример. Л. Клейн
предлагает считать, что сам термин “гуманитарные науки” относится к тем дисциплинам, в которых “законы, точные методы и строгая логика занимают меньше места, а интуиция, единичные факты, отдельные ценности – больше” [Клейн 2017, с. 258].
При этом исследователь призывает не смешивать две классификации дисциплин – по
предмету (естественные и социальные) и по методу (точные и гуманитарные). Так,
социология, экономика, лингвистика и психология по предмету оказываются науками социальными, но по методу принадлежат к числу точных наук, тогда как литературоведение или искусствознание – это одновременно гуманитарные и социальные
дисциплины. Сложность возникает, когда Клейн обращается к истории и географии,
изучающим “не столько законы, сколько факты в их причинной и пространственной связи… Эти науки очень трудно подвести под шапку гуманитарных, несмотря
на всю традицию нашего науковедения. В этих науках эмпирическая основа гораздо
яснее выступает, факты учитываются гораздо объективнее и строже. Но отнести их
к точным тоже нелегко: в них много значит выбор объекта, интерпретация, ценности”
[Клейн 2017, с. 259]. В результате такой классификации история и география выделяются в отдельную категорию, что явно нарушает общую стройность картины.
С учетом вышесказанного проект строительства непротиворечивой классификации наук начинает напоминать задачу о квадратуре круга. В “Истории социальных
наук после 1945 года” составители, отчаявшиеся найти единую логику дисциплинарности, попросту отложили этот вопрос, высказав пожелание двигаться от истории
отдельных дисциплин (которым посвящены самостоятельные главы в этой коллективной работе) к рассмотрению социальных наук как единого целого без навязывания дисциплинарному разнообразию фальшивого единства [Backhouse, Fontaine 2010,
pp. 11–12]. В сущности, именно к этому решению склонились и авторы “Наук о человеке”, предпочитая “цветущую сложность” одномерности.
168
�Актуальные дискуссии в науках о человеке
Другой очень важный аспект рассматриваемой книги состоит в том, что коллектив авторов обратился к переосмыслению отечественной научной традиции со всеми
ее родимыми пятнами – в первую очередь, травматизмом и драматизмом развития.
Общеизвестна проблема rossica non leguntur – в современном мире за границами сужающегося постсоветского пространства по-русски не читают. С подобными затруднениями сталкиваются не только российские гуманитарии, но и их коллеги в странах,
где науки о человеке имеют еще более почтенные традиции – например, во Франции
или в Германии. Конкурировать с англосаксонским миром или, скажем мягче, с англофонией в науке очень трудно [Osterhammel 2012, S. 17–20; Romano 2015]. Однако утешения это чувство локтя с неанглофонными коллегами приносит мало.
Русскоязычная наука за пределами славистики почти неизвестна, изданные
по-русски работы имеют ограниченную аудиторию. Переводов гуманитариев как
в советское, так и в постсоветское время было крайне мало. Даже переведенные на
европейские языки работы А. Гуревича или Ю. Лотмана востребованы узким кругом
специалистов (а значимость этих трудов очевидно выходит за рамки отдельных дисциплин). Есть, наверное, одно заметное исключение – М. Бахтин (может быть, еще
В. Пропп; в обоих случаях счастливую роль сыграл западный структурализм). К нему
с 1960-х гг. по сей день продолжают апеллировать гуманитарии разных специальностей, причем его популярность не снижается даже в период дигитального поворота.
В новейшем пособии по цифровой гуманитаристике можно найти всего три русские
фамилии – помимо Бахтина (отмечены его “блестящие исследования текстуальной
многозначности и гетероглоссии” [A New Companion… 2016, p. 554]) это современные
исследователи Е. Морозов и Ю. Тахтеев, удостоившиеся по одной ссылке на работы,
опубликованные на английском. Вся остальная советская и современная российская
наука незаметна на общем фоне бурного развития цифровой гуманитаристики.
Еще хуже дело обстоит с историографией. В недавней работе “Пятьдесят ключевых работ по истории и историографии” не упомянуто ни одной российской книги,
нет ни одной русской фамилии [Stunkel 2011]. В “Кембриджской истории науки” из
всех наук для презентации успешного российского опыта выбрана психология (глава Я. Яноушека и И. Сироткиной “Психология в России и Центральной и Восточной
Европе” [The Cambridge History… 2003, pp. 431–449]). Прочие достижения российской
науки в ХIХ–XXI вв. такой чести не удостоились, хотя русские фамилии встречаются
здесь и на других страницах (пестрый ряд, включающий Н. Бухарина, П. Кропоткина
и Вас. Леонтьева).
Перспективной темой для исследования могла бы также стать роль иноязычных
публикаций русских авторов в становлении и отечественной традиции, и мировой науки. В “Науках о человеке” этому сюжету уделено некоторое внимание в главе Резвых,
который упоминает трактаты С. Уварова, изданные по-французски (с. 151), однако эта
тема, как и в целом драматизм интернационализации российской науки, безусловно,
заслуживает более глубокого изучения. Предметом комплексного исследования должны стать и иноязычные публикации дореволюционных интеллектуалов, и организованные государством в плановом порядке переводы работ советских гуманитариев,
и публикационная активность русских эмигрантов на иностранных языках (чего стоит хотя бы пример Л. Карсавина, писавшего в эмиграции на литовском!). Подобный
анализ позволил бы по-новому осветить вопрос о роли эндогенного (национальной
традиции) и экзогенного (давление глобализации) факторов в интернационализации
российской гуманитарной науки на современном этапе.
Авторы “Наук о человеке” поднимают ряд актуальных вопросов, отвечают на них
и/или обсуждают перспективы дальнейших исследований. За рамками книги остается множество других проблем, касающихся современного состояния и ближайших перспектив наук о человеке. Выделю только три сюжета, которые занимают особое место в дискуссиях последних лет. Во-первых, влияние глобализации на науки
169
�о человеке; во-вторых, вызов со стороны дигитализации; в-третьих, демодернизация
наук о человеке в контексте обсуждения идей Б. Латура.
Глобализация и совпавшие с ее развитием постколониальные исследования обострили в значительной степени вопрос о способах и перспективах преодоления евро(по)центризма в интерпретации истории науки. Многие работы по этой тематике
и сегодня сохраняют верность привычке ставить западную традицию в центр нарратива, правда, за это все чаще приходится извиняться (см., например, [Histories of
Scientific… 2011, p. 6]).
Осознание того, что отождествление модерного с западным, то есть модернизации
с вестернизацией, представляет собой больше идеологическую, чем историческую позицию, пришло после 1989 г. [The Cambridge History… 2003, р. 407]. Интернационализация социальной науки в последнюю четверть века благоприятствовала рассмотрению
западной и незападных традиций как частей единого целого. Современный тренд состоит в том, чтобы не просто сравнивать траектории развития научного знания в разных культурах, отдавая должное достижениям незападных обществ, но искать общую
рамку для единого нарратива об эволюции знания в истории человеческой цивилизации. Иногда это достигается путем кросскультурных исследований (ср. попытку преодолеть евро(по)центризм в ходе сравнения античных и китайской традиций [Lloyd
2009]), иногда посредством нарративного описания национальных или региональных
традиций в их своеобразии (ср. очерки по истории отдельных социальных наук в Латинской Америке, России и Центрально-Восточной Европе, Египте и Марокко, Африке, Индии, Китае и Японии в [The Cambridge History… 2003, pр. 413–533]).
Однако даже в рамках европейской традиции существует множество “историй науки”, многообразие логик дисциплиностроительства, которые, в свою очередь, заслуживают внимания (см., например, коллективную работу о дисциплинарных границах
в историографии на примере скандинавских академических школ [Boundaries… 2015]
или обзор достижений социальных наук в странах Центрально-Восточной Европы
[Die Geisteswissenschaften… 2010]). В “Науках о человеках” большинство авторов, обращающихся к российскому материалу, отталкиваются (иногда имплицитно) от представления об оппозиции между мировой (эвфемизм для обозначения западноевропейской и американской науки) и российской наукой. В редких случаях опыт российской науки сопоставляется с опытом науки в Восточной Европе периода социализма
(с. 495), еще реже речь заходит о пространствах вне западного мира (например, в главе
Кирчик). Эта модель отражает, возможно, ограниченный характер проникновения
постколониального подхода в практику отечественных аналитиков.
Симптоматично также, что российские авторы почти не уделяют внимания гендерным аспектам истории знания, тогда как Дастон, например, характеризует практику гендерного исключения на примере берлинской Академии наук (с. 122–123).
Возможно, проблематизация отношений центра и периферии в развитии научного
знания (как в географическом, так и в социологическом плане) способствовала бы
углублению понимания эволюции научного знания. Гендер как полезная категория
исторического анализа давно известен российским гуманитариям, однако гендерная
проблематика остается подчас невостребованной даже при исследовании механизмов
вытеснения “миноритарных” направлений или явных и теневых практик закрепления приоритета дисциплин (см. аннотацию к “Наукам о человеке”).
Демонтаж монополии единственного субъекта – процедура, которая роднит
постколониальные исследования и гендерный анализ, приобретая особый динамизм
в контексте современных процессов. Нас ждет, возможно, еще глобальная история
наук, которая, собственно, есть история глобализации [Romano 2015, р. 400], и влияние глобализации на характер социогуманитарного знания, несомненно, окажется
в фокусе внимания исследователей.
Второй вопрос – о вызове науке со стороны digital humanities. С позиций цифровой гуманитаристики различия между гуманитарными и социальными науками вообще теряют свое значение, потому что демаркационная линия проходит в другой
170
�плоскости – между традиционными (лишенными формального аппарата) дисциплинами и дисциплинами дигитальными. Дигитальный поворот ставит одни и те
же вопросы сразу перед всеми – arts, humanities, social sciences, и такая перспектива
стирает старые различия [Berry 2012, p. 11]. Между тем, как убеждены адепты дигитального поворота, трансформация знания в информацию в XXI в. приводит к пересмотру самой идеи университета и иных традиционных институтов, обеспечивающих воспроизводство знания [Berry 2012, p. 6]. В немецкой традиции гуманитаристика
(Geisteswissenschaften) пока включает дисциплины традиционные и дигитальные. Характерно название недавно вышедшего коллективного сборника работ – “Между artes
liberales и artes digitales”, в котором содержание строго поделено на два раздела – “Статьи по традиционным гуманитарным наукам” и “Статьи по дигитальным гуманитарным наукам” [Zwischen artes liberales… 2016]. Классическая филология оказалась в обеих рубриках в зависимости от характера используемых методов – в этой обусловленности дисциплинарной идентичности методом слышится эхо неокантианских штудий,
влиятельных в германской традиции и до сих пор.
Любопытно, что термин “цифровая гуманитаристика” примиряет разные языки:
в целом английскому digital humanities отвечает французское humanités numériques, хотя
Латур замечает, что термин этот “до сих пор туманный” (encore vague) [Latour 2012,
p. 7]. Это, впрочем, не мешает ему реализовывать авторский проект, участвуя в развитии humanités numériques.
Здесь мы подходим к третьему вопросу, касающемуся актуального состояния
и перспектив истории науки. Это демодернизация гуманитарных наук, к которой
призывает Латур. В “Науках о человеке” отдается дань уважения его классическим
работам (с. 19), но почти не рассматривается актуальная повестка. Конечно, авторитетность Латура сегодня не для всех очевидна. Во введении Дмитриев констатирует,
что дисциплинарной рефлексии 2000-х гг. присущ как раз отход “от крайностей… акторно-сетевого подхода” (с. 31). Однако вызовы, которые обсуждают Латур и те, кто
обсуждают Латура, представляют собой все же не каприз интеллектуала в башне из
слоновой кости, а отражение реальных, хотя и не всегда легкоуловимых процессов
в развитии знания.
Как пишет Г. Харман, первый урок, который нам дает Латур относительно гуманитарных наук, можно сформулировать просто: гуманитарные науки – не только о человеке [Harman 2016, p. 249]. Размышляя над тем, что происходит, когда вещи дают
отпор, Латур с позиций STS (Science & Technology Studies) настаивает, что социальные
науки должны выйти за пределы сферы, которая традиционно считалась сферой “общественного”, – как минимум, заняться природными феноменами. Границы между природой и социумом, между естественными и социальными науками предстают
лишь “весьма специфичной антропологической и исторической деталью”. В преддверии создания общего мира каждая социальная наука, по существу, имеет своего естественнонаучного двойника и, значит, “содержит в себе конфликт разных способов
рассмотрения вещей” [Латур 2006, с. 343, 355, 359]. Демодернизация гуманитарных
наук предполагает не возврат к классике, а пересмотр всех модернистских концепций природы и культуры, чем и занята акторно-сетевая теория [Harman 2016, p. 270].
Новое переопределение границ научного знания, предпринятое Латуром, поддерживается далеко не всеми, но его уже нельзя игнорировать. Акторно-сетевая теория
в социальных исследованиях, традиционно ассоциируемая с именем Латура, имеет
“родственников” в других дисциплинах. Так, отголосок этого манифеста за придание
объектам статуса акторов легко угадывается, по крайней мере, в новейшем историографическом направлении – истории животных [Shaw 2013, p. 7]. Констатируя историчность самого разделения между человеком и животным (с дарвиновской точки
зрения оно не абсолютизируется, а признается исторически обусловленным), сторонники “животноцентричной” перспективы (animal-centered perspective) переинтерпретируют прошлое с позиций репрезентации животных как акторов исторического
процесса (см. [Shaw 2013; Walker 2013]). Преодоление антропоцентризма в экоистории
171
�и Big History – отражение той же тенденции, на которой сфокусирован взгляд Латура. Д.Г. Шоу вписывает историю животных в общий контекст переориентации теории
и истории сегодня с символики и языка на чувство и присутствие, на феномены материальности, пространства, телесности [Shaw 2013, p. 12].
Если Латур отмечал, что «все обстоит превосходно с общественными науками за
исключением двух слов: “общественные” и “науки”» [Латур 2006, с. 342], то О. Нкулу Камамба ставит вопрос не менее радикально – “являются ли гуманитарные науки
гуманитарными?” [Nkulu Kamamba 2016]. Не передаваемая на русском языке игра слов
позволяет переформулировать этот вопрос в разных смыслах, в том числе так: являются ли гуманитарные науки гуманными, то есть человечными? Не утрачивается ли
по мере эволюции научного знания основная задача и основное оправдание гуманитарных наук – вопрошание человека о себе самом на протяжении всего своего существования [Nkulu Kamamba 2016, рp. 91–92]? Такая постановка вопроса актуализирует
этические аспекты науки, которые, как ни парадоксально, все больше волнуют представителей естествознания и все меньше – носителей знания гуманитарного. Между
тем, именно в свете переопределения границ между субъектами и объектами вопросы
этики в истории и теории знания приобретают новую актуальность. Этическая перспектива могла бы существенно дополнить ту, прежде всего социологическую, перспективу, которая составила предмет основного интереса в “Науках о человеке”.
Впрочем, было бы неверно утверждать, что авторы “Наук о человеке” оставили
этику за скобками. Тоштендаль размышляет о нравственных аспектах исследовательской работы, приходя к заключению, что “в большинстве гуманитарных наук и во
многих общественных науках внутренне присущая им профессиональная система
ценностей лишь изредка влияет на моральную позицию исследователей” (с. 367). Тоштендаль строго различает требование существования актуальных для исследовательской профессии норм и требование морального кодекса поведения для профессий, в которых важное место занимают отношения с клиентами (включая пациентов).
Моральная позиция исследователя может смешиваться не только с профессиональной этикой практика, но и с позицией политической (оставим в стороне различение этики и морали, проведенное по отношению к политике П. Рикёром [Ricoeur
1993]). Из умозаключений, которые у авторов рассматриваемой книги порой носят
внешне чисто теоретический характер, могут вытекать и профессионально-этические, и политические выводы. Так, анализ эволюции постсоветской системы производства философского знания, предпринятый Дёминым, подводит к тезису о необходимости усиления внутрикорпоративных репутационных механизмов (с. 507), и эта
позиция может показаться политически нейтральной, хотя практика опровергает это
мнение (ослабление внутрикорпоративных регулятивных механизмов усиливает роль
внешних, в том числе политически обусловленных факторов). Анализ дебатов вокруг
поведенческой экономики приводит Капелюшникова к констатации ограниченной
рациональности индивидов, которая, вопреки мнению некоторых экспертов, “предстает как аргумент не в пользу расширения, а, наоборот, ограничения масштабов государственного вмешательства в экономику и шире – в частную жизнь людей” (с. 542).
Критика, которую адепты культурных исследований адресуют современным университетам, деформированным неолиберальным контекстом, приводит к требованию
вернуться к идее публичного блага (с. 413). Это уже, по существу, политические импликации теоретических утверждений, актуализирующие этическую проблематику.
Влияние глобализации, становление цифровой гуманитаристики и переопределение этических перспектив в контексте утверждения трансгуманизма – сюжеты, детальное рассмотрение которых осталось за рамками “Наук о человеке”. Уместно ли, однако, говорить о незавершенности концепции, которая лежит в основе этого коллективного труда? Составители книги смотрят на свою работу трезво: Дмитриев отмечает,
что “особенным дефицитом остаются методологические работы, где восстанавливалась бы картина эволюции всего поля наук о человеке” (с. 602). Подготовленная коллективом авторов книга – важный шаг на пути к этой реконструкции. Она очерчивает
172
�концептуальные рамки важнейших дискуссий об эволюции социогуманитарного знания, заметно расширяет наши представления о континуитете и цезурах в национальной традиции, способствует переопределению перспектив в развитии наук о человеке.
Немаловажно и то, что авторы монографии, занятые, казалось бы, в основном
специальными вопросами профессии, предлагают и ответы на вопрос о смысле призвания в науке, о ценностных аспектах деятельности ученого, которая несводима к рафинированному профессионализму. Дифференциация призвания и профессии хорошо знакома отечественному читателю по русскому переводу классического доклада
М. Вебера 1918 г. (в оригинале “Wissenschaft als Beruf”, точно так же название передано в английском переводе “Science as a vocation”). Русские переводчики А. Филиппов
и П. Гайденко предпочли передать оба значения слова Beruf двумя русскими словами,
так родилась “Наука как призвание и профессия” [Вебер 1990]. Любопытно, что это не
русское ноу-хау: классический французский перевод доклада Вебера назывался “Le
métier et la vocation de savant” (“Ремесло и призвание ученого”) [Weber 1963], но в 2005 г.
И. Калиновски предложила пересмотреть этот перевод и выбрала “русский путь”, переставив, впрочем, члены предложения местами: “La Science, profession et vocation”,
то есть “Наука: профессия и призвание” [Weber, Kalinowski 2005]. Тот же порядок слов
выбрал переводчик на польский язык – “Nauka jako zawód i powołanie” [Weber 1998].
Именно в рамках социогуманитарного знания возможна и необходима разработка аксиологической проблематики в науке, когда деятельность ученого приобретает смысл,
будучи интерпретирована одновременно как профессия и призвание.
Разговор, к которому авторы “Наук о человеке” приглашают читателя, ведется,
если отвлечься от частностей, о raison d’être социогуманитарного знания. Можно не
сомневаться, что по этому вопросу у гуманитариев всегда будет в запасе много ответов.
Соавторы с благодарностью посвятили свой коллективный труд памяти А. Полетаева,
которому принадлежал замысел работы, содержащей комплексный анализ проблематики дисциплинарности в истории науки. И в самом этом посвящении, быть может,
приоткрывается еще один важный смысл наук о человеке – на каждом новом этапе
помогать нам самоопределяться по отношению к культурной традиции, без чего процесс приращения знания был бы лишен такого важнейшего компонента, как ощущение личной причастности ученого к производству общего блага.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Вебер М. (1990) Наука как призвание и профессия [1918] // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. С. 707–735.
Клейн Л.С. (2017) Муки науки. Ученый и власть, ученый и деньги, ученый и мораль. М.:
Новое литературное обозрение.
Латур Б. (2006) Когда вещи дают отпор: возможный вклад “исследований науки” в общественные науки [2000] // Социология вещей: Сб. ст. под ред. В. Вахштайна. М.: Изд. дом “Территория будущего”. С. 342–362.
Леви-Строс К. (2001) Структурная антропология [1958]. М.: Эксмо-пресс.
Науки о человеке: история дисциплин (2015) / Сост. и отв. ред. А.Н. Дмитриев, И.М. Савельева. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
Backhouse R.E., Fontaine Ph. (2010) Introduction // The History of the Social Sciences since 1945 /
Ed. by R.E. Backhouse, Ph. Fontaine. New York: Cambridge Univ. Press. Pp. 1–15.
Beer D. (2008) Renovating Russia. The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880–
1930. Ithaca; London: Cornell Univ. Press.
Berry D.M. (2012) Introduction: Understanding the Digital Humanities // Understanding Digital
Humanities / Ed. by D.M. Berry. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Pp. 1–20.
Bod R. (2013) A New History of the Humanities. The Search for Principles and Patterns from
Antiquity to the Present. Oxford: Oxford Univ. Press.
Boundaries of History (2015) / Ed. by J.E. Myhre. Oslo: Scandinavian academic press.
Braudel F. (1977) Écrits sur l’histoire. Paris: Flammarion.
The Cambridge History of Science (2003) Vol. 7: The Modern Social Sciences / Ed. by Th.M. Porter,
D. Ross. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
173
�Chartier R. (2016) Sciences et savoirs // Annales HSS. Vol. 71, № 2. Pp. 451–464.
Chiang H. (2015) Ordering the Social: History of the Human Sciences in Modern China // History
of Science. Vol. 53. No. 1. Pp. 4–8.
The Continuum Companion to the Philosophy of Science (2011) / Ed. by S. French, J. Saatsi.
London; New York: Continuum.
Dictionnaire historique de la langue française (2000) / Sous la dir. A. Rey. Vol. 3. Paris: Robert.
Die Geisteswissenschaften im europäischen Diskurs (2010) Bd. 2: Osteuropa / Hrsg. D. Ginev.
Innsbruck; Wien; Bozen: Studienverlag.
Gilli M. (2007) Die Geisteswissenschaften in Frankreich // Die Geisteswissenschaften im
europäischen Diskurs / Hrsg. H. Reinalter. Bd. 1: West- und Zentraleuropa. Innsbruck; Wien; Bozen:
Studienverlag. S. 201–217.
Habermas J. (1968) Erkenntnis und Interesse. Frankfurt a/M: Suhrkamp.
Harman G. (2016) Demodernizing the Humanities with Latour // New literary history. Vol. 47,
№ 2–3. Pp. 249–274.
Histories of Scientific Observation (2011) / Ed.L. Daston, E. Lunbeck. Chicago; London: The Univ.
of Chicago Press.
Das Interesse der Vernunft (2000). Rückbliche auf das Werk von Jürgen Habermas seit “Erkenntnis
und Interesse” / Hrsg. S. Müller-Doohm. Frankfurt a/M: Suhrkamp.
Isaac J. (2007) The Human Sciences in Cold War America // Historical Journal. Vol. 50, № 3.
Pp. 725–746.
Johnson Ch. (2003) Claude Lévi-Strauss. Formative years. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Kjørup S. (2001) Humanities. Geisteswissenschaften. Sciences humaines. Eine Einführung.
Stuttgart; Weimar: J.B. Metzler.
Latour B. (2012) Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des Modernes. Paris: La
Découverte.
Leventhal R.S (1994) The Disciplines of Interpretation. Lessing, Herder, Schlegel and Hermeneutics
in Germany 1750–1800. Berlin; New York: De Gruyter.
Lévi-Strauss C. (1973) Anthropologie structurale deux. Paris: Plon.
Lévi-Strauss C. (1950) Préface // Berndt C.H. Women’s changing ceremonies in Northern Australia.
Paris: Hermann.
Lloyd G.E.R. (2009) Discipline in the Making. Cross-cultural Perspectives on Elites, Learning, and
Innovation. Oxford: Oxford Univ. Press.
A New Companion to Digital Humanities (2016) / Ed. by S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth.
[Chichester]: Wiley Blackwell.
Nkulu Kamamba O. (2016) Les sciences humaines sont-elles humaines? De la posture sémantique
et épistémologique à la posture éthique. Paris: L’Harmattan.
Osterhammel J. (2012) Globale Asymmetrien in den Geisteswissenschaften: Das Beispiel der
Geschichte // Die Zukunft der Geisteswissenschaften in einer multipolaren Welt / Hrsg. J. Mittelstrass,
U. Rüdiger. Konstanz: UVK. S. 13–26.
Renaudo G. (2016) Des sciences pour nous comprendre. Vérité et réalisme en sciences humaines.
Toulouse: Presses universitaires du Midi.
Ricoeur P. (1993) Morale, éthique et politique // Pouvoirs. № 65. Рp. 5–17.
Romano A. (2015) Fabriquer l’histoire des sciences modernes. Réflexions sur une discipline à l’ère
de la mondialisation // Annales HSS. Vol. 70. № 2. Pp. 381–408.
Shaw D.G. (2013) A Way with Animals // History and Theory. № 52. Pp. 1–12.
Stunkel K.R. (2011) Fifty Key Works of History and Historiography. London; New York: Routledge.
Turner J. (2014) Philology: the Forgotten Origins of the Modern Humanities. Princeton: Princeton
Univ. Press.
Vergleich und Transfer. Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften (2003) /
Hrsg. H. Kaelble, J. Schriewer. Frankfurt a/M.: Campus.
Walker B.L. (2013) Animals and the Intimacy of History // History and Theory. № 52. Pp. 45–67.
Weber M. (1963) Le savant et le politique [1919] / Trad. J. Freund. Paris: Union Générale d’Éditions.
Weber M. (1998) Nauka jako zawód i powołanie // Weber M. Polityka jako zawód i powołanie.
Kraków: Znak. S. 111–140.
Weber M., Kalinowski I. (2005) La science, profession et vocation. Suivi de “Leçons wébériennes sur
la science & la propagande”. Paris: Agone.
Zwischen artes liberales und artes digitales (2016) Beiträge zur traditionellen und digitalen
Geisteswissenschaft. Festschrift gewidmet Michael Trauth zum 65. Geburtstag am 10. Mai 2015 / Hrsg.
A. Geissler, M. Schneider. Marburg: Tectum.
174
�Human sciences as a vocation and a profession
I. DEMENTEV*
*Dementev Ilya – Candidate in History, Associate Professor, Institute for Humanities, Immanuel Kant Baltic
Federal University. Address: A. Nevsky street 14, 236041 Kaliningrad. E-mail: IDementev@kantiana.ru
Abstract
The paper analyses the content of the collective monograph ‘Human Sciences. The history of Disciplines’ (2015) in terms of contemporary approaches to the history of sciences. The article contains main
theses of the authors of the monograph including interpretation of prehistory of humanitarian epistemology in Europe and the history of discipline building in sociohumanitarian knowledge in 18–21 centuries.
The author gives characteristic to genealogy of the concept ‘human sciences’ (‘humanities’) and marks
culturally determined differences in the classification of human and social sciences. The paper redefines
the perspectives of further elaboration of the topic of the monograph in context of the analysis of such
processes as globalisation, digitalisation and demodernisation of human sciences.
Keywords: History of Knowledge, Humanities, Human Sciences, Social Sciences.
REFERENCES
Backhouse R.E., Fontaine Ph. (2010) Introduction. The History of the Social Sciences since 1945. Ed.
by R.E. Backhouse, Ph. Fontaine. New York: Cambridge Univ. Press, pp. 1–15.
Beer D. (2008) Renovating Russia. The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880–1930.
Ithaca; London: Cornell Univ. Press.
Berry D.M. (2012) Introduction: Understanding the Digital Humanities. Understanding Digital Humanities. Ed. by D.M. Berry. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 1–20.
Bod R. (2013) A New History of the Humanities. The Search for Principles and Patterns from Antiquity
to the Present. Oxford: Oxford Univ. Press.
Boundaries of History (2015) Ed. by J.E. Myhre. Oslo: Scandinavian academic press.
Braudel F. (1977) Écrits sur l’histoire. Paris: Flammarion.
The Cambridge History of Science (2003). Vol. 7: The Modern Social Sciences. Ed. by Th.M. Porter,
D. Ross. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Chartier R. (2016) Sciences et savoirs. Annales HSS, vol. 71, no. 2, pp. 451–464.
Chiang H. (2015) Ordering the Social: History of the Human Sciences in Modern China. History of
Science, vol. 53, no. 1, pp. 4–8.
The Continuum Companion to the Philosophy of Science (2011) Ed. by S. French, J. Saatsi. London;
New York: Continuum.
Dictionnaire historique de la langue française (2000) Sous la dir. A. Rey. Vol. 3. Paris: Robert.
Die Geisteswissenschaften im europäischen Diskurs (2010) Bd. 2: Osteuropa. Hrsg. D. Ginev. Innsbruck; Wien; Bozen: Studienverlag.
Gilli M. (2007) Die Geisteswissenschaften in Frankreich. Die Geisteswissenschaften im europäischen
Diskurs. Hrsg. H. Reinalter. Bd. 1: West- und Zentraleuropa. Innsbruck; Wien; Bozen: Studienverlag,
S. 201–217.
Habermas J. (1968) Erkenntnis und Interesse. Frankfurt a/M: Suhrkamp.
Harman G. (2016) Demodernizing the Humanities with Latour. New literary history, vol. 47, no. 2–3,
pp. 249–274.
Histories of Scientific Observation (2011) Ed. by L. Daston, E. Lunbeck. Chicago; London: The Univ.
of Chicago Press.
Das Interesse der Vernunft (2000) Rückbliche auf das Werk von Jürgen Habermas seit “Erkenntnis und
Interesse”. Hrsg. S. Müller-Doohm. Frankfurt a/M: Suhrkamp.
Isaac J. (2007) The Human Sciences in Cold War America. Historical Journal, vol. 50, no. 3,
pp. 725–746.
Johnson Ch. (2003) Claude Lévi-Strauss. Formative years. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Kjørup S. (2001) Humanities. Geisteswissenschaften. Sciences humaines. Eine Einführung. Stuttgart;
Weimar: J.B. Metzler.
175
�Klein L.S. (2017) Muki nauki. Ucheny i vlast’, ucheny i den’gi, ucheny i moral’ [Sufferings of the Science. Scholar and Power, Scholar and Money, Scholar and Moral]. Moscow: Novoe lieraturnoe obozrenie.
Latour B. (2012) Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des Modernes. Paris: La
Découverte.
Latour B. (2006) Kogda veshchi dayut otpor: vozmozhny vklad “issledovaniy nauku” v obschestvennye
nauki [When Things Strike Back: a Possible Contribution of 'Science Studies' to the Social Sciences]. Sociologiya veshchey [Sociology of things]. Ed. by V. Vakhstain. Moscow: Territoria budushchego, pp. 342–362.
Leventhal R.S (1994) The Disciplines of Interpretation. Lessing, Herder, Schlegel and Hermeneutics in
Germany 1750–1800. Berlin; New York: De Gruyter.
Lévi-Strauss C. (1973) Anthropologie structurale deux. Paris: Plon.
Lévi-Strauss C. (1950) Préface. Berndt C.H. Women’s changing ceremonies in Northern Australia. Paris: Hermann.
Lévi-Strauss C. (2001) Strukturnaya antropologiya [Structural Anthropology]. Moscow: Exmo-press.
Lloyd G.E.R. (2009) Discipline in the Making. Cross-cultural Perspectives on Elites, Learning, and Innovation. Oxford: Oxford Univ. Press.
Nauki o cheloveke: Istoriya disciplin (2015) [Human Sciences: the History of Disciplines]. Ed. by
A.N. Dmitriev, I.M. Savelieva. Moscow: Higher School of Economics Pulblishers.
A New Companion to Digital Humanities (2016) Ed. by S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth.
[Chichester]: Wiley Blackwell.
Nkulu Kamamba O. (2016) Les sciences humaines sont-elles humaines? De la posture sémantique et
épistémologique à la posture éthique. Paris: L’Harmattan.
Osterhammel J. (2012) Globale Asymmetrien in den Geisteswissenschaften: Das Beispiel der
Geschichte. Die Zukunft der Geisteswissenschaften in einer multipolaren Welt. Hrsg. J. Mittelstrass, U. Rüdiger. Konstanz: UVK, S. 13–26.
Renaudo G. (2016) Des sciences pour nous comprendre. Vérité et réalisme en sciences humaines. Toulouse: Presses universitaires du Midi.
Ricoeur P. (1993) Morale, éthique et politique. Pouvoirs, no. 65, pp. 5–17.
Romano A. (2015) Fabriquer l’histoire des sciences modernes. Réflexions sur une discipline à l’ère
de la mondialisation. Annales HSS, vol. 70, no. 2, pp. 381–408.
Shaw D.G. (2013) A Way with Animals. History and Theory, no. 52, pp. 1–12.
Stunkel K.R. (2011) Fifty Key Works of History and Historiography. London; New York: Routledge.
Turner J. (2014) Philology: the Forgotten Origins of the Modern Humanities. Princeton: Princeton Univ.
Press.
Vergleich und Transfer. Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften (2003) Hrsg.
H. Kaelble, J. Schriewer. Frankfurt a/M.: Campus.
Walker B.L. (2013) Animals and the Intimacy of History. History and Theory, no. 52, pp. 45–67.
Weber M. (1963) Le savant et le politique [1919]. Paris: Union Générale d’Éditions.
Weber M. (1998) Nauka jako zawód i powołanie. Weber M. Polityka jako zawód i powołanie. Kraków:
Znak, s. 111–140.
Weber M. (1990) Nauka kak prizvanie i professiya [Science as a vocation]. Weber M. Izbrannye proizvedeniya [Selected works]. Мoscow: Progress, pp. 707–735.
Weber M., Kalinowski I. (2005) La science, profession et vocation. Suivi de ″Leçons wébériennes sur la
science & la propagande″. Paris: Agone.
Zwischen artes liberales und artes digitales (2016) Beiträge zur traditionellen und digitalen Geisteswissenschaft. Festschrift gewidmet Michael Trauth zum 65. Geburtstag am 10. Mai 2015. Hrsg. A. Geissler,
M. Schneider. Marburg: Tectum.
© И. Дементьев, 2018
Сдано в набор 09.10.2017
Подписано к печати 27.11.2017
Дата выхода в свет 26.01.2018
Формат 70 × 1001/16
Цифровая печать Усл. печ.л. 14,3 Усл.кр.-отт. 4,4 тыс. Уч.-изд.л. 18,5
Бум.л. 5,5
Тираж 302 экз.
Зак. 1889
Цена свободная
Учредители: Российская академия наук, Президиум РАН
Адрес редакции: Профсоюзная ул., д. 90, Москва, 117997
Издатель: ФГУП «Издательство «Наука», Профсоюзная ул., д. 90, Москва, 117997
Отпечатано в ФГУП «Издательство «Наука» (Типография «Наука»), Шубинский пер., д. 6, Москва, 121099
176
�
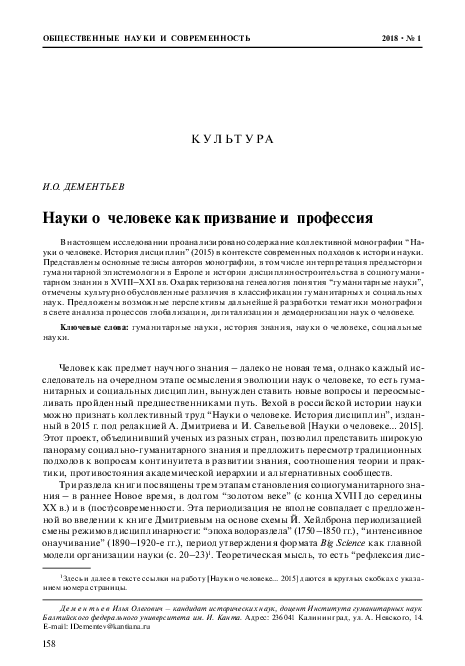
 Ilya Dementev
Ilya Dementev