��Ро сси й ска я а ка деми я наук
Ин сти тут сла вян ов едения
P
A m icus
olon i a e
Па м яти Виктора Хорева
Издательство «Индрик»
Мо с к ва 2013
�ББК
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия»
Редколлегия:
д. ф. н. И. Е. Адельгейм
д. и. н. М. В. Лескинен
к. ф. н. В. В. Мочалова
д. ф. н. Н. Н. Старикова (отв. ред.)
к. и. н. Н. М. Филатова
к. ф. н. О. В. Цыбенко
Рецензенты:
д. ф. н., профессор В. М. Толмачев
д. ф. н. О. В. Белова
Книга посвящена памяти профессора В. А. Хорева (1932–2012), выдающегося ученого, одного из основателей современной отечественной полонистики,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации. В сборник вошли статьи его
друзей, учеников и коллег-филологов, историков и культурологов из России, Польши, Белоруссии, Грузии, Литвы и Канады. Первую часть сборника составили научные статьи, посвященные актуальным проблемам польской истории и литературы,
вопросам славистики и компаративистики, а также работы, освещающие научную
деятельность профессора Хорева; вторая часть содержит воспоминания о нем и
посвященные ему стихи. Завершает издание библиография работ В.А. Хорева.
The book is dedicated to the memory of Professor V.A. Choriew (1932–2012), an
eminent scholar, one of the founders of modern Polish Studies in Russia, Honored Scientist of the Russian Federation. The collection includes the articles of his friends, students
and colleagues, linguists, philologists, historians and historians of culture from Russia,
Poland, Belarus, Georgia, Lithuania and Canada. The first part of the book consists of
research papers on actual problems of Polish history and literature, Slavic and comparative issues, works, taking up Choriew ’s scientific activity; the second part contains
memories on him and poems dedicated to him. The edition concludes with the Choriew’s
bibliography.
�Содержание
От редколлегии...............................................................................................
С тат ь и
11
Ирина Адельгейм (Москва)
Следы и следствия. Вторая мировая война в прозе младших
литературных поколений после 1989 г. . ..............................................
17
Наталия Ананьева (Москва)
Полонизмы в произведениях Дины Рубиной .....................................
31
Вера Андрейчук (Калининград)
Специфика коммуникации в концлагерной прозе Т. Боровского .....
47
Андрей Баранов (Вильнюс)
Польские контексты литовского модернизма . .................................
54
Малгожата Барановская (Варшава)
Написанная на бумаге ............................................................................
63
Юзеф Бахуж (Гданьск)
Вопреки стереотипам ............................................................................
70
Людмила Будагова (Москва)
Чехи между поляками и русскими: деятели чешского
национального возрождения о польском восстании
1830–1831 гг. ................................................................................................
81
Беата Валенчук-Дейнека (Седльце)
Демонические «фемины» с неземными телами —
женский модернистский дискурс на примере избранных
произведений Брониславы Островской ..............................................
90
Гжегож Вишневский (Варшава)
От Пруса до Кабатца: Виктор Хорев о польской литературе
ХХ века ................................................................................................... 104
Петр Глушковский (Варшава)
Образ Речи Посполитой в представлении Ф. В. Булгарина .............
111
Иероним Граля (Варшава)
Забытая Смута? Меандры польской исторической памяти ............... 122
�6
Содержание
Юрий Гусев (Москва)
Традиции культурных взаимосвязей
между Польшей и Венгрией в XVI–XXI вв...........................................
145
Дмитрий Ивинский (Москва)
Из истории восприятия трагедии «Борис Годунов»
в пушкинской литературной среде ......................................................
151
Александр Илюшин (Москва)
Кондратий и Кондратович ...................................................................... 159
Войцех Кайтох (Краков)
«Две головы птицы» Владислава Терлецкого ...................................
167
Сергей Клементьев (Москва)
Гротескный катастрофизм Р. Яворского (роман «Свадьба графа Оргаза») ...
181
Алина Ковальчикова (Варшава)
Князь П. А. Вяземский в Варшаве . ..................................................... 192
Юрий Лабынцев (Москва)
Польская агитационная «hutarka» 1863 г. и ее оценка
Я. И. Н. Бодуэном де Куртенэ . ............................................................... 205
Мария Лескинен (Москва)
Гендерные особенности польского этнического типа
в российских народоописаниях второй половины XIX в. .............
214
Леонид Мальцев (Калининград)
С. Жеромский: имагологический аспект (роман «Краса жизни») .............. 230
Ольга Медведева-Нату (Ванкувер)
О чем молчала Ивонна?
(Драма Витольда Гомбровича «Ивонна, принцесса Бургунда») .......................
239
Виктория Мочалова (Гродно)
Польский Гораций в московской тюрьме ........................................... 249
Светлана Мусиенко (Москва)
Польская литература в имагологической интерпретации
В. А. Хорева ............................................................................................
259
�Содержание
7
Татьяна Николаева (Москва)
Виктор Александрович Хорев, женская красота
и русская литература ............................................................................... 276
Вера Оцхели (Кутаиси)
Реминисценции из И. С. Тургенева в малой прозе
Я. Ивашкевича . .............................................................................
283
Войчех Павляк (Варшава)
Русские писатели в Польше (1944–2009) ............................................. 291
Гражина Павляк (Варшава)
Ян Парандовский и Россия . .................................................................. 326
Хенрик Изидор Рогацкий (Варшава)
Как создавался «Царь Павел I» Людвика Сольского ...................... 342
Галина Санаева (Ванкувер)
Диалог поэтов: Чеслав Милош и Тадеуш Ружевич .......................... 356
Инесса Свирида (Москва)
Многоязычный Вильно и иностранные художники . ...................... 366
Виктория Сливовская (Варшава)
К вопросу о западных откликах на польские ссылки
(1815–1881) ................................................................................................... 379
Анна Собеская (Варшава)
Русские цыганские романсы
в «Заколдованном кабаке» поэзии Галчиньского ............................ 387
Людмила Софронова (Москва)
Воображаемый автопортрет Яна Хризостома Пасека ..................... 399
Надежда Старикова (Москва)
Из истории словенской полонистики: Тоне Претнар ...................... 409
Тадеуш Сухарский (Слупск)
О первой польской попытке понять советский мир, или
Размышления о книге Станислава Мацкевича
«Мысль в тисках» . ...................................................................................
415
�8
Содержание
Виктория Тихомирова (Москва)
«Места памяти»: Кресы в польской литературе ................................ 434
Марек Трошиньский (Варшава)
Шли с криком «Россия! Россия!» ......................................................... 446
Галина Туркевич (Вильнюс)
«Азбука» Чеслава Милоша: от вильнюсских истоков
к «более объемной форме» . ..................................................................... 455
Светлана Фалькович (Москва)
Формирование представлений о поляках
в российском обществе и их эволюция . ............................................. 464
Наталия Филатова (Москва)
«Москаль с мордой таксы…»
Россия и русские в творчестве Ю. У. Немцевича в эпоху
конституционного
Королевства Польского............................................................................ 474
Борис Флоря (Москва)
Монархия и ее историческая роль в польской средневековой
традиции . ................................................................................................... 491
Анна Хорошкевич (Москва)
Эхо сарматской теории в имперской России
как «общественная патология» ............................................................ 497
Ольга Цыбенко (Москва)
Константин Леонтьев о поляках и Польше .......................................
521
Светлана Шерлаимова (Москва)
Некоторые сюжеты из истории чешско-польских
литературных связей . .............................................................................. 527
Тадеуш Шишко (Варшава)
«Трудный рост» польской рецепции Н. С. Лескова .......................... 536
Лариса Щавинская (Москва)
Польская русская Илария Булгакова —
летописец православия в Польше ........................................................
551
�Содержание
9
В о с п ом и н а н и я , с т и х и
Андрей Базилевский (Москва)
Виктор Хорев как переводчик . .............................................................. 565
Александр Гугнин (Полоцк)
Мои последние встречи с Виктором Хоревым ................................... 567
Эугениуш Кабатц (Варшава)
Наш лауреат (воспоминание о Викторе Хореве) ............................... 571
Антоний Семчук (Варшава)
Профессор Виктор Александрович Хорев ........................................... 574
***
Александр Гугнин
Конец ХХ века . ....................................................................................... 580
Юрий Гусев
В. А. Хореву. Командор........................................................................... 585
Светлана Фалькович
На 70-летие В. А. Хорева. На 75-летие В. А. Хорева.
На 80-летие В. А. Хорева........................................................................ 586
Библиография работ В. А. Хорева . .............................................................. 588
Коротко об авторах сборника .....................................................................
��От Редколлегии
Эта книга посвящается светлой памяти Виктора Александровича
Хорева (22.02.1932 — 25.05.2012) — выдающегося ученого-слависта,
одного из основателей российской полонистики, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, нашего учителя, коллеги и друга.
Долгие годы плодотворной работы связывали Виктора Александровича с Институтом славяноведения РАН: он поступил сюда в аспирантуру после окончания филологического факультета МГУ (1954), а затем
был зачислен в штат (1957) и прошел все ступени научного роста — от
младшего, затем старшего, ведущего научного сотрудника — до заместителя директора (1988–2005) и заведующего Отделом истории славянских литератур, председателя Диссертационного совета по филологии.
Научная деятельность Виктора Александровича поражает своей
масштабностью и многообразием. В библиографическом списке его
работ — более 350 наименований1, среди которых — монографии, главы в академических трудах по истории польской и всемирной литературы, литератур Восточной Европы после Второй мировой войны;
статьи, посвященные широкому спектру проблем полонистики.
Исследовательский интерес Виктора Александровича привлекали такие значимые фигуры польской литературы, как А. Мицкевич,
Ю. Словацкий, Г. Сенкевич, Я. Каспрович; а также проблемы сравнительного изучения литератур и русско-польские литературные связи,
стереотипы национального восприятия и взаимная рецепция культур;
польская проза так называемого «второго круга обращения»; современные парабеллетристические жанры — эссе, дневники, мемуары,
то есть литература «человеческого документа», как он назвал одну из
своих статей, подводя «литературные итоги ХХ века» (2003), и др.
Глядя на польскую литературу ХХ в. глазами русского полониста (так называлась его статья в каталоге проекта «Москва–Варшава /
Warszawa–Moskwa. 1900–2000», 2005), Виктор Александрович исследовал творчество многих польских писателей и поэтов, составивших
славу своей национальной литературы, — С. И. Виткевича и З. Налковской, В. Броневского и К. И. Галчиньского, С. Дыгата и К. Филиповича, Л. Кручковского и Т. Брезы, Я. Ивашкевича и Л. Шенвальда,
Т. Ружевича и С. Мрожека, Б. Чешко, Ю. Кавальца, В. Мысливского.
Работы Виктора Александровича, публиковавшиеся в России,
Польше (упомянем в качестве примера его статью о восприятии польской культуры в России в 1945–1990 гг. в сб. «Dusza polska i rosyjska.
1 Полная библиография работ ученого приводится в конце данной книги.
�12
От Редколлегии
Spojrzenie współczesne», Łódź, 2003; или исследование «петербургского
текста» Ярослава Ивашкевича в сб. «Album Gdańskie. Prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi», Gdańsk, 2009) и в других странах (например,
исследование роли культурных клише в истории опубликовано в «Polenund
Deutschen», Dusseldorf, 1993), переводившиеся на белорусский, болгарский,
чешский, словацкий, венгерский языки, вызывали заслуженный интерес и
высокую оценку отечественных и зарубежных коллег. С начала 90-х гг. каждое его сочинение намечало для полонистов направления исследований,
служило как бы сжатым планом работы для целых коллективов.
В течение многих лет Виктор Александрович руководил международным проектом «Россия — Польша. Взаимное видение в литературе
и культуре», в рамках которого по его инициативе и при его активном
участии было организовано несколько конференций, а их материалы
публиковались в сборниках, где ученый выступал и как автор, и как
ответственный редактор: «Поляки и русские в глазах друг друга»
(2000), «Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре» (2002), «Миф Европы в литературе и культуре России и Польши»
(2004), «Творчество Витольда Гомбровича и европейская культура»
(2006), «Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре»
(2007), «Творчество Болеслава Пруса и его связи с русской культурой»
(2008), «Русская культура в польском сознании» (2009), «Юлиуш Словацкий и Россия» (2011), «Отзвуки Шопена в русской культуре» (2012).
Этот многолетний масштабный труд Виктора Александровича был по
достоинству оценен Президиумами Российской и Польской Академий
наук, и отмечен медалью «За вклад в науку» и премией.
Все годы своей научной деятельности Виктор Александрович принимал активнейшее участие в международных конференциях, Съездах
славистов (долгие годы он был заместителем председателя Национального комитета славистов РФ), публикуя свои доклады в сборниках их
материалов (в качестве примера можно привести его доклад об имагологическом аспекте изучения литературных связей на Межрегиональной
конференции славистов 2005 г.; или доклад о Достоевском в сознании
польских писателей второй половины ХХ в. на XIV МСС 2008 г., и др.).
Совмещая научную работу с преподавательской, Виктор Александрович воспитал несколько поколений исследователей (не только в России, но и в Белоруссии, и в Польше), будучи особенно тесно связан со
своей alma mater — МГУ имени М. В. Ломоносова, где он читал курсы
лекций, выступал на защитах, был постоянным членом диссертационного совета кафедры зарубежной литературы, одним из организаторов
совместных с Институтом славяноведения РАН научных конференций.
Профессор Хорев неизменно по-отечески относился к своим ученикам
�От Редколлегии
13
и младшим коллегам, помогая им освоить мир польской культуры.
Благодаря его неустанной опеке и поддержке, многие из них сделали
и делают сегодня успешную карьеру в науке. Виктор Александрович
много сделал и для становления центра белорусской полонистики в
Гродненском университете, куда он отправился в свою последнюю научную поездку в мае 2012 г. получать звание профессора honoris causa
этого университета. Это звание стало последним среди тех многочисленных, которыми Виктор Александрович был отмечен.
Среди заслуженных наград ученого есть и орден Дружбы (1997),
польский Командорский крест со звездой Ордена Заслуги перед Польской
республикой (1999), медали «За заслуги перед польской культурой» (1996),
«Медаль Комиссии народного образования» (1997), «Мицкевич и Пушкин» (2002), медаль и почетный диплом Объединения Европейской культуры (Societe Europennede Culture — SEC, 2006), и награда Посла Польши в РФ «Польский Пегас» (2010), и золотая медаль «За заслуги в области
культуры Gloria Artis» Министерства культуры и национального наследия
Республики Польша (2010), и диплом министра иностранных дел Польши
«За выдающиеся заслуги в пропаганде польской культуры в мире» (2010).
Помимо непосредственных занятий наукой, Виктор Александрович исполнял и иные требующие большой отдачи функции: был председателем Мицкевичевской комиссии Совета по истории мировой
культуры РАН, членом российско-польской исторической комиссии,
вице-президентом российского Общества культурного и делового сотрудничества с Польшей, членом редколлегий журнала «Славяноведение» и «Славянского альманаха».
Велики заслуги Виктора Александровича и в сфере популяризации польской литературы в России, принесшие ему славу «чрезвычайного и полномочного» посла польской литературы и культуры в России и в странах, где читают на русском языке, а также, говоря словами
профессора Иеронима Грали, «человека-института» — «Института
Польши в России и Института России в Польше». Виктор Александрович был составителем антологий польской поэзии, прозы и критики,
в течение многих лет входил в редакционные советы издательств «Радуга» и «Художественная литература», в редколлегию многотомного
издания «Библиотеки польской литературы»; он был автором многих
предисловий и научных комментариев к русским изданиям польской
литературы, а также сам переводил с польского языка произведения И. Неверли, М. Домбровской, К. Прушиньского, В. Билиньского,
Ц. К. Норвида, Ст. И. Виткевича, К. И. Галчиньского и др.
В. А. Хорев поддерживал тесные научные и дружеские связи со
многими польскими учеными. Некоторые из них прислали свои ста-
�14
От Редколлегии
тьи для публикации в настоящей книге, стремясь воздать дань памяти
ушедшему коллеге. Следует отметить, что плодотворное сотрудничество Института славяноведения с польскими научными центрами,
прежде всего — с Институтом литературных исследований (IBL)
ПАН, в значительной степени осуществлялось благодаря личным
дружеским и научным контактам Виктора Александровича, его инициативе и незаурядному организаторскому таланту.
Виктор Александрович Хорев обладал редким даром душевной
щедрости, оставаясь в любых перипетиях судьбы (а их у него было немало), жизнерадостным и энергичным человеком, добрым и отзывчивым — он всегда готов был поддержать в сложной ситуации, помочь
не только советом и участием, но и конкретным делом — не считаясь
при этом со временем. Он в равной мере умел держать удар и делиться радостью, побеждать и проигрывать с честью. Яркость личности,
незаурядный организаторский талант, человеческое обаяние, чувство юмора, неизменная доброжелательность притягивали к Виктору
Александровичу людей, в том числе и других поколений, создавали
вокруг него неповторимую атмосферу. Мало кто из его коллег обладал столь же сильной харизмой, как он.
Коллеги, друзья и ученики Виктора Александровича, отмечавшие его прошедшие юбилеи посвященными ему трудами2, а в феврале
2012 г. организовавшие в Институте славяноведения РАН международную конференцию «Victor Chorew — Amicus Poloniae», приуроченную
к 80-летию ученого3 (тогда же вышла и новая, оказавшаяся последней,
книга его очерков — «Восприятие России и русской литературы польскими писателями»), сейчас, через год после его ухода, подготовили это
издание, которое представляется на суд читателя. С его уходом осиротела российская полонистика, понесшая невосполнимую утрату. Коллеги, друзья и ученики Виктора Александровича хотели бы надеяться,
что подготовленная ими книга станет посильной данью благодарной
памяти и бесконечного уважения к выдающемуся ученому.
В первую часть книги «Amicus Poloniae. Памяти Виктора Хорева» вошли статьи коллег и учеников Виктора Александровича, во второй мы сочли уместным поместить воспоминания о нем близко знавших его людей, а также посвященные ему стихотворения.
2 См.: Studia Polonica. К 60-летию Виктора Александровича Хорева. М., 1992;
Studia Polonica II. К 70- летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002.
3 См. сборник тезисов этой конференции: Victor Chorew — Amicus Poloniae.
М., 2012.
�Статьи
�16
�Ирина Адельгейм
(Москва)
Следы и следствия.
Вторая мировая война
в прозе младших
литературных поколений
после 1989 г.
Война,
если уж начнется,
не имеет конца.
Ее наследуют потомки.
М. Тулли
Адельгейм Ирина Евгеньевна — доктор филологических наук, Россия, Москва,
Институт славяноведения
РАН
Память о значимых для народа событиях не сохраняется неизменной. Постепенно их восприятие интеллектуализируется, мифологизируется, теряя свою
непосредственную чувственную основу и
достоверность реалий. Родившиеся после
войны воспринимают ее через призму тех
«культурных слоев», из которых она для
них проявляется.
Игра «в войну» еще наполнена для
них живыми эмоциями: «Ты бы прыгнул
в выгребную яму, если бы немцы обещали
тебя за это помиловать?»1 В детском саду
они кричат наказанному: «В печь, в печь,
в печь!»2, подобно маленьким героям «Медальонов» (1946) З. Налковской, которые
играли в Освенциме в сжигание евреев.
И тем не менее, это уже не непосредственные жертвы войны. Их перспектива — перспектива постпамяти — специфической формы памяти, отделенной от
травматического события поколенческой
дистанцией, связанной с объектом не
собственно воспоминаниями, но работой
воображения и творчества. Неслучайно «военная» глава «Антологии постнатального творчества. D. G. J. L. O. S. W»
Ц. К. Кендера заканчивается выражением
благодарности «всем людям, которые помогли сложиться в его сознании картине
войны»3.
�18
Ирина Адельгейм
Для воплощения этого опыта требуются художественные средства, опосредующие военное прошлое. Основой повествования в связанной с войной прозе молодых писателей 1990-х гг. (родившихся в
первые полтора десятилетия после войны) стали предметный мир,
миф и язык.
1. Беспрецедентное вторжение вещи в художественное пространство 1990-х годов связано с расцветом так называемой «прозы малой
родины». После того как на рубеже 1980–1990-х гг. критерий «польскости» в качестве главного способа самоидентификации утратил былую
определенность и самодостаточность, автор-повествователь-герой
молодой прозы находит опору для собственного «я» прежде всего в
художественном выстраивании личной генеалогии: отдельная человеческая судьба понимается как одна из многих версий Истории. Таковы война и Холокост — трагический фрагмент фамильного прошлого, раскрываемого потомками в прозе З. Рудзкой, С. Хвина, П. Хюлле
и др. Подобное эмпатическое повествование, воссоздающее опыт не
столь еще далеких предков, — наиболее характерная для перспективы
постпамяти художественная форма.
1990-е годы — время плодотворного художественного осмысления важнейшего для Польши военного и послевоенного сюжета —
исторической драмы репатриации. Это сделали дети и внуки переселенцев, ощутившие себя на «Возвращенных территориях» (бывших немецких) одновременно хозяевами и чужаками. Для укоренения в новом
пространстве и времени поверхностной бытовой адаптации оказалось
недостаточно: возникла потребность в художественной рефлексии над
судьбами довоенных жителей этих территорий (наши предшественники — это «мы сами до нас»4). Характерно, что это поколение писателей, в значительной степени отвергая парадигму оппозиции победителя / побежденного, палача / жертвы, погибшего / уцелевшего, дает в
1990-е гг. и новый для польской литературы образ немца — жертвы
войны и истории, чьи страдания приравниваются к страданиям поляков. А. Д. Лисковацкий в «щецинской трилогии» («Улицы Щецина»,
«Сахарница госпожи Кирш», «Eine kleine») показывает невозможность
сосуществования на бывших немецких / ныне польских территориях
немцев и поляков. Вчерашние хозяева считают поляков варварами, захватчиками, временными пришельцами («ты мне еще будешь ботинки
лизать, еще будешь жрать помои моих свиней»5), те же видят в выселении немцев проявление исторической справедливости.
В то же время юные герои С. Хвина и П. Хюлле, чье сознание еще
не испорчено взрослым — оценивающим и разграничивающим, — за-
�Следы и следствия. Вторая мировая война в прозе...
19
няты собственными «археологическими» изысканиями. Если взрослому проступающие под «своим» следы «чужого» внушают отвращение
(«“Гадость”, — буркнула бабушка, — и хотела поскорее все сорвать»),
то ребенок «внимательно смотрит на все»6. Послевоенных детей интересует немой свидетель войны — вещный мир. Другими словами,
тот «палимпсест истории», каким предстал послевоенный польский
Гданьск, сквозь который — метафорически, но и вполне буквально —
просвечивает немецкий Данциг.
Отношение к вещам оказывается мерой человечности в пограничной — военной и послевоенной — ситуации: не люди здесь подвергаются «овеществлению», но вещь — одушевлению. Немецкий
стол в рассказе Хюлле подобен «домочадцу, который ужасно всем
мешает, но выгнать которого невозможно»7. Во время войны вещи
стремятся спастись вместе с людьми («Вещи <…> уже собирались в
путь. Уже сейчас в окутывающей город тишине вершился страшный
суд — отсюда и стремление занять местечко получше, ненароком подвернуться под руку, чтобы постоянно быть на виду, вовремя оказаться
замеченными»), более прозорливы, чем их хозяева («Никто из нас не
чувствовал, что город медленно движется навстречу яркому зареву,
навстречу шипящему огню, навстречу дыму от горящей смолы, навстречу пыли от раскрошенных кирпичей»), безошибочно предчувствуют свою судьбу («Канделябры <…> еще распускали чванливо
острые лучики свечей, но под их красноватой, цвета карбункула, позолотой тоже таилась неколебимая уверенность, что не за горами то время, когда они, расплавившись в огне, превратятся в толстые сосульки
остывающей меди. Семисвечники из синагоги <…> уже направляли
свои серебряные отблески в сторону Эрфурта, готовясь украсить благородным металлом парадную саблю штурмбаннфюрера Гройце»).
Это предчувствие довоенными предметами своего будущего ощутимо реально, физически: «Стекло отзывалось на каждое движение его
руки издевательскими солнечными бликами, поскольку знало уже,
что недалеко то время, когда прозрачная гладь брызнет во все стороны
тысячами искр, будто хрупкий лед»8.
Именно вещный мир учит героев, что путь к пониманию настоящего пролегает через осознание сегодняшнего дня как пространства
интертекстуального, а мерой человечности оказывается вовсе не степень укорененности, но как раз осознание собственной преходящести,
преодоление в себе ревности к тем, кто придет после, или тем, кто жил
здесь до. Немецкие вещи дают физическое ощущение «неясного присутствия людей, которые здесь жили»9 — присутствия чужой жизни,
чужого опыта, чужой судьбы: «Машинально потянулась к висящему
�20
Ирина Адельгейм
на крючке вылинявшему полотенцу, но, заметив вышитую голубой
ниткой букву “В”, отдернула мокрую руку»10.
Эмпатическое отношение к предметному миру (а тем самым — к
таящимся за ним человеческим судьбам), словно тайный пароль, объединяет людей (поляк бросился защищать немца именно в тот момент,
когда один из мародеров «взял в руки серую чашку с золотой каемкой,
поднес к лицу Ханемана и раздавил в пальцах, как пустое пасхальное
яйцо. <…> И когда Отец это увидел, когда он увидел, как белеет лицо
Ханемана, он вошел в раздвижную дверь»11), неспособность же к нему
разрывает возможную связь (вид дома, поруганного самими хозяевами, не пожелавшими оставить свои вещи будущим польским жильцам, не менее страшен для героя, чем человеческая смерть).
Живое, хоть и словно бы спящее присутствие чужих судеб, ощущаемое в предмете, помогает преодолеть чувство одиночества и чуждости, поскольку позволяет увидеть в очередных владельцах звенья
бесконечной цепи бытия. Переходя из рук в руки, из поколения в поколение, с места на место, предметы объединяют людей незримой сетью связей. Отношение к предметному миру оказывается своего рода
лакмусовой бумажкой человечности тех, кто обрел страшный опыт
Второй мировой войны: вещь — «эманация всего лучшего, что есть
в человеке»12.
2. В прозе М. Тулли и — частично — О. Токарчук война предстает неизбежным фрагментом (анти)утопии о попытке построения идеального пространства в процессе познания и самопознания человека.
Реалии войны и послевоенного времени, в котором отчетливо звучало
ее эхо, заменяются здесь, в сущности, метафорами.
«Сны и камни» М. Тулли рассказывают о строительстве и распаде города, тщетности мечты о совершенстве. Война здесь войной не
названа, однако дан удивительный и ошеломляющий в своей простоте и трагичности вид разрушенной Варшавы: «Вода несет отражения
этих букв, различимые, но размытые, похожие на высокие крыши,
тонкие, словно карандаш, колокольни. В городе, изрытом воронками, отражение исчезает. Да, виднелись на поверхности воды какие-то
другие буквы “W” и “А”, немного похожие на прежние и немного —
на колокольни без куполов, на обгоревшие крыши, на одинокие дома,
высокие и узкие, среди руин»13.
Подобной емкой метафорой человеческого сообщества, моделью
цивилизации является и пространство Стежек в романе писательницы «Красное», а также Правек в романе О. Токарчук «Правек и другие
времена». Характерное для молодой прозы 1990-х смыкание утопии
�Следы и следствия. Вторая мировая война в прозе...
21
и антиутопии особенно заметно как раз во вторжении в повествование о замкнутом пространстве времени нециклического, элементом
которого является война. Герметичную мифологическую оболочку
Правека разрушает время историческое — сначала Первая, а затем
Вторая мировая война, с которыми до Правека доходит и идея реальности другого пространства. Второй мировой войной заканчивается
история Стежек.
В этих произведениях причудливо переплетается социальное и
поэтическое, в прозу, приближающуюся по своей структуре к законам
поэзии, вводятся узнаваемые исторические реалии — знаки изменений или этапов драматической истории Европы ХХ в.
3. Действие романа «Творки» М. Беньчика происходит во время
оккупации в одноименной психиатрической больнице — парадоксальным образом самом «нормальном» месте в ненормальной действительности войны и оккупации.
«Творки» до предела насыщены метаязыковыми комментариями, фрагментами поэтических текстов, пародиями, литературными,
философскими, историческими аллюзиями, которые в результате
создают сложную сеть текстовых связей и культурных ассоциаций.
Главный герой романа, молодой поэт, тщетно пытающийся воплотить
драматическую реальность в слове, сам становится объектом лингвистических операций повествователя. В основе самоощущения их
обоих лежат отсылающие к знаменитой фразе Т. Адорно слова одного
из пациентов: «Так уже не пишут. В Творках уже так не пишут. Так
писали до Творок»14. «Творки», таким образом, оказываются знаком
Холокоста. Роман Беньчика о войне и Холокосте, в отличие от творчества его героя, написан именно «не так» — «иначе».
В романе немало иронии по отношению к литературе, порой текст
обращается пародией на самое себя, повествователь постоянно подчеркивает временность, условность и гипотетичность любого языкового
«зеркала» действительности. Чрезмерность стилистических приемов
обнажает художественную условность языка, который, по ощущению
повествователя, бессилен передать накал эмоций и трагизм переживаемого сам по себе, а тем более — устами представителя другого поколения. Роман — не столько об опыте Холокоста, сколько о его невыразимости: «Кризис языка, сила этой невозможности [выражения Холокоста. — И. А.] — мой горизонт, от которого мне никуда не деться»15.
Посвященная военной действительности глава со знаменательным заглавием «Миф П.» в калейдоскопе важных и незначительных событий Ц. К. Кендера «Антология постнатального творчества.
�22
Ирина Адельгейм
D. G. J. L. O. S. W.» также направлена на обнажение банальности психологических и художественных стереотипов — «наших» и «врагов», поведения в многократно уже описанных ситуациях облавы, ареста и т. д.
Таким образом, для бывших послевоенных детей Вторая мировая война оказывается универсальным феноменом соотношения
добра и зла, концентрированным метафизическим переживанием,
образом-калейдоскопом, в котором переплетаются историческая реальность, семейные и официальные мифы, ностальгия по детскому,
чувственному, восприятию жизни, в которой было еще так много отголосков минувшей войны (показательно иное ощущение значительно более молодого героя «Пансионата» П. Пазиньского — «первого
литературного голоса третьего поколения после Холокоста»16: старые
письма, газеты и фотографии, которые показывают юноше старики,
пережившие Холокост, в его руках «словно бы рассыпаются в прах»17).
* * *
Еще семь лет назад казалось, что от следующего поколения военная тема бесконечно далека, и Вторая мировая война, даже будучи
упомянута, «умещается» в несколько псевдоэпических фраз: «Огромные армии шли на восток, потом на запад, оставляя опустошение,
какого даже эта привыкшая к уничтожению земля не видала многие
столетия»18 и т. д.
Однако последние годы показали, что наблюдается очередной
всплеск интереса к этой теме. Молодые писатели 2000-х гг., а также
ряд авторов поколения, о котором шла речь выше, обращаются теперь
непосредственно к изображению ужасов военной действительности, моментов садизма (многочисленные сцены военного насилия в
прозе С. Хутник; истории уцелевших и погибших евреев в «Пансионате» П. Пазиньского; в «Заоблачье» И. Батор — история лагерного
парикмахера, который «питался страхом»19 узниц; лагерное прошлое
и медицинские эксперименты доктора Менгеле в «Красотке доктора
Йозефа» З. Рудзской и проч.) — и не к молчаливым и обладающим
своей эстетикой, как в 1990-е гг., следам войны, но к ее страшным последствиям для многих поколений. Теперь это откровенное описание
психологических травм и осмысление идеи возмездия.
Война — спустя семь десятилетий — оказывается для героев
важнейшей, если не единственной, точкой отсчета. «Все это военное
повествование — как нарыв»20, — восклицает героиня «Малютки»
С. Хутник, родившаяся после войны. Обращают на себя внимание
�Следы и следствия. Вторая мировая война в прозе...
23
навязчивые — как в компьютерной игре — возвращения к этой точке. Героиня «Карманного атласа женщин» С. Хутник — «настоящая
Неживая Женщина. Зациклившаяся на прошлом» — просит: «Застрелите меня наконец. Закончите наконец эту войну»21 (ср. у М. Тулли:
«Героиня этой истории хотела бы, чтобы война и для нее наконец закончилась. Но война, если уж начнется, не имеет конца»22). Жизнь для
героини Хутник останавливается в 1944 г., когда погибает, спасая дочь
от власовцев, ее мать. Спустя много лет после войны старуха спускается в подвал дома, где они когда-то прятались с матерью от бомб, и
остается там, заживо хороня себя и символически возвращаясь в прошлое, в страну мертвых. Героиня «Бронека» М. Тулли, пережившая
лагерь, в старости заболевает болезнью Альцгеймера, и время для
нее поворачивает вспять, заставляя вернуться в страшное прошлое:
«Пришел день освобождения и миновал незаметно, серый и пасмурный. <…> Радоваться было нечему. В обратном порядке дат освобождение вело в водоворот войны и оккупации. Прямо в концлагеря»23 и
т. д. «Красотка доктора Йозефа», попавшая к доктору Менгеле двенадцатилетней девочкой, до глубокой старости («портретом постаревших
детей Холокоста»24 назвал Эли Барбур этот роман) «остается за колючей проволокой»25. В военное прошлое из своего ХХI в. неожиданно
попадают герои И. Остаховича.
Военный опыт — «выжженное разрушенное прошлое», «черная
дыра войны»26 — изображается как главный, незабываемый, нестираемый. «Колонна стоит на плацу, потом исчезает, потом над плацем висит
черный дым. <…> Этот плац <…> — место, где остаешься навсегда»27.
Страдание, которое не может быть оспорено, оказывается и единственным свидетельством существования. Героиня Хутник «специально
морила себя голодом, чтобы вспомнить то ощущение, испытанное в
гетто»28. Одна из героинь «Заоблачья» И. Батор понимает, «что не для
нее новая [послевоенная. — И. А.] жизнь», — оказалось, что она «хотела выжить не затем, чтобы жить, а затем, чтобы помнить, а то, что
происходит сейчас <…> для нее нереально и несущественно»29. Другой
персонаж «лагерем отвечал на невинную реплику о погоде <…>, лагерем отвечал на невинную реплику об урожае лука»30. Узникам лагеря
иногда «удавалось выжить, но никогда не удавалось забыть»31. Героиня
«Мойр» М. Соболя говорит, что бывший узник концлагеря «никогда не
будет нормальным», его «никогда не покинут боль и страх»32. Память
о тех годах, от которой «напрасно пытался избавиться» молодой герой
Пазиньского и которая «приковала его толстой цепью к этому месту»,
«по-прежнему стояла у него перед глазами, не позволяя их закрыть —
ни днем, ни, тем более, ночью»33.
�24
Ирина Адельгейм
Узник Освенцима Примо Леви в последней своей книге «Канувшие и спасенные» усомнился в себе как свидетеле: «Не мы, оставшиеся
в живых, настоящие свидетели. <…> Мы, выжившие, составляем меньшинство, совсем ничтожную часть. Мы — это те, кто благодаря привилегированному положению, умению приспосабливаться или везению
не достиг дна. Потому что те, кто достиг, кто увидел Медузу Горгону,
уже не вернулись, чтобы рассказать, или вернулись немыми»34. О том
же говорит повествовательница в рассказе М. Тулли: «Нельзя не признать, что мир устроен довольно милосердно: люди не имеют возможности заранее заглянуть за кулисы, туда, где им суждено испустить
дух. <…> Предполагается, что смерть будет мгновенна. <…> Но тогда,
когда все перевернулось с ног на голову, все пошло наперекосяк <…>
главный механизм сцены испортился, и некоторые вернулись из-за кулис, что вовсе не планировалось. То, что они видели, осталось с ними
навсегда. <…> И время смерти, не закончившись в должный момент и
должным образом, растянулось для них на десятилетия»35.
С. Хутник в «Карманном атласе» касается проблемы единого —
единственного — официального мартирологически-патриотического
дискурса: героиня всю жизнь опасается, что ее лишат патриотически-польского военного прошлого и раскроют его «еврейскую изнанку» (участие сначала в восстании варшавского гетто и лишь затем в
варшавском восстании — «куда бы я отдала повязку со звездой Давида? Я хранила их вместе. Прильнувшие друг к другу, словно пара влюбленных. Проникнутые одним запахом. Снятые с одной руки <…>»):
«В этом городе есть место только для одного героического подвига —
у него имеется свой музей, своя мартирология, свое место в памяти»36.
Молодые авторы поднимают и проблему послевоенного антисемитизма как продолжения Холокоста: героиня «Карманного атласа женщин»
ходит по городу «с вечным ощущением страха»: «Она чувствует, как
над головой вырастает огромная неоновая вывеска “еврейская свинья”
<…> Я еврейка и не имею права передвигаться свободно <…> «Когда
она видела на стенах надписи “Jude Raus”, думала, что они остались
со времен войны — этакий скансен для туристов»37. Родившаяся после
войны повествовательница «Бронека» М. Тулли хотела бы «перестать
задумываться, есть ли у нее достаточно близкие друзья, чтобы можно
было в случае чего спрятать у них родных»38. Речь идет и о своеобразной «иудеизации» объекта ненависти: «В ушах начинает звучать “перестань жидиться”, “ожидовленный воздух”»39. Параноический антисемитизм представлен и в «Малютке» С. Хутник: соседи «кричат под
окнами “jude raus”», называют девочку-калеку «жидовским обрубком»,
замечая, что «ничего удивительного — ведь вся семья фольксдойчи да
�Следы и следствия. Вторая мировая война в прозе...
25
жиды», но и мать девочки каждый месяц жертвует гроши «на борьбу с жидокоммуной»40. В «Ночи живых евреев» И. Остаховича антисемитизм направлен на появившиеся из-под земли трупы убитых во
время войны евреев: на сайте «Живая Польша» с «трепещущим бело-красным флагом» появляются «предостережения перед разгулом
крипто-евреев», сообщения о том, что «еврейские трупы угрожают
живым полякам в Варшаве», а затем объявляется день «Окончательного решения вопроса праздношатающихся трупов»41.
Несмотря на живописание ужасов войны, эти тексты, естественно, лишены уже той чувственной основы, которая еще ощущалась в
произведениях предшествующего поколения — в первую очередь, в
их отношении к связанным с войной предметам. Однако появляются
новые эмоционально насыщенные болевые точки: прежде всего, идея
возмездия и страх перед ним.
В романе Хутник «Малютка» несчастье, постигшее семью
спустя десятилетия после войны — чудовищные уродства ребенка —
однозначно прочитывается жителями как божья кара, месть истории
(прабабушка в 1944 г. обобрала, а затем выдала немцам двух
варшавских беженок, одна из которых — тезка правнучки-калеки).
Роман Остаховича — буквализация метафоры Варшавакладбище42 (ср. у С. Хутник — «Город, выстроенный из трупов, на
трупах»; «Дочь моя хранит в несовершенном теле души умерших и
похороненных в нашем городе»43) и — шире — Польша-кладбище: из
подвала современного польского дома однажды появляются мертвые
евреи (характерен вообще топос подвала в современной прозе: ср.
у Хутник: «Стены подвала видели сцены, после которых уже не в
состоянии хранить велосипеды, раскладушки и банки с вареньем»44
и др.), а персонажи попадают в различные эпизоды военной
действительности. Характерно, что, оказавшись в Освенциме, герой
чувствует: в отличие от тех, кто находился «в праобразе», т. е. в
настоящем лагере, он — человек начала XXI в. — «не невинен, не
случаен»45.
Кроме того, это момент агрессии, отрицания, желания освободиться от мартирологической традиции, сбросить «бремя трупов»46,
усталость от «отрицательного капитала» — «энергии насилия, обратившейся в бесцельную и хаотическую энергию страдания, обиды и
ненависти», «в этой форме достающейся следующим поколениям».
«Мне не нужно это наследство, — говорит героиня М. Тулли, — но
в чьи добрые руки отдать темный дым над печью крематория?»47
«Малютка» С. Хутник заканчивается «Большой импровизацией», в
которой героиня обвиняет «всосавшее» ее польское прошлое «с его
�26
Ирина Адельгейм
войнами, восстаниями, ссылками и возвращениями», призывает освободиться от «этой бело-красной страны», избавить тело «от болезненных наростов, не моих, не наших, не нашего поколения»48. «Я зол на
самого себя, — говорит герой И. Остаховича, — почему я не родился
в другом месте. <…> Здесь каждый атом обагрен кровью. <…> Если
мир полон руды зла, то выплавлялась она здесь, у нас. <…> Все здесь
заражено»49. Хутник и Тулли говорят и об этической стороне мартирологической традиции — несоразмерности страданий участников
войны, Варшавского восстания, жертв концлагерей и гордости или
педагогических интенций потомков: «А теперь мы питаемся этими
романтическими пируэтами. Салютуем в такт человеческим стонам.
Преклоняем колени. Наши-то колени не болят»; «Хорошо, что люди
гибли, благодаря им <…> воспитывается национальная идентичность,
и наша гордость крепнет на руинах»50; «Считается, что каждый станет
лучше, если посетит такую выставку, особенно школьники. <…> Но
те люди не хотят, чтобы школьники на них смотрели. Мне их жаль,
ведь им некуда деваться, за их спиной только стена»51.
Наконец, это подчеркнуто женская перспектива, изображение
нескольких поколений женщин (характерна фамилия героинь в «Малютке» С. Хутник — Муттер, «мать»). Сцена в романе Хутник отсылает к «Дневнику Варшавского восстания» М. Бялошевского, пытавшегося разрушить мартирологический миф о Матери-польке, жертвующей своими детьми во благо отчизны, и показавшего реакцию
гражданского населения на Варшавское восстание. Романтический
миф польской Mater Dolorosa противопоставлен здесь природному материнскому инстинкту: «Позже говорили, что это был не крик, а вой
сук. <…> Матери сидят в убежищах, как куры, на своих детях, им бы
только восстания гасить»52; «Матери просто не успевали производить
<…> один ребенок на сто трупов. Один ребенок с засохшей пуповиной
взамен за горсточку маленьких харцеров»53 и проч.
Хутник обращается к гендерному аспекту военного прошлого: оказывается, что в Польше оно разного «качества». Героическое
мужское или «легальное», «признанное» женское (связная, санитарка,
«kanalarka», выводившая во время Варшавского восстания солдат через каналы — подземные коллекторы), которые не могут быть оспорены — и негероическое: «На каждом шагу — памятная доска, цветы,
лампадка. Расстреляны, погибли, убиты. Нет только “изнасилованы”,
об этом не принято помнить. Это же физиология, вещи нечистые. Как
отправление естественных потребностей. Изнасилование не ассоциируется со стрельбой, войной, пиф-паф, падай, ползи, в окопы… Его
не учитывает военная статистика… Это тебе не геройская смерть от
�Следы и следствия. Вторая мировая война в прозе...
27
ран, полученных в битве. Также не является геройством: держать на
руках своего убитого ребенка, смотреть, как его сбрасывают с шестого этажа, слышать, как тело разбивается о мостовую»54. Словно бы
перебирая степени маргинализации польской еврейки, пережившей
войну — бомбардировки, гетто, Варшавское восстание, массовые
изнасилования власовцев, — героиня Хутник называет себя сперва
«Матерью Божьей Варшавской», затем «Матерью Божьей Еврейской»
и наконец «Матерью матерей детей, убитых во время войны»55, мстительницей: «Радуйся, Мария, мести полная! Ярость с Тобою; благословенна Ты между женами, и благословен плод вендетты Твоей»56.
Жертвой войны, которую ведут мужчины, становится женское тело,
которое символизирует девочка-инвалид, безмолвный медиум военного прошлого у Хутник: «Одна сотня мужиков со штыками кидается
на другую такую же. <…> Бегут по моему телу, по сердцу и печени, и
даже не извинятся»57.
Таким образом, это опыт поколения, осознающего, что мир и человек после Освенцима не стали принципиально другими, — реакция
на подспудную жестокость современности. Поколения, ежедневно
соприкасающегося с кровью и злом посредством СМИ, несмотря на
девальвацию в них страдания. Читатели вышедших в последнее десятилетие в Польше ошеломляющих репортажей В. Тохмана и В. Ягельского о войнах и массовых убийствах в бывшей Югославии, на Кавказе, в Африке, в Афганистане и т. д. — свидетели и участники широкой общественной дискуссии о роли поляков в Холокосте, частичного
разрушения польского мартирологического мифа и «польской мании
собственной невиновности»58. Появилось также немало поздних дебютов свидетелей войны и Холокоста.
По словам американского историка Д. Лакапры, травма «заразна»: она распространяется не только через непосредственное общение
со свидетелями, но и посредством научных исследований, художественной рефлексии, СМИ, переносится в виде «проективной и / или
инкорпоративной идентификации»59. Это физически ощущает герой
«Пансионата» П. Пазиньского: «Я хотел убежать, но почувствовал,
что меня держит какая-то сила <…>, словно ноги мои спутаны веревкой, словно я принадлежал к поколению пана Абрама и Пани Мали,
словно между мной и дядей Шимоном не было никакой разницы в
возрасте, ни малейшей щелочки, которая могла бы наши судьбы разделить. Они держали меня в стальных объятиях»60.
Постпамять — в масштабе как личности, так и культуры в целом, — совершенно особый тип памяти, поскольку она направлена на
чужую травму, а следовательно, связана с источником опыта не соб-
�28
Ирина Адельгейм
ственно воспоминанием, а прежде всего эмпатией (характерны реплики родившихся после войны героев и повествователей: «я хочу забыть
то, что помнила моя мать»61; «я вижу, насколько мне удается рассмотреть, словно в немом кино: она идет <…> по неведомой мне львовской
улице»62). Таким образом, это перспектива прежде всего этическая.
Наконец, это попытка заново поднять проблему языка выражения
травматического военного опыта и опыта Холокоста, породивших «негативную диалектику» Адорно, проблему конфликта между потребностью свидетельствовать и осознанием неадекватности традиционных
художественных средств — этой степени человеческой жестокости.
Проблема творчества последующих поколений связана уже не только с
запечатлением невыразимого травматического опыта, но и с запечатлением памяти, которая является не непосредственным воспоминанием о
событиях, а памятью о текстах культуры, повествующих об этих событиях. Символом этой двойной невыразимости и становится девочка-калека в «Малютке» Хутник: она не в состоянии общаться с внешним миром, но является медиумом, с которым контактируют жертвы военных
лет: «Малютка все знала, <…> была огромной летописью, открытой
книгой»63. Однако передать это живым Малютка не может («она стонет, скулит, давится невысказанными словами, но вокруг <…> — пустота»64) — и лишь ее чудовищное тело является безмолвным знаком.
Примечания
1
2
3
Tulli M. Włoskie szpilki. Warszawa, 2011. S. 8, 9, 16.
Ibid. S. 16.
Kęder C. K. Antologia twórczości postnatalnej. D.G.J.Ł.O.S.W. Kraków,
1996. S. 147.
4 Liskowacki A. D. Cukiernica pani Kirsch. Szczecin, 1998. S. 152.
5 Liskowacki A. D. Eine kleine. Quasi una allemanda. Szczecin, 2000. S. 155.
6 Chwin S. Krótka historia pewnego żartu. (Sceny z Europy Śródkowowschodniej). Kraków, 1991. S. 11, 262.
7 Huelle P. Opowiadania na czas przeprowadzki. Gdańsk, 1999. S. 9.
8 Хвин C. Ханеман. М., 2003. С. 33–38.
9 Huelle P. Pierwsza miłość i inne opowiadania. London, 1996. S. 41.
10 Хвин C. Указ. соч. С. 95.
11 Там же. С. 88.
12 Uroki wykorzenienia. O narracji reistycznej, grach z losem i kilku innych
pokusach. Ze Stefanem Chwinem rozmawia Wojciech Werochowski // Tytuł. 1996. № 3. S. 70.
�Следы и следствия. Вторая мировая война в прозе...
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
29
Tulli M. Sny i kamienie. Warszawa, 1996. S. 50.
Bieńczyk M. Tworki. Warszawa, 1999. S. 15.
Rozmowa z M. Bieńczykiem // Rzeczpospolita. № 159. 10.07.1999.
Sobolewska J. Taniec z cieniami. Powiastka filozoficzna o żydowskim losie [Электронный ресурс]. URL: http://www.polityka.pl/kultura/ksiazki/297843,1, recenzja-ksiazki-piotr-pazinski-pensjonat.read.
Paziński P. Pensjonat. Warszawa, 2010. S. 23–24.
Bieńkowski D. Nic. Warszawa, 2005. S. 7.
Bator J. Chmurdalia. Warszawa, 2010. S. 80.
Chutnik S. Dzidzia. Warszawa, 2009. S. 152.
Chutnik S. Kieszkonkowy atlas kobiet. Kraków, 2009. S. 119, 107.
Tulli M. Włoskie szpilki. S. 64.
Ibid. S. 68, 76.
Rudzka Z. Ślicznotka doktora Józefa. Warszawa, 2006. Обложка.
Ibid. S. 222.
Tulli M. Włoskie szpilki. S. 28, 35.
Ibid. S. 69.
Chutnik S. Kieszkonkowy atlas kobiet. S. 106.
Bator J. Op. cit. S. 262.
Ibid. S. 73.
Ibid. S. 81.
Soból M. Mojry. Warszawa, 2005. S. 22.
Paziński P. Op. cit. S. 55.
34 Леви П. Канувшие и спасенные. М., 2010. [Элекронный ресурс].
URL: http://lib.rus.ec/b/351380/read.
Tulli M. Włoskie szpilki. S. 69.
Chutnik S. Kieszkonkowy atlas kobiet. S. 99.
Ibid. S. 99, 107.
Tulli M. Włoskie szpilki. S. 75.
Chutnik S. Kieszkonkowy atlas kobiet. S. 99.
Chutnik S. Dzidzia. S. 139, 88.
Ostachowicz I. Noc żywych żydów. Warszawa, 2012. S. 179–180, 230.
Следом за художественным осмыслением этого феномена появились
документальные исследования: «Festung Warschau» (2012) Э. Яницкой о варшавском «палимпсесте» — стирании с пространства города
памяти о восстании в варшавском гетто при помощи жестов памяти о
Варшавском восстании; «Станция Муранов» (2012) Б. Хомонтовской
о варшавском районе, выстроенном на руинах и из руин гетто.
43 Chutnik S. Dzidzia. S. 46, 146.
44 Chutnik S. Kieszonkowy atlas kobiet. S. 124.
35
36
37
38
39
40
41
42
�30
Ирина Адельгейм
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Ostachowicz I. Op. cit. S. 137.
Chutnik S. Dzidzia. S. 146.
Tulli M. Włoskie szpilki. S. 64, 75.
Chutnik S. Dzidzia. S. 145, 160.
Ostachowicz I. Op. cit. S. 205.
Chutnik S. Dzidzia. S. 10, 63.
Tulli M. Włoskie szpilki. S. 74.
Chutnik S. Dzidzia. S. 12–13.
Ibid. S. 147, 149.
Chutnik S. Kieszonkowy atlas kobiet. S. 95.
Ibid. S. 102.
Ibid.
Chutnik S. Dzidzia. S. 84.
Tokarska-Bakir J. Obsesja niewinności // Tokarska-Bakir J. Rzeczy mgliste. Sejny, 2004. S. 14.
LaCapra D. Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość,
teoria krytyczna. Kraków, 2009. S. 108.
Paziński P. Op. cit. S. 134.
Chutnik S. Dzidzia. S. 151.
Paziński P. Op. cit. S. 49.
Chutnik S. Dzidzia. S. 38, 43.
Ibid. S. 38, 44.
59
60
61
62
63
64
�Наталия Ананьева
(Москва)
Полонизмы
в произведениях
Дины Рубиной
Ананьева Наталия Евгень
евна — доктор филологиче
ских наук, профессор, Рос
сия, Москва, Московский
государственный универ
ситет им. М. В. Ломоносова
Из современных русских писателей наибольшее количество полонизмов
встречается в прозе Д. Рубиной.
Минимальное число польских языковых элементов и польских реалий
представлено в ее романе «Белая голубка
Кордовы». Это антропоним Рышард Рашкевич (переодетый в «польскую девочку»
еврейский мальчик), лексема пани («он
проводил прекрасную пани до дома»);
эпитеты прекрасная, изумительной красоты, субстантив красавица, относящиеся к
молодой польской художнице и отражающие традиционный для русской литературы стереотип «прекрасной полячки»
(причем, как увидим из нижеприведенного контекста, не лишенный черт некой
хищности и кровожадности); варшавский
ресторан «У поваров» и приготавливаемое в нем (а также в Риме) любимое поляками блюдо «мясо по-татарски», или
татар (польск. tatar «татарин», в тексте
употреблена французская версия названия польского блюда: «приходил сюда
жрать тартар. Моя жена называет его
«мясо по-татарски»). Рубина дает подробное описание приготовления «татара»
в римском ресторане и приводит воспоминания героя романа Кордовина о варшавском ресторане «У поваров», где он также
наблюдал за приготовлением этого блюда
�32
Наталия Ананьева
из сырого мяса: «Едва Кордовин увидел широкий нож в руках повара,
в его памяти всплыло одно чудесное застолье в модном Варшавском
ресторане “У поваров”. Тот был оформлен под кухмистерскую начала
ХХ века – белые кафельные стены, столы вразнобой, смешные разновозрастные официанты с завитыми усами и седыми косицами, в
старых жилетах и белых фартуках до пят <…> Там тоже разделочный
столик подкатили прямо к столу, где Кордовин сидел с изумительной
красоты молодой польской художницей, тоже заказавшей себе “мясо
по-татарски”. И то, с каким хищным выражением глаз и полуоткрытого рта красавица следила за разделочным ножом, летающим над
кровавым куском, все решило: после ресторана он проводил прекрасную пани до дома и, чинно расцеловав нежнейшие руки (польский
ритуал вежливости по отношению к женщине со стороны мужчины, отсюда выражение Całuję rączki — формула, некогда завершавшая письма к особам женского пола. — Н. А.), одну и другую, раскланялся». Описание стадий приготовления «татара» у получившей
консерваторское образование Д. Рубиной выглядит как исполнение
солистом (поваром) музыкального произведения (слова, имеющие
отношение к музыке, выделены нами курсивом. — Н. А.): «Священнодействие началось со слегка подброшенного и пойманного на широкую щеку ножа куска сырого мяса, за который взялись искусные
руки повара. Нож мелко-мелко шинковал податливую плоть, нежно
переворачивал с боку на бок, совершал какие-то глиссандо вдоль и
поперек куска, — все в ритме стремительного танца, не доставало
лишь музыкального сопровождения. Следом чародей густо посыпал
мясо перцем, солью, какими-то особыми специями и вновь часто-часто трепеща ножом, гладил и перебирал нежный шелк сырого фарша. И когда казалось, что более мелко порубить уже нельзя даже родниковую воду <…> вновь приступал: собирал в горочку, раскладывал
на доске, разглаживал…»1.
Максимальное количество элементов польского языка мы встречаем на страницах романа «Синдром Петрушки». Полонизмы отмечаются и в некоторых рассказах писательницы (например, в рассказе «Гладь озера в пасмурной мгле» и других). Художественная цель
употребления этих полонизмов — создание локального колорита (например, при описании польско-украинского «балака» Львова в «Синдроме Петрушки») и национальная маркированность персонажа (например, «глупой» Баси, кукольника Казимира Матвеевича, адвоката
Вильковского, его жены Яны и ее сестры Виси или сторожа Луща в
«Синдроме Петрушки», поляка из Лодзи в вышеупомянутом рассказе). Полонизмы характерны также для речи львовян непольского про-
�Полонизмы в произведениях Дины Рубиной
33
исхождения (Борис Горелик, Зив), особенно когда они передают речь
своих земляков-поляков. Так, Зив повторяет слова Яны, в которую
он был влюблен: «Куба, я мам дзисяй дзень народзеня, мам сэдэмнащэ лят». Вспоминая Львов и его жителей, употребляет полонизмы и
главный герой романа, кукольник Петр Уксусов.
Иногда польские фразы не связаны с функцией локализации
действия или речевой характеристикой польского персонажа. Так,
события рассказа «Под знаком карнавала» происходят в Израиле,
речь идет о трудности сохранить у детей эмигрантов русский язык,
о тщетных усилиях заставить их читать не только на иврите, но и
по-русски. Дочь не хочет слушать нравоучений мамы о пользе чтения рассказа Л. Толстого «Сливовая косточка», название которого
она сама воспроизводит как «Сливная костячка», а автора рассказа
неуверенного именует Толстов. Вместо беседы об этом рассказе девочка жаждет поскорее посмотреть юмористическую телевизионную
передачу «Зэ узэ!». И восклицание, являющееся названием этой передачи, по мнению автора, можно перевести только приблизительно:
«О, это она!». Но «точнее» она переводится фразой «Ото то!»2 (т. е.
польским выражением Oto to — «то, что надо», букв. «Вот оно!»).
Здесь полонизм безусловно служит целям собственно поэтическим,
как в ряде произведений Н. С. Лескова. Тем не менее, в большинстве
произведений использование полонизмов призвано передать локальный колорит и подчеркнуть «польскость» персонажа.
Источник сведений о польском языке у Д. Рубиной нам не известен. Сама автор в рассказе «Гладь озера в пасмурной мгле», описывая (правда, не всегда корректно) язык встретившегося ей в Венеции
поляка, замечает, что разговор с ним «происходил на удивительной
смеси русского, который он учил когда-то в школе, и английского, с
вкраплением тех польских слов, которые неизвестно когда и по какому
случаю запали мне в голову или смысл которых я просто угадывала»3.
Сигналом чужеродности языкового элемента при первом употреблении его в тексте нередко являются кавычки или курсив. Пояснения
(русские эквиваленты) и перевод даются в тех случаях, когда автор
полагает, что без соответствующих объяснений текст утрачивает коммуникативность, становится непонятным для русскоязычного читателя. Пояснения вводятся непосредственно в текст (например, в препозиции или постпозиции по отношению к полонизму) или (обычно в
случае реплик персонажей) даются в сноске как перевод с польского.
При повторном (и тем более, многократном) употреблении полонизма не только отсутствует русский эквивалент, но слово не выделяется
также формально (с помощью кавычек или курсива).
�34
Наталия Ананьева
Примеры пояснений в постпозиции в наррации: «В те годы
все “брамы” — то есть ворота <…> бывали непременно заперты»;
«Главным украшением его и “кавалерки” — маленькой комнаты с
туалетом (ванной не было), куда я однажды заглянул без спросу, —
была великолепно исполненная довоенная реклама польских презервативов…»4
При мер у пот реблен и я русского эк ви ва лен та в п ре позиции в п рямой речи к у кольника Ка зими ра Матвеев и ч а: «Але совпадение, вельки Боже ж, але збег!; — Вот это да! Ну,
тебе сам бог указал, кем быть… Але ж фокус! Але збег околичности!»
Поскольку речь Казимира Матвеевича характеризуется «смешением и кружением» польских и русских слов, в чем Петр усматривает
«подспудную игру, магическую тягу к смешению и кружению смыслов, попытку завлечь»5, постольку употребление им русского аналога
польск. zbieg (okoliczności) является вполне естественным и одновременно удачным примером раскрытия русскоязычному читателю значения полонизма («совпадение, стечение обстоятельств»).
П р и м е р ы п е р е в о д а п о л ь с к о й р е ч и в с н о с к е:
1. Перевод польской песенки, которую пел дед главного героя романа
«Синдром Петрушки» кукольника Петра Уксусова: «О пулноци се зьявили яцысь двай цивиле, Морды подрапане, влосы як бадыли (польск.
badyle. — Н. А.). Ниц никому не мувили, тылько в мордэ били, Тылько в
мордэ били — таюсь-та-ёй!»1)
1)
В полночь явились какие-то двое в штатском,
Морды поцарапанные, волосы как солома.
Ничего никому не говорили, только в морду били,
Только в морду били, да крепко так! (польск.)6
2. Перевод польских фраз-ругательств сторожа Луща. При этом в сноске вторично приводятся подлежащие переводу польские высказывания:
«Правда, на какой-нибудь сотый издевательский залп звонков он [пан
Лущ. — Н. А.] мог выбежать с мокрой тряпкой и, размахивая ею, как раненный в бою знаменосец, с вытаращенными глазами орать: “Пся крев!
Курва! Шляг бы те трафил! Жэбы те кров (Sic! — Н. А.) заляла!”»1)
1)
Шляг бы те трафил! Жэбы те кров заляла! — Чтоб тебя удар
хватил! Чтоб ты кровью залился! (польск.)
Одновременно русифицированная, но не до конца (с сохранением
твердости конечного губного в лексема кров поясняет слово крев в непереведенном начальном ругательстве пся крев.
�Полонизмы в произведениях Дины Рубиной
35
3. Перевод в сноске польской фразы Баси. При этом, в отличие от
второго примера, полонизмы в сноске не повторяются: «Сыну, тысь
мышлял, же óна бендзе для тéбе сёстшичка?»1)7
1)
Сынок, ты думал, она будет тебе сестричкой? (польск.)
Реже комментарий или перевод прямой речи может быть вставлен в текст. Пример такого рода, когда не нарушается художественная
ткань произведения, — «тягучий рык» сборщика бутылок в «Синдроме Петрушки»: «Фля-а-ажка-бутылка!». В условиях многонационального и полилингвального Львова такой крик старьевщика вполне
правдоподобен.
При ме ры пе ревода в нар рат и вном т екс т е по сле
п о л ь с к о г о в ы с к а з ы в а н и я: «Predzej ci serce peknie (некорректное
отсутствие передачи носового переднего ряда — с помощью ę или
хотя бы en; польск. prędzej, pęknie. — Н. А.) — “Скорее сердце у тебя
лопнет!”»8 (реклама презервативов). Ср. также приведение русского
эквивалента в позиции после полонизма в косвенно-прямой речи: «И
тут же он стал рассказывать с таким напором и болью, словно и “ционжка справа”, “тяжелая история” толкала его изнутри…»9
При отсутствии прямого эквивалента значение полонизма может
проясниться из слов ближайшего контекста. Например, в нарративном предложении «Такие дома во Львове называли “австрийскими”;
а еще этот стиль носил имя “сецессия”, и ни в одной другой европейской стране я больше не встречал подобного названия» из контекста
следует, что лексема сецессия (польск. secesja < лат. secessio) является названием архитектурного стиля. Тем не менее, при отсутствии в
русском подобной лексемы мы не можем выявить, что под этой номинацией скрывается аналог русскому (также заимствованному, но
из французского языка) модерн (реже артнуво). Ср. также слова ближайшего русского контекста, обозначающие продукт, производимый
в месте, номинируемом польской лексемой: «…привычно сплетаясь
с вездесущими запахами утреннего города: кофе из кавярни (курсив
здесь и далее в цитатах Д. Рубиной. — Н. А.) напротив выпечки из
ближайшей цукерни»10. Если лексема кофе при близости польск. kawa
неоднозначно указывает на значение польск. кавярня («кофейня»), то
слово выпечка позволяет определить значение польск. цукерня весьма
неопределенно — ‘место, где что-то выпекают’, в то время как цукерня имеет значение «кондитерская» (т. е. ‘место, где выпекают что-то
сладкое’). Таким образом, не всегда ближайший контекст позволяет
установить точное, конкретное значение полонизма.
При ме р с о т су т с т вием пе ревода п ря мой пол ь ской
р е ч и: «Дворника нашего дома звали пан Лущ. Именно он выходил на
�36
Наталия Ананьева
звонки в квартиры и чинно сообщал: “Никого нема в дому, до зобаченя”, или “Прошэ бардзо”, — что означало: он о госте предупрежден,
и хозяева ждут»11. При отсутствии перевода как первого, так и второго польского высказывания Луща (польск. nikogo nie ma w domu, do
zobaсzenia «никого нет дома, до свидания», польск. proszę bardzo «пожалуйста») в виде пояснения дана пресуппозиция второй части (приглашение прошэ бардзо означает предварительное предупреждение о
визите и ожидание гостя хозяевами).
Пример отсу тстви я выделени я с помощью кавычек
и л и к у р с и в а п о л о н и з м а в с л у ч а е е г о п о в т о р н о г о (ил и
м н о г о к р а т н о г о) у п о т р е б л е н и я: «Зайдите и сейчас в какую-нибудь браму в центре старого Львова и посмотрите под ноги…» 12
Как правило, полонизмы у Д. Рубиной даются в транслитерации.
Только в «Синдроме Петрушки» дважды отмечены примеры латиницей: вышеприведенная реклама презервативов и фраза Lwow bede nasz
(с некорректным отсутствием не только носового в глаголе «быть», которое можно было бы счесть за передачу регионального bede, bedziesz,
но и с отсутствием каких-либо способов отразить среднеязычный dź
в форме 3 л. ед. ч., т. е. bedzie — польск. литер. będzie. Кроме того, не
проставлена «креска» над о — польск. Lwów).
В переданных средствами русской графики полонизмах Д. Рубина пытается отразить особенности польской фонетики. Так, мягкий
среднеязычный dź передается (не совсем удачно) посредством диграфа дз. Его глухой коррелят ć обозначается неединообразно на конце
слова — то как ць (ср. розумець — польск. rozumieć), то как чь (милощьчь — польск. miłość). Перед гласным это может быть сочетание ци
(ционжко — польск. ciężko, ционжка — польск. ciężka). Если польскому ś могут соответствовать щь (милощьчь), с (при этом и перед е, и
перед э: се, сэнь — польск. się) или си перед гласным (сиострычка —
польск. siоstrzyczka) и даже ш (мышлял), то ź передается посредством
ж (жемя — польск. ziemia). При этом польск. ż также обозначается ж
(как с последующим е, так и э: жэбы — польск. żeby и же — польск.
że). Носовой переднего ряда может передаваться на конце слова как е
(1 л. ед. ч. проше — польск. proszę, ce — польск. się), как ен (1 л. ед. ч.
прошен — польск. proszę), как э (прошэ) и даже как энь (сэнь — польск.
się). Наличие мягкого нь и на конце слова, и в позиции перед твердым
согласным (рэньку — польск. rękę с русским окончанием вин. п. ед. ч.
-у). Носовой заднего ряда в середине слова передается сочетанием он,
но нередко он употреблен вместо закономерного носового переднего
ряда, ср.: ционжка — польск. ciężka, ционжко — польск. ciężkо. Знаком ударения на предпоследнем слоге отмечается парокситонический
�Полонизмы в произведениях Дины Рубиной
37
характер польского ударения. Это особенно важно, когда польский и
русский эквиваленты отличаются только местом ударения: далéко,
óна, пóляк. Ср. также обозначенную парокситонезу в следующих примерах: лялéчка «куколка», по прóсту «просто», до тéбе «до тебя». На
твердость польск. cz указывает употребление после буквы ч знака э
(ср. в русизме очэн — у поляка-гондольера в рассказе «Гладь озера
в пасмурной мгле»). Сочетание ье после согласного передает польск.
звукосочетание je: вьелка, вакацье. Билабиальный характер польского
ł передается буквой в: хвопчик — польск. chłopczyk, быв — польск. był.
Как уже отмечалось, наиболее репрезентативен инвентарь полонизмов в романе «Синдром Петрушки». Из трех инославянских идиомов (польского, чешского и украинского), представленных в романе,
первый выражен в самой значительной степени, поскольку главные
герои в той или иной степени связаны с довоенным Львовом, с его
специфическим «балаком», или «гварой». Ср. описание этого своеобразного львовского диалекта, представленного речью Баси: «Бася
понимала, но не говорила по-русски <…> хотя вполне польским Басин язык назвать было никак нельзя <…> Сама Бася осталась жить в
прежнем мире “за Польски”: все улицы именовала по-старому, ходила
в костел, проезжая в трамвае мимо собора, крестилась; разговаривала
смешно: хулиганов именовала “батярами”, лужи — “баюрами”, чай
жидкой заварки презрительно называла: “сики свентей Вероники”, и
вообще чуть не каждую фразу начинала с типичного зачина певучей
“львовской гвары” — “та ё-ой”». Ср. высказывание Зива о региональном польском языке довоенного Львова: «А язык — певучий, не совсем польский, польский язык Львова…» Полонизмы в речи неполяков, действующих в романе, или непосредственно характеризуют их
собственную прямую речь, или употребляются в качестве цитат из
чужой (польской) речи. Польские персонажи употребляют полонизмы
и в прямой речи, и в так называемой косвенно-прямой (косвенно-переходной). Польские персонажи различаются по интенсивности употребления в их речи полонизмов. Если, например, для Баси характерны
целые высказывания на польском языке, то в речи давно не связанного
со Львовом Казимира Матвеевича представлены отдаленные «вкрапления» польских слов. Ср.: «Ты чего, сынок? Пить хцешь? (польск.
chcesz “хочешь”)»; «Лялек-то (польск. lalka “кукла”) моих рассмотрел
как следует?»; «Ну и ктура (польск. która “которая”) ж тебе боле понравилась?»; «Ты что, пшестрашился (польск. przestraszył się “испугался”) меня?.. — Чего ж меня страшиться… Естэм (польск. jestem
“есмь, являюсь”) просто одинокий старик. Мне вот приятно, что ты
цалы вечур (польск. cały wieczór “весь вечер”) рассматривал моих де-
�38
Наталия Ананьева
тишек. Давай вместе их посмотрим, и я тебе что-то повем (польск.
powiem “скажу”)». Хотя касаясь ремесла кукольника, Казимир Матвеевич, по определению нарратора, не употребляет полонизмов, они в
минимальной степени могут быть в виде «вкраплений» введены в разговор об этой профессии. Ср. описание «укладки», отличающейся от
обычной куклы каким-нибудь секретом, «странностью детали»: «…
ведь это гротесковый образ: взгляни на ее нос, на ее огромный рот.
Это не пани, даром что ридикюль в руке, это — хабалка. Такие оденут
все самое модное и дорогое, и все же что-нибудь у них да будет не так.
Например, вот эта подозрительная шляпа. “Ах, это ваша кукла? —
спрашивают тебя на границе. — А что там у нее внутри?” — “Ничего,
пане офицеже, — отвечаешь ты, — ничего, товарищ офицер, можете
проверить сами”. И он проверяет. Он даже вспарывает ее бедный матерчатый животик и находит там опилки, и остается с носом, и даже
извиняется, хотя он и быдло»13.
Полонизмами насыщено ономастическое пространство произведений Д. Рубиной, представленное разнообразными классами онимов:
антропонимов, топонимов, идеонимов и др. Польский антропонимикон прозы Д. Рубиной включает такие имена и фамилии, как Агнешка,
Владек, Янка, пани Стефа, Катажынка, Кася, Ракицка, Хэнрык, Бася
Желеньская, Желеньский, Тадеуш Вильковский, Вильковска Яна, Людвика (она же Висенька, Вися), Ирэна, Леокадия, Станислав Кобрыньский, Казимир (в составе русифицированной антропонимической
формулы с отчеством: Казимир Матвеевич), Пётрэк, пан Лущ, Куба и
др. В «Синдроме Петрушки» употребляются прецедентные польские
имена: Мицкевич (в качестве знаменитого львовского памятника —
«бронзовый Мицкевич»), Костюшко (как компонент урбанонима — в
названии городского парка: «парк Костюшко»), Ягелло (как название
куклы — «кукла короля Ягеллы»), Иезус (сакральное имя). Топографию Львова передают соответствующие хоронимы (названия улиц) и
других городских объектов (улица Пекарская, Саксаганского, Лычаковское кладбище, гора Высоки Замэк и др.). Присутствует в романе
данный без перевода урбаноним «Забавки» (польск. zabawki «игрушки»): «А на рубль он купил два “тошнотика” по четыре копейки — так
называли здесь пирожки с требухой, очень вкусные, а вовсе не тошнотные; и еще купил в магазине “Забавки” сразу две коробки пластилина, чтоб надолго хватило». Полонизм fala «волна» входит в состав
идеонима — названия радиопередачи («Веселая львовская фаля»):
«…в исполнении Щепка и Тонька, популярных радиосатириков с довоенной “Веселой львовской фали”»14. Другой польский идеоним —
название танго по его первой строчке: «Тылько едно слово, кохам…»
�Полонизмы в произведениях Дины Рубиной
39
(«Только одно слово, я люблю»). Довоенную польскую ауру Львова
передает также приведение строчки еще из одной песни из репертуара
львовян Щепка и Тонька: «Бо гдыбым се кедысь уродзич мял знув —
то ты-илько вэ Львове» (в сноске дан перевод: «И если б я где-то еще
мог родиться — так то-о-лько во Львове»).
Лексико-семантические группы польской апеллятивной субстантивной лексики, функционирующей в прозе Д. Рубиной, совпадают с классами, традиционно используемыми в произведениях русской
литературы. Перечислим основные из них:
1. Номинации лиц:
— по социальному положению: пан, пани (употребляются также в
прономинальной функции — в качестве аналога русскому обращению
«Вы», например: «как же пан попал в Венецию?»15);
— по качественному признаку: быдло «скотина» (здесь по отношению
к лицу), врогов (род. п. мн. ч. с русифицированной флексией -ов —
польск. -ów от польск. wróg «враг»: «у Марио там давно были двух
врогов»16), глупчэ (вокатив от польск. głupiec «дурак, глупец»: «Не
твое дело, глупчэ»17), лялечка «куколка» (лексема употреблена в переносном значении по отношению к красивой, как куколка, девочке:
«девочка по прóсту лялечка, пани»18), майстэр «мастер» (лексема относится также к номинациям по профессиональному признаку), млодец «молодец»;
— по внешнему признаку: цивиле «(одетые) в штатское»;
— по национальности: жидэк «еврейчик» («то быв жидэк»19);
— названия родственников и наименования по возрастному признаку: дзецко «ребенок», дзядэк «дедушка», матка «мама», ойтец «отец»,
прапрадзядэк «прапрадедушка», сёстшичка / сиострычка «сестричка», хвопчик «мальчик» (примеры функционирования лексем в тексте: «Матко, гдже дцезко?»20).
2. Названия архитектурных сооружений и стилей, построек и их
частей, помещений и учебных заведений: брама «ворота», кавалерка «однокомнатная квартира», кавярня «кофейня», старый полонизм
костел, политэхника «политехнический интитут», сецессия (польск.
secesja с одним s) «модерн».
�40
Наталия Ананьева
3. Названия временных периодов: вакацье «каникулы», вечур «вечер»,
дзень народзеня «день рождения», род. п. мн. ч. лят «лет», пулноц
«полночь», ранэк «утро», хвилечка «минуточка» (примеры из речи Казимира Матвеевича: «Мне вот приятно, что ты цалы вечур рассматривал моих детишек»; «И ему много тысёнц лят»21).
4. Названия природных объектов, растений и их частей, например, бадыли «стебли», жемя «земля» («Все ему дозволено: и с неба, и из-под
жеми»22).
5. Номинации напитков, например: кава «кофе».
6. Названия сосудов и материала, из которого они изготовлены, например: порцеляна «фарфор», филижанка «чашка» / филижаночка
«чашечка» — с русифицированным суффиксом -очк- (-а) — польск.
filiżaneczka).
7. Номинации частей тела. Например, влосы «волосы», рэнька «рука»,
сэрцэ «сердце»(ср.: «…и кукла называется “верховая”, она же ест
“перчаточная”, потому ее “на рэньку как перчатку надевают”»23).
8. Названия плавучих средств: крыпа «баржа» (ср.: «Так вот вам причина, с чего я здесь вожу эту холерна крыпа»24).
9. Номинации денежных знаков, например: пенёнзы — польск. pieniądze «деньги»).
10. Названия отдельных артефактов, например: лялька «кукла»
(«Лялек-то моих рассмотрел как следует?»25).
11. Названия, определяющие идиом: гвара «говор, диалект».
12. Номинации абстрактных понятий: милощьчь «любовь», справа
«дело», час «время».
Наряду с названиями лиц по качественному признаку, нередко
имеющими оценочный характер (ср. вышеуказанные быдло, глупец
и млодец), аксиологический аспект может быть выражен и в других
классах существительных. Ср. полонизм глупство «ерунда, чушь,
глупость» (не как свойство, а как нечто глупое).
Из польских морфологических форм существительных наиболее
характерны формы утраченного в русском языке и сохранившегося в
�Полонизмы в произведениях Дины Рубиной
41
польском вокатива: пане офицеже, сынку, Пётрусю, глупче. При характеристике языка Баси, которая говорила «с ярко выраженным, тягучим львовским акцентом», приводится форма местного падежа ед. ч.
топонима Львов с характерным для юго-восточных Кресов вследствие
качественной редукции безударного е (так называемого «иканья»)
окончанием: вэ Львови. Ср. также в дому «дома». Попытки передать
лично-мужскую форму субстантива и относящегося к нему числительного представлены в «Глади озера в пасмурной мгле»: «у Марио
там давно были двух врогов»26. Однако правила польского языка требуют употребления со словосочетанием двух врогов претеритальной
формы ср. рода (było dwóch wrogów). С формой были употреблялась
бы форма им. п. мн. ч. И вообще, в корректной польской конструкции
следовало бы употребить не глагол быть, а глагол иметь (Mario miał
dwóch wrogów).
В качестве полонизмов широко употребляются также слова
иной частеречной принадлежности: прилагательные, глаголы, наречия, числительные, союзы, предлоги, местоимения, частицы. Так, в
следующем за речью нарратора высказывании Баси представлен ряд
адъективов: «Бася подрубала простыню и поглядывала на мальчика с
умиленной любовью: вон как славно он играет сам с собою, яке милэ,
не капришнэ, не роспэсчонэ дзецко». В сноске дан перевод: «Какой
милый, не капризный, не избалованный ребенок (польск.)». Ср. также
адъективы из другой цитаты Баси: «Не трачь на мне часу и пенёнзы, Пётрусю, бо естешь таки бедны и таки бардзо заенты!» (в сноске с пометой польск. дан перевод: «Не трать на меня время и деньги,
Пётрусю, ты такой бедный и такой занятой!»). Ср. прилагательные из
прямой речи Каземира Матвеевича: «Не ест живы и не ест мартвы!»;
«вельки Боже ж…»; «Им движут другие силы, нелюдске. Потому он и
говорит не людским голосом» (т. е. нечеловеческим, дано без перевода
и пояснений)27.
Прилагательные в качестве определений к существительным
(обычно) и личным местоимениям (редко) представлены также в
польских «вкраплениях» в речи поляка-гондольера из рассказа
«Гладь озера в пасмурной мгле»: циóнжка справа «тяжелое дело»,
шановна пани «уважаемая госпожа», млодша сиострычка (дважды) «младшая сестричка», холерна крыпа (дважды) «холерная баржа», вьелька милощьчь «великая / большая любовь», такой упарты!
(польск. uparty «упрямый»). Польское прилагательное в речи поляка-гондольера может сочетаться с русским существительным: «Это
ционжка нагрузка, пани, скажу вам честно»28. Часть употребленных
полонизмов-адъективов относится к местоименным прилагатель-
�42
Наталия Ананьева
ным: твуй «твой» («твуй ойтец»), то «это», муй («слодкий муй»),
яки, яка (ср. у Казимира Матвеевича в сочетании с русским субстантивом — «яка рожа»), ктура, сам (ср. у Баси «спацеровать самéму»).
В адъективах-полонизмах представлены, как правило, в соответствии с закономерностями польского языка, стяженные формы (ср.
мартвы, нелюдске, живы, упарты, шановна, вьелька, холерна, млодша, млода, ционжка, яки, яка, ктура), хотя отмечаются также формы
с сочетанием польского неполногласия в корне с русской нестяженной флексией (ср. слодкий «сладкий»). Ср. также старый полонизм
вельможный, употребленный матерью Бориса Горелика, врачом Верой Леопольдовной («каждый год халат шьет, вельможный пан»)29.
Отмечена также польская флексия местного п. ед. ч. -ej (эй) в местоименном прилагательном ктура («на ктурэй»).
Местоимения-полонизмы относятся к различным разрядам: вопросительное цо «что» («ты цо, ты цо?!»30), неопределенное цось, отрицательные никт, ниц (ср. в песне: «ниц никому не мувили»), польские формы личных местоимений (ср. на мне, т. е. польск. na mnie «на
меня»; те, т. е. польск cię «тебя»; для тéбе, т. е. польск. dla ciebie «для
тебя» и др.).
Встречаются в произведениях Д. Рубиной и полонизмы-союзы
(як «как», але «но», жэбы «чтобы», же — польск. żе «что»), и полонизмы-частицы (например, отрицательная, не «нет», указательная ото
«вот», возвратная се / сэнь «się»; запись сэнь довольно часто отмечается в произведениях русских авторов, например, у В. Крестовского
и Ф. Достоевского). Отмечен также польский предлог зэ (польск. ze),
которому в русском соответствует из (пример: «— Прошем пана! —
отозвался я. — То пан зэ Львова?!»31). Ср. польский вокалический элемент э в варианте предлога в: вэ Львове (русск. во).
Числительные-полонизмы — словарная форма сэдэмнащэ (с некорректным сэ в инициале, польск. siedemnaście) «семнадцать» (слова
Яни: «мам сэдэмнащэ лят»), личная форма двай («двай цивиле» – из
песни), числительное едно (также из песни – названия довоенного
танго — пример см. выше). О форме двух врогов мы уже упоминали. Числительное-существительное тысёнц «тысяча» употреблено
в речи Каземира Матвеевича в словарной форме, хотя по контексту
здесь следовало бы употребить форму род. п. мн. ч. тысенцы: «И ему
много тысёнц лят»32. Использование словарной формы тысёнц, близкой русской форме род. п. мн. ч. тысяч, делает текст более понятным
русскоязычному читателю.
Употребляются Д. Рубиной и разнообразные наречия: времени (дзисяй «сегодня», кедысь «когда-то»), места (гдже «где»), образа
�Полонизмы в произведениях Дины Рубиной
43
действия (по прóсту «просто», ционжко — польск. ciężko «тяжело»),
степени (бардзо «очень»), ограничительное наречие / частица тылько
«только» и др.
Многообразна семантика польских глаголов, употребленных
Д. Рубиной: глаголы обладания и приобретения (мам «имею», купуй «приобретай, покупай»), экзистенциальный глагол «быть» (то
ест «это есть», бендзе «будем»), глаголы делания (ср. Цось ты нароб’илеш?! — «Что ты наделал?!»), глаголы чувств и эмоций (кохам
«люблю», пшестрашился «испугался»), деструктивные глаголы
(тебе забийом «тебя убьют», не трачь на мне часу «не трать / теряй на меня времени»), глаголы памяти и мыслительной деятельности (тысь мышлял, же она бензе для тебе сёстшичка, памента
«помнит»33), глаголы речи и иного звукопроявления (повем «скажу»,
прошэ «прошу», не мувили «не говорили», свишче «свистит»), глаголы волеизъявления (хсешь «хочешь»), глаголы перемещения и движения (учекай «убегай, беги», на цо сэрцэ почёнгнэ «к чему сердце
потянется», спацеровать «гулять»), глаголы появления / возникновения / зарождения чего-л. (се зьявили «появились», се уродзи «родиться») и др. Глаголы функционируют в текстах во всех временных
формах (особое многообразие представлено для экзистенциального
глагола «быть») и наклонениях. Иногда некорректно употреблена
буква э (например, в 3 л. ед. ч. презенса почёнгнэ, где в польском
представлен альтернант нь — pociągnie, т. е. следовало бы в транскрипции дать почёнгне).
Широко используются Д. Рубиной клише и идиоматические выражения, особенно экспрессивного и коллоквиального характера: ср.
ругательства холера ясна, пся крев, шляг бы те трафил «разрази тебя
гром» (букв. «хватил бы тебя удар»), восклицание матка боска, приветствие добры ранэк «доброе утро», формулу прощания до зобаченя
«до свидания», обращения проше / прошэ / прошен пана / прошэ бардзо, нейтральное клише збег околичности «стечение обстоятельств»,
рифмованное словосочетание, употребляемое Басей Желеньской в качестве названия слабой заварки чая, — сики свентей Вероники (т. е.
«моча св. Вероники»).
Из синтаксических особенностей представлены традиционные польские конструкции указания направления «до + род. п.»,
им. п. ед. ч. прилагательного в функции «orzecznika» именной части составного именного сказуемого (не ест живы, не ест мартвы).
Заметим, что нет ни одного примера с творительным падежом одиночного существительного или в сочетании с адъективным определением в характерной для польского языка функции «orzecznika»,
�44
Наталия Ананьева
приведены формы только им. п. ед. ч. (естэм майстэр, естэм одинокий старик).
В произведених Д. Рубиной используются традиционные для
русских писателей средства «русификации» полонизма: сохранение
ь после шипящих во 2 л. ед. ч. настоящего времени глаголов (хсешь
«хочешь»), окончание род. п. мн. ч. субстантивов -ов (польск. -ów),
употребление в вин. п. ед. ч. существительных женского рода на -а
и прилагательных с окончанием -у (польск. -ę) — праву рэньку (иначе в песне: вин. п. ед. ч. — в мордэ). Представлено также отличное
от польского сохранение «беглого» гласного в косвенных падежах в
существительных на -ek: дзядэку (дат. п. ед. ч), Пётрэку (вокатив). Ср.
аналогично в русском языке: Герек — Гереку.
Надо сказать, что тема восточных Кресов (как северо-восточных
с их культурным центром Вильно, так и юго-восточных, символом которых является описываемый в романе Львов), представляемых как
«утраченный рай», «потерянная Аркадия» или «затонувшая Атлантида», в настоящее время чрезвычайно популярна в Польше. Исследуется язык Кресов (ср. фундаментальные работы З. Курц, посвященные обеим региональным культурным разновидностям «польщизны
кресовой»34), издаются дневники и автобиографические произведения
«кресовцев», переселившихся после Второй мировой войны в Польшу,
выходят издания, описывающие быт и обычаи «кресовой» шляхты35,
штудии и альбомы с изображением памятников польской культуры на
Кресах36. Зеленогурская исследовательница языка и культуры Кресов
К. Венгоровска в одной из своих последних работ выделяет 11 причин,
по которым «кресовая» проблематика столь занимает польских авторов37. Среди них — огромная роль Кресов в формировании общепольской культуры. Достаточно вспомнить о связях с Кресами значительного числа выдающихся польских писателей: М. Рея, А. Мицкевича,
Ю. Словацкого, З. Красиньского, А. Фредро, Э. Ожешко, В. Одоевского, Ч. Милоша, С. Лема.
Таким образом, роман Д. Рубиной «Синдром Петрушки», в котором во вторичной (художественной) функции используются элементы
львовского «балака», можно в определенной степени отнести к актуальному («кресологическому») направлению в современной польской
культурологии и лингвистике.
Пр имеч а н и я
1
Рубина Д. Белая голубка Кордовы. М., 2009. С. 447, 445, 447–448.
�Полонизмы в произведениях Дины Рубиной
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
45
Рубина Д. Под знаком карнавала // Рубина Д. «…Их бин нервосо!..».
М., 2008. С. 39.
Рубина Д. Гладь озера в пасмурной мгле // Рубина Д. Фарфоровые
затеи. М., 2008. С. 270.
Рубина Д. Синдром Петрушки. М., 2010. С. 34, 35.
Там же. С. 118, 115–116.
Там же. С. 111.
Там же. С. 151.
Там же. С. 35.
Рубина Д. Гладь озера в пасмурной мгле. С. 270.
Рубина Д. Синдром Петрушки. С. 36, 38.
Там же. С. 34.
Там же. С. 37.
Там же. С. 145, 226, 115, 135.
Там же. С. 147–148.
Рубина Д. Гладь озера в пасмурной мгле. С. 270.
Там же. С. 271.
Рубина Д. Синдром Петрушки. С. 237.
Рубина Д. Гладь озера в пасмурной мгле. С. 271.
Рубина Д. Синдром Петрушки. С. 348.
Там же. С. 347.
Там же. С. 116, 118.
Там же. С. 118.
Там же. С. 117.
Рубина Д. Гладь озера в пасмурной мгле. С. 271.
Рубина Д. Синдром Петрушки. С. 115.
Рубина Д. Гладь озера в пасмурной мгле. С. 271.
Рубина Д. Синдром Петрушки. С. 148, 346, 118, 119.
Рубина Д. Гладь озера в пасмурной мгле. С. 270–272.
Рубина Д. Синдром Петрушки. С. 309.
Там же. С. 118.
Там же. С. 223.
Там же. С. 238, 118.
Там же. С. 149, 346, 151.
Kurzowa Z. Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do
1939 roku. Warszawa; Kraków, 1985; Kurzowa Z. Język polski Wileńszczyzny i kresów północno- wschodnich XVI–XX w. Warszawa; Kraków,
1993.
Sawaniewska-Mochowa Z., Zielińska A. Dziedzictwo kultury szlacheckiej na Kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej. Warszawa,
2012.
�46
Наталия Ананьева
36
Pałace i dwory Kresów. R. Dzięciołowski i A. Wąsowski z tekstami T. S.
Jaroszewskiego. Warszawa, 2005.
Węgorowska K. Złoczowskie peregrynacje. Choszcznó; Warszawa; Zielona Góra, 2012. S. 12–16.
37
�Вера Андрейчук
(Калининград)
Специфика
коммуникации
в концлагерной прозе
Т. Боровского
Андрейчук Вера Геннадьевна — аспирантка, Россия,
Калининград, Балтийский
федеральный университет
им. И. Канта
Статья посвящена краткому анализу особенностей коммуникативного пространства концлагерных рассказов Тадеуша Боровского (1922–1951) — важнейшего
представителя польской военной литературы, которая интересовала В. А. Хорева на
протяжении всей жизни. Особое внимание
уделено приемам, при помощи которых писателю удается максимально отразить особенности коммуникации в концлагерной
действительности, а также отличительным
чертам представленного коммуникативного пространства в сравнении с концепцией,
общепринятой для польской концлагерной
литературы середины XX в.
Громкую известность Боровскому, бывшему узнику Освенцима и Дахау,
принесли сборники новелл «Прощание с
Марией» и «Каменный мир», доминантой
которых стала концлагерная тема. Для концлагерных рассказов Боровского характерны шокирующая прямота, новаторский образ главного героя — «типичного лагерника», проблематика ответственности самих
заключенных за существование лагерей,
экспонирование тех выходящих за рамки
привычной морали сторон концлагерной
жизни, о которых зачастую умалчивали
другие писатели.
Концлагерные рассказы Т. Боровского — «Один день в Гармензе», «А люди все
�48
Вера Андрейчук
шли», «Пожалуйте в газовую камеру» и «Смерть повстанца» — были
опубликованы в 1946–1947 гг. и стали одними из первых художественных описаний «машины смерти» и ее жертв. Коммуникативное пространство этих рассказов принадлежит так называемой «концлагерной действительности», которая, по мнению Анджея Вернера, являлась доведенной до крайности моделью тоталитарного государства и
одновременно имела характер целого мира, единственной реальности,
детерминирующей физическое и моральное существование заключенных. Особенности этого мира нашли свое отражение и в коммуникативном пространстве рассказов.
Б. М. Гаспаров определял коммуникативное пространство как целостную коммуникативную среду, в которую погружаются говорящие,
складывающуюся из взаимодействия различных аспектов, таких как
коммуникативные намерения автора, взаимодействие автора и адресатов, общие идеологические черты, жанровые и стилевые черты (как
сообщения, так и ситуации, в которой оно существует), ассоциации с
предыдущим опытом и др.1 В работе «Язык, память, образ. Лингвистика
языкового существования» он указывал на то, что речевая деятельность
человека протекает с опорой на множество прецедентов, отложившихся
в его языковом опыте, отмечал важность фактора уровня коммуникативной компетенции2. Концентрационный лагерь, однако, являлся средой
жестокой борьбы за выживание, диктующей новые морально-этические
нормы, где упомянутый «языковой опыт» чаще всего не только не помогал в организации коммуникативной деятельности, но даже вредил.
Одним из ключевых факторов при создании гармоничного коммуникативного пространства является, по мнению В. З. Демьянкова, ориентация коммуникантов на диалогическое общение3. В рассказах Боровского диалогичность возможна только в том случае, если адресат и адресант
принадлежат к одной иерархической группе, например, группе заключенных. В этом случае речевое поведение вышестоящего лагерника часто характеризуется высокомерной и командной интонацией, маркерами
его являются вульгаризмы, оскорбительные характеристики: «Camerade,
filos, compris, греко бандито?», «Ну и подыхайте, раз вы старые и боитесь.
Если б я боялся, на мне давно уже трава бы росла!»4
В том случае, если один из коммуникантов (обычно адресант)
является эсэсовцем, а второй — адресат — принадлежит к лагерникам, диалогичность часто практически невозможна и для достижения
коммуникативной цели необязательна («Тот, кто возьмет золото или
еще что-нибудь, кроме еды, будет расстрелян как похититель государственной собственности. Понятно? Verstanden? — Jawohl! — нестройно откликнулись голоса отдельных добровольцев»5).
�Специфика коммуникации в концлагерной прозе Т. Боровского
49
Для коммуникативного пространства концлагерных рассказов Т. Боровского характерны деловые и рабочие отношения (торговля, мена, организация, работа в команде), отношения охранника и заключенного, конфликтные отношения и отношения соперничества. Дружеские или любовные отношения в основном заменяются относительно доверительными деловыми (партнерскими) связями. Маркерами такой коммуникации служат
личные обращения, сложноподчиненные и сложносочиненные конструкции, эпитеты. Коммуникация детерминирована существующей обстановкой и проблемами выживания, нередко обсуждаемыми в крайне циничном ключе: «А может, уже не будет эшелонов? — бросил я насмешливо. —
Видишь, какие поблажки в лагере: посылки не ограничены, бить нельзя…
наконец, черт возьми, людей не хватит. — …Не болтал бы глупостей, не
может не хватить людей, иначе бы мы тут все передохли»6.
В коммуникативном пространстве текстов преобладают коммуникаты информационно-коммуникативного характера, затем регулятивно-коммуникативного, и лишь на третьем месте — аффективно-коммуникативного. Однако есть и четвертая функция, возведенная в ранг одной из приоритетных. В рассказе «Смерть повстанца»
присутствует ее определение: «искусство вести разговор, и вести его
целый день, было почти столь же важно, как еда… терялось ощущение времени, и не было повода предаваться вредным мечтам о еде»7.
Сам факт коммуникации становится одним из способов выживания.
Коммуникативное поведение подразделяется на речевое и неречевое. А. К. Михальская считает, что именно речевая составляющая
является структурирующей, организует все остальное8. Но коммуникативные ситуации концлагерной действительности характеризуются
повышенным значением визуальной коммуникации. Вербальная коммуникация, не подкрепленная конвенциональной визуальной, может
потерять свое значение и стать небезопасной («Когда обращаешься
к эсэсовцу, обязан шапку снять с башки и опустить руки»9 [Курсив
мой. — В. А.]). Выпрямленная фигура с руками по швам – один из самых распространенных коммуникатов, маркер подчиненного положения. В качестве примера сужения значения визуального коммуниката
по сравнению с комплексом его долагерных значений можно привести
взгляд в глаза, являющийся в первую очередь маркером агрессии, а
не доверия. Улыбка как осознанно выбранное визуальное поведение в
рассказах встречается редко и, в основном, свидетельствует о незнании
правил лагерной коммуникации, а адресатом, стоящим выше в лагерной иерархии, воспринимается как насмешка и повод для агрессии.
Для визуальной коммуникации важен визуальный облик говорящего, участвующий в создании у коммуникантов образов-«ярлыков»,
�50
Вера Андрейчук
способствующих формированию языкового поведения. В контексте
коммуникативного пространства лагерной прозы Т. Боровского можно
выделить такие легко узнаваемые «ярлыки», как «хефтлинги» (обычные
заключенные), «мусульмане», «капо», «эсэсовцы» низшего или среднего
ранга и проч. О таких очевидных маркерах образа, как форма (полосатые
робы заключенных, мундиры СС) и знаки отличия (так называемые «винкели» — треугольники, нарукавные повязки, нашивки) Боровский пишет
крайне редко, для него этот естественный элемент лагеря не требует упоминания. Важны такие маркеры, как визуально различимое физическое
состояние, худоба, болезни кожи, означающие, что заключенный неопытен, слаб, находится в подчиненном и зависимом положении. Качественная одежда, нелагерная обувь, наличие предметов личного пользования
— маркер здорового, опытного, находчивого лагерника. «Подошел конвоир, молча приглядывается… — Откуда у тебя такие красивые башмаки? — Башмаки у меня в самом деле красивые: полуботинки на двойной,
ручной работы, подошве, по венгерской моде затейливо изукрашенные
дырочками. Дружки принесли с платформы. — В лагере выдали вместе
с рубашкой, — отвечаю я, указывая на шелковую рубашку, за которую
пришлось отдать почти целое кило помидоров»10. Дальнейший диалог
ведется практически на равных. В упомянутой сцене кроме Тадека присутствуют еще двое заключенных, но только в контакте с лагерником,
которого охранник, исходя из его внешнего вида, безошибочно определяет как авторитетного и, по лагерным меркам, состоятельного, возможно
полноценное общение, в котором коммуниканты находятся на равных.
Особенные условия формирования рассматриваемого пространства привели к изменению и расширению системы вербального языка.
Самым ярким явлением коммуникативного пространства концлагерных
рассказов Боровского является «лагерное эсперанто». Эсперанто представляет собой смесь часто искаженных или употребляемых грамматически неправильно выражений из наиболее распространенных в лагере
языков (в основном, польский, французский, итальянский, безусловно,
немецкий, иногда русский): «Was wir arbeiten, — спрашивают они. —
Niks. Transport kommen, alles Krematorium, compris? – Alles verstehen»11.
Речь героев характеризуется большим количеством германизмов.
Боровский не ограничивается названиями частей лагеря или чинами эсэсовцев («FKL», «untersharfhürer», «kommandoführer» и проч.). Значительно больший интерес представляют заимствования, функционирующие
в языке лагерников на правах родного главному герою польского языка. К таким относятся: meldung «рапорт», antreten (от нем. «строиться» в
конструкциях типа idziemy na antreten «идем на построение»), postenketta
(от нем. Postenkette «линия стражи»), wachman «охранник» (в рассказах
�Специфика коммуникации в концлагерной прозе Т. Боровского
51
присутствует также образованное по правилам польского языка слово
wachmanka «охранница») и проч. В речи польскоязычных героев присутствуют и германизмы, не описывающие элементы лагерной действительности. Появление в речи слов ja, alles, herr даже в разговоре со «своими»
свидетельствует о быстрой языковой ассимиляции, которая являлась
одним из элементов врастания в концлагерную действительность. В
речи эсэсовцев полонизмы тоже появляются, хотя и редко: «Halt, halt, du,
Warschauer! — и через минуту неожиданно по-польски: — Стой, стой!»12.
В коммуникативном пространстве концлагеря велика роль эвфемизмов, способствующих дистанцированию от самых страшных
явлений лагерной жизни. Наиболее распространен такой пример, как
komin («komin ich nie minie», «pójdziesz do komina») в значении «крематорий» (нейтр. польск. «труба», «дымоход»). Смысловому изменению подверглись значения или окраска нейтральных слов muzułmanin
(нейтр. польск. «мусульманин»), organizować (нейтр. польск. «организовать»), cywil (нейтр. польск. «гражданское лицо») и др.
Еще одну группу новых элементов составляют польские названия, данные заключенными элементам концлагерного быта, например, канада (группа, помогающая при разгрузке эшелонов, и имевшая
доступ к всевозможным материальным благам), персидский рынок
(название нового женского лагеря, рынок — из-за шумных толп женщин, персидский — из-за ярких летних платьев) и проч.
Набор речевых стилей, присутствующих в коммуникативном
пространстве лагерных рассказов Боровского, небогат. В парах «СС —
лагерники» это военизированный язык приказов: инфинитивы («очистить» — rein, «стоять» — halt и проч.), повелительное наклонение (gib
hier — «дай сюда»), лаконичность, военизированные формулы ответа
( jawohl, tak jest и проч.). В остальном это разговорный язык, характеризующийся обилием жаргонизмов, эмоционально окрашенных слов
(bujasz — «брешешь», Żydki, Ruskie — негативно окрашенные наименования национальностей «русские», «евреи», zdychać – «сдыхать», to jazda — «ну, айда» и проч.). Обсценная лексика встречается крайне редко,
что лишний раз подчеркивает художественность текста — автор не понаслышке знал об использовании таковой в лагерной речи, но не считал
это чертой, важной для отражения лагерного языка.
Г. Г. Почепцов отмечает, что литературные тексты фиксируют в
социальной памяти некоторые мифологические сообщения, являясь
не столько отражением самой действительности, сколько отражением
представления людей о ней, некоего желаемого образа13. Коммуникативное пространство произведений З. Коссак-Щуцкой, Ст. Пигоня,
Е. Анджеевского (одним из первых профессиональных писателей об-
�52
Вера Андрейчук
ратившегося в своем творчестве к тематике концентрационных лагерей, причем не имея личного опыта пребывания в концлагере) связано
с долагерным прошлым и мало детерминировано концлагерной действительностью. Тематика памяти, дома, мира вне лагеря, дискуссии
о науке, культуре, искусстве занимают большую часть коммуникативного процесса. Лагерный язык либо совершенно вынесен за рамки повествования, либо приведен с многочисленными разъяснениями
в качестве «интересного факта» и не функционирует в живой речи.
Наиболее значимыми личностными параметрами, определяющими
характер коммуникации, чаще всего являются возраст, религиозная и
национальная принадлежность, социальная позиция вне лагеря.
Тадеуш Боровский в своих концлагерных рассказах создал антимиф. Личностными параметрами, наиболее значимыми для коммуникативной ситуации лагерной прозы Боровского, являются социальная
позиция внутри лагеря, наличие так называемой «функции» и возможностей. Ни возраст, ни национальная принадлежность, ни социальный статус вне лагеря не имеют значения.
Условия формирования коммуникативного пространства определили малую вариативность эмоций и тематик. Функции и значение
коммуникации в рассказах в основном сводится к передаче информации или же функции времяпрепровождения. При этом особое значение имеет выбор соответствующего ситуации коммуникативного поведения с акцентом на неречевую коммуникацию.
Вербальная составляющая, по сравнению с долагерным периодом жизни коммуникантов (прежде всего, конечно, лагерников),
подвержена значительным изменениям.
В целом, коммуникативное пространство концлагерной действительности, созданной Тадеушем Боровским, беспрецедентно, замкнуто, детерминировано нормами концлагерной действительности и не
опирается на прошлое.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996.
Там же.
Демьянков В. З. Тайна диалога (Введение) // Диалог: Теоретические проблемы и методы исследования. М., 1992.
Боровский Т. Прощание с Марией [Электронный ресурс]. URL: http://
www.belousenko.com/books/foreign/borowski_maria.htm.
�Специфика коммуникации в концлагерной прозе Т. Боровского
5
6
7
8
9
10
11
12
13
53
Там же.
Там же.
Там же.
Михальская А. К. О речевом поведении политиков // Независимая газета. М., 1999, 3 дек.
Боровский Т. Указ. соч.
Там же.
Там же.
Там же.
Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М.; Киев, 2001.
�Польские контексты
литовского модернизма
Литовская литература на всех этапах
своей истории была тесно связана с польской
культурой. Уникальность литовско-польских
литературных связей заключается в том, что
в их структуре можно обозначить несколько
важнейших доминант, одной из которых является модернизм. Польский модернизм, как
известно, в своих устойчивых формах функционировал в художественно-эстетическом
пространстве «Молодой Польши». Рубеж
ХIХ–ХХ вв. в развитии литературы Литвы
можно обозначить как гетерогенический период: зрелый романтизм соседствовал с классическим реалистическим направлением,
появлялись робкие художественные эксперименты в духе нового времени.
Становление литовского модернизма в
полноте эстетического разнообразия сдерживалось «тяжестью» воздействия на литературный процесс майронисовской школы. Майронис (1862–1932) — это патриарх
национальной литературы. Для творчества
писателя и его последователей характерна
закрытая поэтика классического типа, Майронис призывал к изучению и отображению
в культуре разнообразных форм проявления
литовских национальных ферментов, что
находило выражение во внешних художественных атрибутах, топике, описаниях характерного для Литвы пейзажа с украшенными резьбой фигурками скорбного Христа.
Андрей Баранов
(Вильнюс)
Баранов Андрей Иванович —
Dr. hab., профессор, Литва,
Вильнюс, Литовский педагогический университет
�Польские контексты литовского модернизма
55
Одной из важнейших заслуг писателя следует считать закрепление
в национальной лирике силлабической системы стихосложения, которая
создавала потенциальные возможности для перцепции западноевропейской, в том числе и польской, поэзии в литовской литературе, установлению живого диалога между культурами. Но суть в том, что школа Майрониса отвергала эстетические эксперименты в духе «Молодой Польши».
Специфика литовско-польских литературных отношений рубежа
ХIХ–ХХ столетий явно просматривается на внешнем уровне рецепции и в такой их форме, как перевод. В переводах на литовский язык,
по уже установившейся традиции, доминировал Адам Мицкевич. Необычайно популярным в Литве было творчество Марии Конопницкой1 —собственно на рубеже веков появляются принадлежащие перу
Винцаса Кудирки конгениальные, по сути, переводы ее произведений.
Поэзия «Молодой Польши» не нашла себе соответствующего места в
переводах на литовский язык. Казимеж Тетмайер был известен только как автор малых повествовательных жанров. В 1905 г. публикуются рассказы Стефана Жеромского «Искушение» и «Дурное предчувствие», а роман «История греха» переводится на литовский язык
только в 1935 г., через двадцать семь лет после появления оригинала.
В местной литературной критике не было опубликовано ни одной рецензии на данное произведение. Переводы произведений Владислава
Станислава Реймонта появляются только лишь в межвоенный период.
Шедевр польской литературы — «Мужики» — был переведен в 1937 г.
Автором наиболее аналитической литературоведческой работы об
этом романе был известный писатель Винцас Миколайтис-Путинас2.
И еще один известный перевод: в 1933 г. еженедельник «Новая Ромува» («Naujoji Romuva») публикует роман Станислава Пшибышевского
«Андрогина». Что касается драматургии, то на литовской сцене долгое время популярностью пользовались пьесы Михала Балуцкого.
Важное значение для рецепции польской литературы в Литве имеет
имагологический аспект. В тогдашнем литовском обществе и в культурных кругах активизировался стереотип поляка-развратника, афериста,
предателя, самонадеянного гордеца. Однако традиционно существовал
и иной, глубинный уровень восприятия польской культуры, связанный с
элитарным эстетическим кругом. Польский язык был широко распространен среди литовской интеллигенции. Феноменальным в литературе Литвы
следует считать творчество двуязычных (литовско-польских) писателей.
Ярчайшая фигура на раннем этапе литовско-польских литературных связей модернизма — Йозапас Альбинас Гербачяускас (1876–
1944). Его творческая деятельность принесла оригинальные результаты в период расцвета «Молодой Польши». Определяющее значение
�56
Андрей Баранов
для формирования эстетики писателя имели его личные контакты с
польскими модернистами. В 1904 г. он из глухой провинции выезжает
в культурную метрополию — Краков, становится вольным слушателем Ягеллонского университета, вместе с Адомасом Варнасом основывает Литовское научное сообщество под названием «Рута» («Rūta»),
свои критические статьи и эссе помещает в журнале «Museion».
Следует признать, что Гербачяускас стал важнейшим распространителем младопольских идей в Литве, трансформировал конститутивные эстетические формы польского модернизма в условиях литовской
культуры. Определяющее значение для становления литовского модернизма имело его произведение драматического характера «Гимн грузов
Литвы» («Lietuvos griuvėsių himnas»), опубликованное в 1907 г. в краковском журнале «Святой огонь» («Gabija»). Связи с польской литературой
наиболее ощутимы в «проекциях» его творчества на поэтику Станислава
Пшибышевского. Оба писателя занимают место «короля поколения модернистов» в национальных культурах. В эстетике Гербачяускаса находит отражение теория «нагой души» польского писателя.
Пшибышевский был «крестным отцом» польского экспрессионизма. Сходное значение имело творчество Гербачяускаса для литовской литературы. Объединяет обоих авторов модернистская концепция писателя как выразителя абсолютных откровений, имеющих
источник в собственной индивидуальности. Оба экспонировали близкие стилистические приемы в своих эссе: поэтичность, различные риторические, вербальные и эмоциональные формы передачи состояния
экстаза. Исследование поэтики писателей достаточно эффективно на
двух уровнях: на уровне чисто «морфологических» сопоставлений в
системе межлитературных конвергенций, а также в контексте параллелей, мотивированных контактами. Отголоски эстетики Пшибышевского, его «Синагоги Сатаны» прослеживаются и в позднем драматическом произведении Гербачяускаса «Герофант Иоганес» («Hierofant
Johanes», 1922), а также в его поэтической прозе — «XIII кладбищенской симфонии» («XIII kapinynų simfonija», 1925). Сопоставление оригинальных текстов польского и литовского писателей может быть реализовано в таких категориях новейшей компаративистики, как пристальное чтение (czytanie z bliska) и многоаспектный комментарий3.
Заслуживает внимания замысел Гербачяускаса о создании в Литве театра, находящегося в коммуникативных отношениях с поэтикой
Станислава Выспяньского. Значимую роль в модернистском насыщении литературы Литвы сыграл его манифест «Терновый венец» («Erškėčių vainikas», 1908), программное произведение, содержащее два
кардинальных постулата: открытость к воздействию культуры Запад-
�Польские контексты литовского модернизма
57
ной Европы и необходимость исследования скрытой в фольклоре литовской ментальности, передающей изначальные ценности души народа. Очевидно, что в данном тексте содержится открытая полемика с
майронисовской школой, для которой, как подчеркивал Гербачяускас,
было характерно пассивное восхищение литовской культурой, выступающее в качестве так называемого «исторического костюма».
Суждения о польской культуре — эмоциональные, субъективно
трансформированные, с элементами эклектизма, изложены в его поздних работах на польском языке «И не вводи нас во искушение» («I nie
wódź nas na pokuszenie», 1911), «Аминь» («Amen», 1914). Выступающий
в них дискурс охватывает актуальные проблемы назначения культуры, философии, религии, акцентируются христианские ценности. Настоящее искусство для Гербачяускаса — это сакральное отображение
«томления души». Идеал культуры видится им в романтизме, а истинным мистиком выступает Мицкевич. Мистика Словацкого трактуется
как творческая сила, где первенство отдается фантазии и болтливому
сентиментализму. Из современных писателей Гербачяускас не жалует
Жеромского, в оценке его творчества опирается на концепцию романтического историзма, а реализм автора «Истории греха» считает жестоким, не оставляющим места для молитвы и всепрощения.
Гербачяускас был связан с польской культурой и как преподаватель Каунасского университета, где в 1925–1932 гг. читал важные
филологические курсы лекций: «Трагедия польского романтизма (А.
Мицкевич — С. Выспяньский)», «Молодая Польша», «Я. Каспрович»,
«Польская литература ХХ века», «Творчество К. Тетмайера», «Мистика творчества С. Пшибышевского», «Литва в польской литературе».
Незаурядной творческой личностью на раннем этапе литовского
модернизма была София Чюрленене-Кимантайте (1886–1958). Самой
большой ее заслугой, как и Гербачяускаса, следует считать перенесение в
Литву модернистских идей из столицы «Молодой Польши» — Кракова, а
доминантой дискурсов Чюрленене становится концепция обновления художественных средств в литовской литературе. В своей книге «В Литве»
(«Lietuvoje», 1910) она опирается на важнейшие теоретические постулаты
автора «Homosapiens», определяющей категорией литературного творчества называется «вдохновение». Литовская литература, в сравнении с
польской, считает Чюрленене, по отношению к складывающейся новой
аксиологической системе большей своей частью представляет собой чтиво для простолюдинов. Она подчеркивает следующую мысль: «Человек
не может топтаться на одном и том же месте и, исчерпывая душу до дна,
ищет нового вдохновения. Гений человечества уже движется в ином направлении, появляется стремление к чему-то более глубокому, чем рас-
�58
Андрей Баранов
крытие психологии человека, к всеобъемлющим символам, к невыразимому, возвышенному, мистическому»4.
Чюрленене не была одинока в том, что искала новое содержание и
иную художественность для литовской литературы в эстетике «Молодой
Польши». Похожие рассуждения о творчестве можно обнаружить в высказываниях Шатриёс Раганы (1877–1930): «Искусство не является безучастным свидетелем человеческих откровений и бесчувственным регистратором фактов. Оно, если вникает в эти факты, то взывает к высшим постижениям, ведет от повседневной бесцветности к солнечному царству идеала,
указывает на то, что не поддается мгновенным оценкам, господствующей
моде, обращается к тому, что представляется неизменным и вечным. Искусство смотрит на окружающий мир через призму вечности»5.
Оригинальным явлением в литовско-польских литературных
связях следует считать наследие Миколаюса Константинаса Чюрлениса (1875–1911), известного художника и композитора. Его творчество
пульсирует и выявляет себя между двумя полюсами — литовским и
польским. Наследие Чюрлениса содержит литературные произведения
на польском языке, которые не получили должного научного комментария. Польский язык присутствует в его отображающей литовскую ментальность живописи, на одной из картин символического цикла «Создание мира» («Pasaulio sutverimas», 1906) написано «Stań się». Живописное творчество Чюрлениса поддается многомерной интерпретации
в перспективе герменевтики в контексте эстетики «Молодой Польши»,
а локальным примером тому может стать картина «Море», где в символике белого и черного лебедя обнаруживаются следы воздействия польского модернизма. В эстетических моделях, выступающих в творчестве
Гербачяускаса, Кимантайте, Чюрлениса, нивелируется метанаррация и
начинает функционировать культурный плюрализм, что является существенным для современного сравнительного литературоведения.
Важно заметить, что на первой волне литовского модернизма, активизировавшегося в хронологических границах «Молодой Польши»,
была создана его эстетическая платформа. Помимо «Габии», где эта
платформа формировалась, следует упомянуть и другие литературные
журналы: «Радуга» («Vaivorykštė»), «Первая борозда» («Pirmas baras»).
Модернистская эстетика функционировала на данном этапе приглушенно, в творчестве отдельных авторов: Мотеюса Густайтиса, Казиса
Пуйды, Игнаса Шейнюса, Оны Плейрите. На рубеже XIX–XX вв. в
Литве кристаллизировался «горизонт ожиданий» для перцепции художественных достижений «Молодой Польши». Этому процессу способствовало становление в конце XIX столетия литовского литературного языка. Естественно, что в данный период литовско-польских
�Польские контексты литовского модернизма
59
литературных связей была выразительна комплементарная функция
польской литературы при активности обеих сторон. Более объемные
модернистские эксперименты в литовской литературе проявились на
позднем этапе ее развития и дали о себе знать в межвоенной Литве.
Представители нового поколения литовской литературы (прежде
всего Антанас Венуолис, Балис Сруога, Винцас Креве-Мицкевичюс,
Фаустас Кирша, Винцас Миколайтис-Путинас) ориентировались на
западноевропейскую эстетику, не игнорировали также и значение
польского модернизма. Интеркультурные филиации, охватывающие
литовскую и польскую литературу модернистского направления, в
сущности не исследованы. Плодотворным методом их изучения может быть интерпретация литературных гомологий, так как поэтику
польских и литовских писателей объединял общий модернистский
источник философии и манифестов Западной Европы. Типологическое сопоставление литовского модернизма с польским выявляет
национальные черты первого: сильно окрашенный лирический подтекст, ослабленный мистицизм, ориентация на дайны.
Литовская модернистская проза «новой волны» отличается определенной «мозаичностью» в художественном использовании различных измов: символизм в качестве стилистической доминанты проявился в творчестве Путинаса, в таких произведениях, как «Rex» (1914), «Вершины и
бездны» («Viršūnės ir gelmės», 1921); импрессионизм выступает в поэтике
Антанаса Вайчюнайтиса. Людас Довиденас экспериментировал в экспрессионизме; Юргис Савицкис объединял экспрессионизм и символизм.
Контекст польской литературы эффективен в монографических
интерпретациях конкретных произведений литовской литературы.
Привлекателен в этом смысле роман Шатриёс Раганы «В старом поместье» («Sename dvare», 1922) содержащий символизм и импрессионизм в духе Жеромского и Реймонта, а также ивашкевичевский мотив
быстротечности существования и бренности бытия.
Литовско-польские модернистские связи могут быть исследованы
в перспективе различных научных категорий, в том числе и гендерных
направлений. Одной из наиболее ярких фигур литовской поэзии была
Саломея Нерис (1904–1945). В современном литературоведении Литвы
акцентируется: «Саломея Нерис оригинально модернизировала стихи.
Особенно открыто писала о личной жизни, представляла целую гамму
женских переживаний. Суть ее стихотворений составляют беспокойная женская искренность, отсутствие боязни в разговоре о себе. Строфы регистрируют впечатления пережитой ситуации. В этом переживании мгновения ощутимы более существенные, чем она сама, проблемы.
Собственно реакция на мгновение придает ему смысл и значение, ведет
�60
Андрей Баранов
к пониманию сущности жизни»6. В лирике Нерис выступают характерные черты поэтики уже постмайронисовского поколения писателей,
что воплотилось в многозначности образов, фрагментарности строфы,
музыкальности стиха, диалогичности и многоголосия поэзии. Нерис,
опираясь на пластичность народного поэтического творчества, создала
образцы новой, высокой литературы европейского ранга.
Легко обнаруживаются связи поэзии Нерис с наследием Марии Павликовской-Ясножевской. Однако уже в литературе «Молодой
Польши» функционирует типологическая параллель ее произведений
и произведений Казимеры Завистовской. Основанием для такого сопоставления могут быть биографические факты, модернистский канон,
зависимость от общей культурной традиции, в частности, французского символизма и творчества Шарля Бодлера, которого обе переводили.
Связи С. Нерис с культурой Польши достаточно прозрачны, так как
она переводила на литовский язык произведения К. Тетмайера и Ю. И. Крашевского, а в дневниковых заметках подчеркивала: «Слушая польское радио, почувствовала, что польский язык мне очень близок, сложилось такое
впечатление, будто бы я когда-то его изучала и говорила на нем»7.
Творчество С. Нерис и К. Завистовской роднят высокая поэтическая
культура, сходные эстетические тенденции и художественные приемы:
субъективизм, деликатность выражения чувств, а также изысканность и
утонченность формы. К типичным младопольским чертам следует отнести мотивы одиночества, усталости и тоски. Ощутимо стремление соотнести идеал душевной гармонии с реальностью, но привычные формы
бытия начинают не соответствовать этому идеалу и рождаются острый
внутренний конфликт и драматическое переживание.
Близкий К. Завистовской модернистский канон наиболее рельефен в ранней лирике литовской поэтессы, а среди гаммы сходных экзистенциальных мотивов важным становится метафизическое предчувствие смерти, сам же уход из жизни трактуется как своего рода
«освобождение», бегство от реальности. Наиболее выразительны в
данном смысле стихотворения Завистовской «Очень усталая, я искала
тщетных теней» («Więc strudzona już bardzo czczych szukałam cieni»),
«О приди ты ко мне» («O przyjdź Ty do mnie»). Подобная экзистенциальная проблема решается у С. Нерис оригинально, с подключением
литовского ментального мотива сожжения на костре:
Сожгите меня — да, я ведьма, ведьма!
Костер свой черный дым до неба пусть возносит!
Не дрогну до конца — напрасно ждете медля!
Не разомкну я рта — ни слова не добьетесь!
�Польские контексты литовского модернизма
61
А буду я смотреть, как солнышко садится,
Своими пальцами лицо мое лаская.
И не поймете вы, за что вам все простится,
И почему я улыбаюсь, умирая.
Огонь небесный падал с облаков,
Земле-невесте ласки молний снились.
А звезды неба пели мою к тебе любовь,
И звезды наших глаз навстречу им лучились.
Теперь сожгите меня — да, я ведьма!
Я неземным огнем крестила мрак земной!
Ваш ад вам оставляю, разверзшийся, как бездна!
А небеса пускай сгорят со мной!8
(Пер. Н. Астафьевой)
В близком ключе у С. Нерис и К. Завистовской разрабатывается
мотив природы, они восхищаются разнообразием окружающего мира,
сильной, магической становится связь с землей и космосом. Таковым
является у Завистовской сонет «Лето». Литовская поэтесса отождествляет себя с деревьями и растительным миром в целом — в «Диких
яблонях» («Laukinės obelys», 1939) запечатленная в литовском фольклоре связь с природой, землей и Вселенной возводится до уровня
глубоких философских обобщений.
В лирике С. Нерис и К. Завистовской ощутима женственная хрупкость, многозначна символика любви, где сердечность и деликатность
соседствуют с неизбежным драматизмом. В представлении данного мотива как всепоглощающей страсти и предчувствия печального исхода
угадывается и воздействие на Нерис поэзии Анны Ахматовой, что просматривается в стихотворении «Поцелуй» («Pabučiavimas», 1928):
Поцелуй твой внезапный был странно поспешным,
Словно ночь, опьянил, как огонь полыхнул;
Пред таким искушением и святой станет грешным...
Поцелуй твой украденной искрой блеснул.
Раскаленные губы позабыть не могу я,
Их печать и поныне на сердце моем!
Моя дума, хмельная от того поцелуя,
Как рабыня, с тобою и ночью и днем.
�62
Андрей Баранов
Не змеиное жало – губы милые жарко
Прикоснулись, и я в лихорадке с тех пор.
Позабыть не могу, ибо знаю, что жар твой,
Твоя страстная дума – наш общий костер!9
(Пер. М. Квятковской)
В контексте поэзии Ахматовой «высвечиваются» оригинальные метафоры — «всемогущая песнь скрипки», «бег по талому льду», «цветение
сирени», а также топос осени, который, с другой стороны, имеет соответствия в поэзии «Молодой Польши». Локальный пример — «Летят журавли» С. Нерис и «Журавли» Б. Островской. Примечательно то, что стихотворение «Летят журавли» перевела на русский язык именно А. Ахматова.
Своеобразие нового этапа развития литовской литературы (1918–
1939) заключалось в том, что классические модернистские тенденции
выступали в ней синхронически с авангардными стилевыми течениями (футуризм, дадаизм, сюрреализм). В 1924–1928 гг. формируется
литературная группа «Четыре ветра» («Keturi vėjai»), в которую вошли Казис Бинкис, Салис Шемерис, Пятрас Тарулис, Антанас Римидис, Юозас Жянге и другие писатели. Внутренние связи модернизма с
авангардизмом выявляют чисто литовскую специфику литературного
процесса. Польские контексты литовского модернизма — это своего
рода «исходная точка» («punkt wyjściowy») его исследований и интерпретаций на европейском уровне развития культуры.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Фактографическая сторона рецепции польской литературы в Литве исследовалась М. Яцкевичем (Jackiewicz M. Literatura polska na Litwie. Olsztyn, 1993).
См.: Mykolaitis-Putinas V. Vladislovas St. Reimontas ir jo «Kaimiečiai» //
Raštai. Vilnius, 1962. P. 461–469.
Ср.: Montandon A. World Literature Tomorrow // Comparative Critical Studies. V. 3, 1–2. 2006. Р. 77–82.
Čiurlionienė-Kymantaitė S. Lietuvoje // Raštai. T. 4. Vilnius, 1998. P. 154.
Pečkauskaitė M. (Šatrijos Ragana) Mintysapiedailę // Viltis. 1910. Nr. 65. P. 2.
Tūtlytė R. Išliekanti lyrika: XX amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų
kaita. Vilnius, 2006. P. 44.
Nėris S. Raštai III. Vilnius, 1984. P. 311.
Нерис С. Лирика. М., 1971. С. 41.
Там же. С. 48.
�Малгожата
Барановская
(Варшава)
Написанная
на бумаге1
Поэтическая традиция в Польше —
это, прежде всего, традиция романтическая.
Как бы там ни было, всем когда-то придется встретиться с Мицкевичем, столкнуться с ним или хотя бы оглянуться на него.
Шимборская является (а скорее следовало
бы сказать — представляется) совершенно
аромантичной. И тем не менее, она написала стихотворение «Баллада», использовав
название излюбленного жанра романтизма.
Романтические баллады были жанром фабулярной лирики. Баллада «происходит».
События следуют одно за другим. Почти нет
прилагательных. Есть одна лишь фабула, но
не любая. Всегда — высокого стиля и всегда
про историю бурных чувств. События баллады всегда фантастичны и таинственны.
Но прежде всего, они непременно трагичны.
И действительно: «Баллада»2 Шимборской рассказывает о какой-то любовной трагедии, огромной катастрофе
чувств. Только, как обычно у этой поэтессы, нас ожидает сюрприз. Ибо это баллада, которая разворачивается как опровержение, — баллада коварная.
Барановская Малгожата /
Baranowska Małgorzata —
Dr., Польша, Варшава, Инс
титут литературных исследований ПАН
To ballada o zabitej,
która nagle z krzesła wstała.
Ułożona w dobrej wierze,
napisana na papierze.
�64
Малгожата Барановская
Przy nie zasłoniętym oknie,
w świetle lampy rzecz się miała.
Każdy, kto chciał, widzieć mógł.
Уже само по себе это начало необычно. Баллада об убитой, которая вдруг встала со стула, — мы не знаем, жива она, или нет.
Скажем определенно. Она жива. Поскольку живет в поэзии. Она
«написана», а ведь с ней что-то происходит, причем нечто драматичное, несмотря на то, что ее «постигла невидимая смерть». В творчестве Шимборской такая жизнь вне времени, в литературе, и есть та
«месть смертной руки». Поэзия — это жизнь.
Мы считаем чувства мимолетными. Но сонеты Петрарки или баллады Мицкевича бессмертны. Правда? А ведь в них мы имеем дело с
этой мимолетной стихией чувств. Шимборская исключительно понимает, знает европейскую «историю чувств». Об этом лучше всего свидетельствует тот факт, что в новой серии «Литературного издательства»
(«Wydawnictwo Literackie»), в которой видные писатели и критики комментируют классические литературные произведения, Шимборская
пишет об истории Тристана и Изольды именно как об истории «идеальной любви», как бы вне жизни, вне времени, в мечтах, в литературе3.
«Баллада» — это стихотворение об обманутой любви, в котором
обнаруживаются следы «Романтики» Мицкевича. Мастерство Шимборской основано на том, что она прекрасно знает ту романтическую
тональность, может ее использовать, преобразить. И делает это весьма
коварно. Она погружает эту балладу в повседневность, спокойно переделывая Мицкевича. И ей удается полностью обмануть нас своим
обыкновенным тоном. Ее героиня без особого труда может изобразить кого-то не раненого, не убитого.
Ona nie jest uduszona.
Ona nie jest zastrzelona.
Niewidoczną śmierć poniosła.
Może dawać znaki życia,
płakać z różnych drobnych przyczyn,
nawet krzyczeć z przerażenia
na widok myszy.
Tak wiele
jest słabości i śmiesznościnietrudnych do podrobienia.
�Написанная на бумаге
65
Ona wstała, jak się wstaje.
Ona chodzi, jak się chodzi.
Nawet śpiewa czesząc włosy,
które rosną.
Действие происходит. Как будто так же, как и должно происходить
в балладе. Только как-то странно — обыкновенно. Героиня встает, ходит,
поет, причесывает волосы, сжигает оставленные «убийцей» следы. Она
живет — и не живет. Она «написана», но ходит. Она убита, но встает. В
необычной ситуации она изображает обычные действия. При этом, будучи «написанной», имеет ли она что-то общее с реальностью жизни?
Мы даже могли бы ее увидеть «при лампе», «при окне без занавески». Но и героиню «Романтики» мог увидеть любой. «Этот белый
день! Это местечко!» Внутреннее — не видно. Но для Мицкевича и
для романтизма самым главным была правда чувств и веры. Шимборская отнюдь не говорит, что для нее главное — какая-то правда
жизни или чувств. Однако мы, читая, попадаем в коварную ловушку.
Повседневность языка скрывает всю изощренную послемицкевичевскую конструкцию, которая к тому же была преобразована в нечто
совершенно новое и противоречащее традиции баллады.
Трудно быть польской поэтессой вне величайшей польской поэзии. Шимборская берется за сюжет Мицкевича. При этом, как всегда, выражает современность. Одновременно, как бы в соответствии с
заглавием, поэтесса «обобщает балладу». В ней можно услышать не
только явное эхо «Романтики», но и отдаленное эхо «Бегства» («Ucieczka») Мицкевича — возможно, лишь дуновение этих романтических стихотворений, где любовь вовлекает в смерть. В главе «Девушка и безумная любовь» из книги «Женщины и дух иного» профессор
Мария Янион анализирует именно этот сюжет на примере «Бегства»
Мицкевича, написанного по мотивам «Леноры» Бюргера. Янион ссылается при этом на Дени де Ружмона, анализирующего влекущую
к смерти любовь как романтическую линию, восходящую в европейской литературе к поэзии трубадуров, к сказаниям о Тристане и
Изольде. Ибо все это — еще средневековая линия. Средневековье, освоенное романтизмом. Романтическая любовь, любовь безумная как
мотив заимствована из поэзии трубадуров. В ней необходим элемент
смерти. Это не спокойная, степенная и буржуазная любовь. Вот мы
и вернулись к Тристану и Изольде. Не только романтики знали такое
Средневековье. Оно известно именно Шимборской, великолепному
�66
Малгожата Барановская
знатоку старофранцузской литературы, и для нее оно еще живо или,
быть может, следует сказать — вне времени.
В «Балладе» Шимборской смерть от любви — ведь здесь все-таки говорится об убитой (хотя не говорится о любви) — представлена в
стаффаже обыденных действий, в пейзаже какой-то, как можно догадываться, обычной комнаты, с дистанции, при помощи обычных слов.
Однако иногда Шимборская бывает непосредственно романтична. Например, она способна стать пророчицей. Интересно, что другой поэт
и лауреат Нобелевской премии, Шеймас Хини, прекрасно разглядел в
ней эту «пророковатость». В опубликованной 13 октября 1996 г. в «Тыгоднике Повшехном» статье, озаглавленной «Голос Сивиллы», он написал: «Я говорю, разумеется, о переводах, потому что недостаточно
знаю польский язык, но мне кажется, что самый истинный голос, которым говорят ее стихи, это голос оракула, голос Сивиллы, полнее всего
выражающий ее необыкновенную личность, хотя в самой Сивилле нет
ничего от Сивиллы. Я имею в виду то, что как поэтесса она говорит одновременно авторитетным и абсолютно подлинным голосом».
Проницательность Хини и его поэтическое чутье позволили ему
заметить одну из важнейших черт поэзии Шимборской, а именно — ее
«пророковатость». Она проявляется уже в способе познавания мира, все
ощущают, что Шимборская прекрасно описывает наш повседневный
мир. Люди замечают мир преимущественно фрагментарно, частями;
пророк видит целость мира. Уже само такое познавание мира есть пророковатость. Не осознавай это сама Шимборская, она не написала бы
стихотворение «Монолог для Кассандры», которое начинается словами: «Это я, Кассандра». Это Кассандра, чья голова «полна сомнений».
Большинство пророческих свидетельств, которые мы знаем, кажутся нам, несмотря на туманность, чем-то не столь сомнительным.
Честно говоря, очень часто мы обнаруживаем пророка уже после того,
как пророчества исполнятся. До этого мы не всегда знаем, что некто
является пророком. Кассандра — пророчица, известная с древности,
следовательно, ситуация ясна. Кто же будет сегодня думать о ее столь
давних сомнениях? Но Шимборская должна описать именно это. Усложнить пророчицу. И — сегодня, когда уже все должно быть вроде
бы известно. В сфере фактов. Ибо чувства Кассандры — разве они
сегодня важны? Для поэтессы — да. Лирика — это чувства. Когда они
уже пережиты, они не интересуют поэзию, для которой — вечны. Сознательно призывая Кассандру, поэтесса вкладывает в ее уста слова:
Kochałam ich.
Ale kochałam z wysoka.
�Написанная на бумаге
67
S ponad życia.
Z przyszłości. Gdzie zawsze jest pusto
i skąd cóż łatwiejszego jak zobaczyć śmierć.
Żałuję, że mój głos był twardy.
Spójrzcie na siebie z gwiazd – wołałam –
spójrzcie na siebie z gwiazd.
Słyszeli i spuszczali oczy4.
Обычные люди не могут посмотреть на себя со звезд. Для этого необходима пророческая, поэтическая интуиция. Значит ли это —
романтическая? Романтики, бесспорно, ответили бы утвердительно.
Приведем здесь рассуждения Виславы Шимборской о философской
школе Пифагора: «Импульс, который он придал своей школе, шел
одновременно в двух направлениях: как можно более точного знания
(геометрия, акустика, астрономия) и мало соизмеримых метафизических спекуляций. Это были такие времена, что одно другому не мешало. “Чувство и вера сильнее говорят мне, чем глаз и лупа мудреца”5…
Пифагорейцы были бы удивлены такой постановкой вопроса. Что же
это за альтернатива? Почему непременно нужно сильнее выступать на
какой-то стороне? Признаюсь, что хотя я не пифагорейка, и меня эта
романтическая цитата несколько беспокоит и угнетает. Ведь наука (то
есть те самые презираемые “глаз и лупа”) не сделала бы ни шагу без
воображения, интуиции и духовной готовности проникнуть в тайны,
то есть без всего того, что входит в состав “чувства и веры”. Да и поэзия не приписана исключительно к одному полюсу. Я легко могу себе
представить антологию самых прекрасных фрагментов мировой поэзии, в которой нашлось бы место для утверждения Пифагора. Почему
бы нет? Там есть озарение, присущее великой поэзии, и форма, изумительно совмещенная с самыми подходящими словами, и какая-то
грация, которая даже не каждому поэту дана…»6.
Шимборская, как ей это свойственно, старается соединить две
точки зрения, которые принято (вслед за романтиками) считать противоположными. Она выбирает мир со всей его сложностью. Все его
стороны. Также – литературы и поэзии. Прежде всего, она выбирает
открытую возможность выбора.
(Перевод В. Мочаловой)
П ри м е ч а н и я
1
Глава из книги: Baranowska M. «Tak lekko bylo nic o tym nie wiedzieć…» Szymborska i świat. Wrocław, 1996. S. 37–42. Редколлегия
�68
Малгожата Барановская
2
благодарит семью Малгожаты Барановской (1945–2012) за любезное
разрешение опубликовать перевод этой главы в сборнике памяти
ученого, с которым автора связывали многолетние чувства взаимной приязни и уважения, в сборник тезисов юбилейной конференции которого она успела прислать свой текст за три дня до своей
безвременной смерти (см.: Барановская М. Wracam na Ochotę // Victor
Chorev — Amicus Poloniae. К 80-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2012. С. 14–15). Для публикации в данной книге мы выбрали одну из работ М. Барановской о творчестве лауреата Нобелевской
премии (1996) Виславы Шимборской, которое входило и в круг интересов В. А. Хорева. — Ред.
См. перевод А. Ахматовой:
Вот баллада об убитой,
что внезапно встала с кресла.
Вот баллада правды ради,
что записана в тетради.
При окне без занавески
и при лампе все случилось,
каждый видеть это мог.
И когда, захлопнув двери,
с лестницы сбежал убийца,
встала, как еще живая,
пробудившись в тишине.
Встала, головой качнула
и глазами, как из перстня,
поглядела по углам.
Не по воздуху летала —
стала медленно ступать
по скрипучим половицам.
А потом следы убийства
в печке жгла спокойно:
кипу старых фотографий
и шнурки от башмаков.
�Написанная на бумаге
69
Не задушенная вовсе,
не застреленная даже,
смерть она пережила.
Может жить обычной жизнью,
плакать от любой безделки
и кричать, перепугавшись,
если мышь бежит. Так много
есть забавных мелочей,
и подделать их нетрудно.
3
4
5
6
И она встает и ходит,
как встают и ходят все. — Ред.
Bedier J. Dzieje Tristana i Izoldy. Lekcja literatury z Wislawą Szymborską.
Kraków, 1966.
Я их любила.
Но со своей колокольни.
Над жизнью.
Из будущего. Где всегда пусто
и откуда проще простого увидеть смерть.
Я жалею, что мой голос был твердым.
Посмотрите со звезд на себя, — я кричала, —
Посмотрите со звезд на себя.
Они слушали и смотрели под ноги.
Цитата из «Романтики» Мицкевича: «Czucie i wiara silniej mówi do mnie,
niż mędrca szkiełko i oko». — Ред.
Lektury nadobowiązkowe // Gazeta o Książkach. 19.09.1996. № 9.
�Вопреки стереотипам
Темой моих размышлений в данной
статье станут воспоминания польских
ссыльных — в них мы встречаем суждения
о России, которые отличаются от мнения,
преобладавшего о ней в нашей литературе
XIX в. Я ограничусь только некоторыми
примерами, поскольку у нас нет возможности рассмотреть весь огромный материал, представляющий судьбы ссыльных,
которых направляли на поселение или
каторгу в различные места необъятной
российской территории, в особенности за
Урал, в Сибирь. Такую информацию можно найти в работах Антония Кучинского,
Франтишека Новинского, Виктории Сливовской и Эльжбеты Качинской, Зофии
Троянович и Ежи Фечко, а также в более
поздней книге Мариуша Хростека1.
Зофья Троянович в предисловии к антологии литературных текстов и подборке
пронзительных воспоминаний ссыльных,
чьи взгляды укладывались в романтическую парадигму, подчеркивает, что польские ссыльные создавали собственную
историю, своего рода «историю в истории… И нередко она отличалась от того
образа Сибири, какой мы знаем из поэзии
великого романтизма, образа, в котором
преобладает апофеоз мученичества и искупительной жертвы. Но до большой амнистии 1856 г., когда мало кто из Сибири
Юзеф Бахуж
(Гданьск)
Бахуж Юзеф /
Bachórz Józef — Dr. hab.,
профессор, Польша, Гданьский университет
�Вопреки стереотипам
71
возвращался и еще немного было изданных воспоминаний, собственная история ссыльных в очень незначительной степени могла проникнуть в сознание людей, живущих в Польше и в эмиграции. В более
позднем творчестве романтизма… образ Сибири подвергается значительным модификациям и дополнениям. Реалии жизни ссыльных получают более зримое воплощение»2.
Среди этих реалий становятся слышны и мотивы, отличающиеся от основного мартирологического тона. Такие мотивы время от
времени появляются и в научных исследованиях, здесь в первую очередь следует упомянуть работу Мариуша Хростека, который пишет:
«Картина жизни в Сибири, нарисованная исключительно черными
красками, переполненная страданиями, изнурительным трудом и
преждевременными смертями беззащитных страдальцев-мучеников,
так пропагандируемая в польской литературе девятнадцатого века,
не находит безусловного подтверждения в текстах воспоминаний и
писем многих ссыльных»3. Автор процитированных слов прекрасно
осведомлен о страданиях и жестокости Сибири — ведь он эти сведения приводит на многих страницах своего исследования о судьбе
поляков в Сибири, — но он также знает, что в воспоминаниях и письмах ссыльных есть и другая правда. Правда, которая отличается от
представления Сибири только как застенка, пыточной и от образа
России, ненавистной и абсолютно враждебной полякам. Такой стереотип ужасной России, подкрепленный польским романтическим пониманием страдания и мученичества как самого полного выражения и
главного доказательства верности патриотическим идеям, окрашивал
многие воспоминания и способствовал их популярности, поскольку
не противостояние стереотипам, а следование им встречает одобрение публики.
Осознавал склонность к такой окраске воспоминаний и Бенедикт
Дыбовский, который — прежде чем стал известен как исследователь
природы и народов Сибири — прошел через арест в 1863 г. (он был
профессором Варшавской главной школы и противником восстания,
но он помог одному из младших коллег спрятать нелегальные материалы), пребывание в варшавской Цитадели, где на собственной шкуре
испытал всевозможные подлости со стороны следователей и стражников. Когда он был отправлен в Сибирь, на одном из этапов, наслушавшись рассказов своих товарищей по несчастью об издевательствах и
притеснениях, с которыми они столкнулись в пути, он стал расспрашивать и остальных о том, «как их отправляли по этапу партиями из
Вильны, Минска, Могилева, а конкретнее, велели ли им надевать арестантскую робу, брили ли им голову, производили ли личный обыск,
�72
Юзеф Бахуж
проверяли ли их вещи; так вот все заявляли, что ничего подобного с
ними не происходило. Поэтому я сегодня должен твердо сказать, что
те, кто в своих воспоминаниях пишет о таких репрессиях со стороны
тюремных властей, — выдумывают»4.
И на других страницах воспоминаний Дыбовского можно легко
найти примеры недоверия к стереотипам, которое — подобно недоверию Яна Черского или Александра Чекановского — сделало возможным научное сотрудничество поляков с русскими.
Напомним, что стереотипы возникают на основе групповых
конфликтов (племенных, национальных, конфессиональных или
связанных с традициями и обычаями), которые охватывают многие
поколения, имеют место в течение длительного времени. В польско-российских отношениях такие конфликты возникли и усиливались с 17 века, что с польской стороны приводило к формированию
устойчивой ненависти и неприятия по отношению к русским, а с
русской стороны — к шаблонному, глубоко неприязненному восприятию поляков и всего польского. И с обеих сторон старались не
видеть у противника никаких положительных черт. Краткими были
периоды, когда затихала, слабела взаимная неприязнь и намечались
попытки формирования положительных установок. Такие попытки
имели место в период 1815–1825 гг., когда политические элиты обеих
стран старались приглушать этот антагонизм: Александр I предоставил Царству Польскому автономию, благосклонно отнесся к проекту
создания Варшавского университета, польские поэты слагали гимны
в его честь, а Виленский университет и Кременецкий лицей переживали время своего расцвета. Однако очень быстро гимн «Boże coś
Polskę» Алоизия Фелинского подвергся таким изменениям, что стал
звучать как песнь, направленная против захватчиков, а о его первоначальном пророссийском пафосе старались не вспоминать. Поэзия,
публицистика и даже проза, связанные с восстанием 1830–1831 гг. и с
периодом, последовавшим за подавлением восстания, полны высказываний, лозунгов, выражающих самую глубокую и острую ненависть к
России. Примеры иного рода, такого, как честный русский — капитан
Рыков из «Пана Тадеуша» (1834), — случались редко, а картины взаимной симпатии русских и поляков, нарисованные в романах Юзефа
Коженевского «Тадеуш Безымянный» (1852) и «Родня» (1856), вызывали возмущение (особенно в кругах эмиграции) и нередко воспринимались как проявления национального отступничества.5
Очевидно, что стереотипы имеют ничтожную познавательную
ценность при воссоздании образа действительности, которую они
якобы описывают, но они очень многое говорят о тех, кто эти сте-
�Вопреки стереотипам
73
реотипы создает и руководствуется ими в своих поступках. Стереотипные образы содержат информацию не столько о противниках и их
действительности (хотя какие-то обрывки сведений о ней они все-таки используют), сколько формируют настроения их сторонников и
апеллируют к эмоциям последних, то есть содержат картину ощущений и мотиваций их собственного лагеря. Из польского стереотипа
«русскости» мы немного сможем узнать о русских и России, но значительно больше — о польских комплексах и польских опасениях, о
польской готовности к самозащите и польской установке не уступать
и не отступать в борьбе.
В течение почти 40 лет после окончания Второй мировой войны
под лозунгом польско-советской дружбы всячески экспонировались
мотивы польско-российского сотрудничества в области культуры и
борьбы с царизмом — что шло на пользу познанию деталей этих явлений, — при одновременном осуждении самодержавия. На первый
план выдвигались традиции совместной деятельности польских и
российских противников абсолютизма, помнили о польских художественных произведениях, написанных в духе стихотворения «К
друзьям москалям», и о признании Мицкевича в России, при этом,
однако, старались не задаваться вопросом, сколько в польской романтической поэзии было ненависти не только к царизму, но и к России
в целом, или же не особо задерживались на сочинениях вроде «Клеветникам России» Пушкина. В тогдашней ситуации воскрешение
духа сотрудничества и симпатии сопровождалось пренебрежением
к трагическим событиям новейшей истории, игнорировались также
давние антироссийские стереотипы у поляков и существование антипольских настроений в России. Изгнанные из публичной дискуссии
призраки отступали в подполье, в область тени и шепота, где они погружались в спячку, таились в ожидании благоприятной поры, чтобы
вновь выйти на свет и заговорить в полный голос, с присущими им
ядом и язвительностью. Их время наступило после 1980 г.
Трудный процесс изучения этих призраков стереотипов — кропотливый, откровенный, без недоговоренностей — начался с обеих
сторон в результате коренного изменения политического строя в обеих странах. Важным событием здесь стала такая книга, как сборник
«Πоляки и русские в глазах друг друга» (M., 2000), изданный при сотрудничестве Польской и Российской академий наук. Редактировал
его коллектив под руководством Виктора Александровича Хорева,
который также осуществлял руководство над выпуском сборника
«Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре»
(M., 2002). Продолжением этих книг стала монография В. А. Хорева
�74
Юзеф Бахуж
«Польша и поляки глазами русских литератoров. Имагoлогическиие
очерки» (M., 2005). Термин «имагология» предполагал, что необходимо внимательно — sine ira et studio — исследовать стереотипы и образы, им не соответствующие. Существенные изменения, своего рода
перелом в этой области, состоят в том, что исследователи стремятся
обнажить ложность стереотипов, доказать необходимость исследования острых и щекотливых проблем, уважать различные подходы и
оценки с обеих сторон, а также всегда помнить, что ни одна из сторон
не обладает патентом на стопроцентную истину.
Впрочем, стереотипность видения действительности в польской
культуре касается не только изображения репрессий со стороны захватчиков, в частности, восприятия и изображения Сибири, но затрагивает и язык дискурса о конспиративной деятельности и восстаниях в Польше. В популярных и образовательных текстах, посвященных этим событиям и проблемам, преобладала и преобладает сейчас
мысль о неизбежности вооруженных выступлений, о всеобщем общественном их одобрении и нравственной пользе, которую они приносили делу сохранения национального потенциала и национальной
идентичности. Начиная с ноябрьского восстания 1830 г. и заканчивая
варшавским восстанием 1944 г., считалось неприемлемым выражать
сомнения относительно необходимости выступлений этого типа, а их
неприятие рассматривалось как кощунство по отношению к священной жертве тех, кто проливал кровь, и, конечно же, как проявление
эгоизма, мелочности, трусливости и перехода на позиции врагов.
В рамках такой концепции дурным поляком был граф Велопольский, который решительно (но безрезультатно) противился восстанию
1863 г. И не заслуживают имени настоящих поляков те граждане, которые — как Каэтан Крашевский (брат известного писателя6) — резко
критиковали повстанческое партизанское движение. Или те, кто, как
Болеслав Прус в рассказе с говорящим названием «Ошибка», негативно оценивал произошедшее в 1863 г. Критическое отношение к драме
январского восстания и несогласие с изображением Сибири в исключительно траурных тонах можно увидеть и в «Кукле» (1889) Пруса, и
поэтому изображение дружбы с русским в польских литературоведческих исследованиях расценивалось как тема весьма уязвимая на фоне
польской убежденности о конструктивном значении поражений.
Сибирские дневники, однако, содержат немало информации,
подтверждающей правоту Пруса. В богатой коллекции этих записей
я неоднократно встречал именно такие моменты, которые сохраняют
свидетельства не только о бездушных мучителях, но и о том, как русские протягивали полякам руку помощи, старались поддержать ис-
�Вопреки стереотипам
75
кренними участливыми словами. Якуб Салингер вспоминает, как в
1863 г. в колонне арестантов, которых гнали в пересыльную тюрьму,
он оказался недалеко от Кремля: «Мы встретили санки, в которых
сидел мужчина средних лет, закутанный в меховые шкуры. Когда он
нас увидел, он тут же приказал остановить санки. Он отбросил меховую полость и, стоя в санках, громко воскликнул по-русски: “Приветствую вас, поляки, пусть Бог простит вас и исполнит ваши надежды”.
Мы все его в один голос поблагодарили и, не задерживаясь, продолжили путь»7. Спустя пятнадцать (или что-то около этого) лет Вацлав
Серошевский, арестованный в 1878 г. за тайную патриотическую и
социалистическую деятельность и приговоренный к ссылке, уже в
варшавской Цитадели встретил — помимо палачей садистов — также
таких следователей, которые помогали арестантам, а когда после прибытия в Москву он шел в колонне арестантов в пересыльную тюрьму,
на шумных улица города «прохожие останавливались, выражая нам
свое сочувствие, кидали нам баранки, булки, фрукты… Какой-то седой мужчина прорвал цепь солдат, подбежал ко мне и сунул мне в
руку рубль»8. Серошевский отмечал и угрозы — весьма нередкие, —
которые были результатом антипольской пропаганды русских националистов, например, какие-то два молодца выкрикивали: «Сукины
дети, бунтовщики, поляки, вот мы вас!..»9, но это не было для него
голосом правды об отношении к полякам русских.
Важно то, что иногда авторы воспоминаний, которые прошли через пытки следствия в варшавской Цитадели, ужасы пути в кандалах
до Перми, Тобольска или Иркутска и ад каторги в рудниках, отмечали проявления доброжелательности и готовности помочь со стороны
русских. Рафал Блонский вспоминает, что в Цитадели к нему проявил
сочувствие и сказал несколько утешительных слов русский жандарм,
а затем описывает то, что происходило позднее, когда, преодолев в
кандалах 580 верст из Тобольска, чуть живой, он добрался до лазарета
в Таре и, конечно же, не вынес бы каторжных работ: «Местные чиновники то ли по распоряжению начальства, то ли учитывая мои жалкие
силы, не только не посылали меня на работы, но даже позволили мне
жить на съемной квартире. Я получал наравне со всеми плату, какая
была назначена работающим, пять злотых и два пуда ржаной муки в
месяц; и за это у меня была квартира и стол у солдата тамошней инвалидной команды»10.
Изображение русских и России в их проявлениях человечности
можно без труда найти в воспоминаниях Евы Фелинской из Вендорффов, осужденной на два года за контакты с тайным обществом Шимона Конарского и находившейся в ссылке с 1839 г. по 1844 г.11. Она не
�76
Юзеф Бахуж
играла на мученических струнах не только потому, что издала свои
воспоминания в Вильне в условиях русской цензуры, но также и потому, что у нее с ее русскими знакомыми из сибирского Березова, расположенного далеко на севере, над Обью, установились поистине сердечные отношения. Это правда, что она не была приговорена к каторге и
находилась в ссылке с другой ссыльной полькой, но не только характер
наказания повлиял на описание ею людей, с которыми она познакомилась в Березове и потом позже в приволжском Саратове. Определяющим было отношение ко всему русскому не в категориях, что это хуже,
чем «у нас», а в категориях отличий, которые надо стремиться понять.
С симпатией (но и с долей слегка покровительственного отношения к
человеку младшему по возрасту) она рассказывает о посещении дома
городничего (то есть одного из важных чинов в городе):
«Мы вошли. Симпатичная и миловидная хозяйка поприветствовала нас; только улыбка на ее лице свидетельствовала о том, что она
нам рада. Сразу же вышла поискать мужа, который вскоре присоединился к нам. Дом сверкал удивительной чистотой. Вскоре вернулась
нарядно одетая хозяйка, принесли поднос, заставленный вазочками с
разнообразным вареньем. Она угощала нас молча, только жестом или
улыбкой предлагая угощенье.
Чрезвычайное смущение и несмелость отражались у нее на лице
<…>
Я подумала, что этот визит в тягость молодой хозяйке, я хотела
его сократить и встала, чтобы попрощаться; но, увидев это движение,
молодая женщина воскликнула: “Да как же? Самовар!!”
Видя, что наш уход без выполнения такой важной формальности
огорчил бы хозяйку, я вновь уселась, и мы расстались, как я полагаю,
в согласии»12.
Без сильных отрицательных эмоций она описывала и трудно выносимую ею восточную экзотику (например, тяжелый запах кухни
остяков [устаревшее название народов Сибири — хантов, кетов и др.
— Прим. переводчика] и отсутствие у них элементарных гигиенических привычек), но с умилением вспоминала расставание с Березовом,
когда на пристани у реки собралось ее проводить множество русских
знакомых: «Собралось столько людей, почти как на ярмарке. Все со
мной прощались и благословляли с огромной сердечностью, я тоже с
волнением и сожалением покидала этих искренних, честных людей, о
которых я всегда буду благодарно вспоминать»13.
Вопреки стереотипам описывал свой путь в ссылку Ян Ручинский с Волыни, получивший образование в Кременецком лицее и в
1839 г. приговоренный к смертной казни за участие в заговоре Шимо-
�Вопреки стереотипам
77
на Конарского. Смертную казнь ему заменили на каторгу. Часть пути
он преодолел пешком в кандалах, а в феврале 1839 г., когда его везли в
кибитке, тоже в кандалах, он, несомненно, замерз бы насмерть, как он
пишет, если бы жандармы не укрыли его своими меховыми тулупами.
Три недели продолжался мучительнейший путь из Киева в Тобольск.
Мы не знаем точно, что означало его брошенное вскользь замечание
о другом жандарме из Тобольска («он обошелся со мной по-человечески»14), но далее он с благодарностью описал, как к арестантам относился «дивизионный доктор и личный врач князя Горчакова», молодой выпускник Тартуского университета: «Хоть немец, но проявлял к
нам благороднейшее сочувствие. Он навещал нас почти каждый день,
каждый день присылал кофе и чай отличнейшего качества и прекрасно приготовленные, прибавив к ним праздничные пироги, поскольку
прибыли мы в Тобольск на Пасху. Каждому из нас он дал по половине
дести почтовой бумаги и по стальному перу, чтобы у нас было чем и
на чем писать письма родным… Я слышал, что позднее он дослужился до должности губернатора. Благослови его Господь, и детей его, поскольку он это заслужил»15. Из Тобольска до Иркутска арестанты шли
в кандалах, преодолевая 18–25 верст ежедневно. О пересыльной тюрьме в Иркутске Ручинский написал в дневнике: «Я с благодарностью
вспоминаю дружескую, товарищескую заботу, которую к нам проявляли русские ссыльные. Они каждый день навещали нас, у местных
властей добились разрешения отправить нас дальше без кандалов и
выдавать для нас на каждом этапе по десять подвод. Кроме этого, они
нас снабдили значительным числом серьезных книг, которые стали
для нас настоящей, так нам необходимой пищей для ума. Вспоминается еще одна подробность. Эти русские ссыльные принесли нам номер
“Иркутской Губернской Газеты”, в котором мы все были пропечатаны
по имени и фамилии, а также с перечислением целей деятельности
нашего общества. А написано было, что мы собирались уничтожить
все религиозные и нравственные законы, бунтовать людей против их
господ, против правительства, призывать к резне и убийствам, как во
времена Марата и Робеспьера. И что за десятую часть предъявленных
нам преступлений стоило бы нас повесить». Декабристы, — говорит
Ручинский, — люди, «наученные печальным опытом, не слишком верили в подобные публикации»16.
Когда Ручинский отбывал наказание, к нему приехала жена и за
солидную взятку «откупила» его от смертоносной работы на руднике — так у него появилась надежда выжить. Но зато жена чрезвычайно
серьезно простудилась, а от привезенных ею денег остались жалкие
остатки. В городке оказался порядочный русский врач, Ручинский за-
�78
Юзеф Бахуж
помнил его имя — Лука Варнавич Дурыгин; так этот врач три недели
самоотверженно ухаживал за тяжело больной. Когда опасность миновала, Ручинский собрал все оставшиеся деньги (всего 40 рублей) и
пошел к Дурыгину.
«С чувством я поблагодарил его, — пишет он в воспоминаниях,
— за труды и старания при излечении больной, попросил, чтобы он
нас еще посещал, пока жена не встанет с постели, и вручил ему бумажку, которую он, не разворачивая, спрятал в карман. Через несколько часов появляется Дурыгин. Это был человек низкого роста, подвижный, как говорят, горячий. Он тихо вошел в комнату моей жены,
нашел ее в добром состоянии, а потом обратился ко мне:
— Что это Вы сделали, господин хороший? — и сунул руку в
карман.
Я струхнул, думая, что он недоволен слишком малой суммой,
ему предложенной. Но он развернул бумажку, отделил две красные
ассигнации и положил на стол, а две другие положил обратно в карман, говоря:
— Это Ваше, а это мое. Лекарства мне ничего не стоили, а за мои
труды 20 рублей мне достаточно.
Я не мог его упросить, чтобы он принял все, уверяя, что если бы
я был богаче, то я бы его наверняка озолотил. Но он уперся и больше
взять не хотел. Исключительный это был доктор-чиновник, поскольку совсем бескорыстный, что было тем удивительнее, что был он попович. Я любил его и уважал и до конца сохранил с ним хорошие отношения. Я слышал, что умер он в Тобольске»17.
Другой ссыльный, Владислав Запаловский, в сердечных словах
вспоминал встречу с жителями Ярославля, которые хорошо были настроены по отношению к полякам, поскольку жил среди них «на поселении» какой-то всеми уважаемый поляк. Потом этот Запаловский
оказался в селе в Ярославской губернии, где встретил неожиданную
доброжелательность со стороны тамошних крестьян, с коими у него
состоялся длинный разговор. Он подытожил этот разговор такими
словами: «Я убедился, что у простого народа в России сердце чрезвычайно доброе и много у них практического здравого смысла»18.
Или взять, например, «Воспоминание о пребывании в Сибири»
(изд. 1861) Рутина Петрковского, который в 1846 г. решился бежать
пешком из-под Омска по дорогам и бездорожью, пробирался окраинами Вологодской губернии (он стороной миновал Вологду, где позднее отбывал наказание Аполлон Наленч-Коженевский, отец Джозефа
Конрада) и добрался до Пруссии. Царизм Петрковский считал враждебной системой, но, находясь среди русских, сделал наблюдения,
�Вопреки стереотипам
79
которые могут возмутить польского шовиниста. «Следует признать,
— писал он, — что у русского народа есть сердце поистине доброе,
христианское и милосердное. У русского мужика должно совсем ничего не быть, чтобы он милостыню не подал; а если есть у него хоть
кусок хлеба, то он им всегда с ближним поделится. С этой точки зрения, люди и народы, которых зовут варварами, намного превосходят
людей и народы, которых называют цивилизованными»19. На страницах его воспоминаний читатель найдет множество сведений о человеческих жестах, о бескорыстной помощи, об умении сочувствовать,
которые он наблюдал и испытал на себе во время своего путешествия.
Подобные небанальные замечания относительно людской доброты присутствуют на многих страницах и других дневников и мемуаров. И они — не менее, чем свидетельства страданий и боли — достойны нашей памяти и наших чувств.
(Перевод О. Лешковой)
П ри м е ч а н и я
1
2
3
Из более ранних работ я имею в виду работу Михала Яника: Janik M.
Dzieje Polaków na Syberii. Kraków, 1928; а из более новых или самых
последних: Kuczyński A. Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturowa. Wrocław, 1993; Nowiński F. Polacy na Syberii
Wschodniej: zesłańcy polityczni w okresie międzypowstaniowym. Gdańsk,
1995; Śliwowskа W. Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik biograficzny. Warszawa, 1998; Idem. Ucieczki z
Sybiru, Warszawa, 2008; далее: Kaczyńskа E. Syberia: największe więzienie
świata 1815–1914. Warszawa, 1991; Trojanowiczowа Z. Sybir romantyków.
Poznań, 1992 (wyd. II — 1993); в подготовке материалов принимал участие Ю. Фечко. См. также: Chrostеk M. «Jeśli zapomnę o nich...» Powikłane losy polskich więźniów politycznych pod zaborem rosyjskim. Kraków,
2009. Синтетический обзор сибирской тематики в польской литературе
XIX в. представили З. Троянович и Ю. Фечко в статье: Syberia // Słownik
literatury polskiej XIX / Pod red. A. Kowalczykowej i J. Bachórza. Wrocław,
1991 (и последующие издания).
Trojanowiczowa Z. «Jej dzieje na Sybirze...» Wstęp do antologii // Sybir romantyków. S. 48–49.
Chrostek M. Op. cit. S. 346. Обширный фрагмент под названием «Край,
благоприятный для поляков» (С. 315–362) является составной частью
книги М. Хростека о польских политических заключенных в России в
XIX в.
�80
Юзеф Бахуж
4
Pamiętnik dra Benedykta Dybowskiego od roku 1852 do roku 1878. Lwów,
1930. S. 35.
Я писал об этом в книге: Realizm bez «chmurnej jazdy». Studia o powieściach Józefa Korzeniowskiego. Warszawa, 1979. S. 52–69 et passim, а
позднее в исследовании: Sprawa kupca Suzina, czyli Rosjanie w «Lalce» i
niektórych innych utworach Bolesława Prusa // Spotkania z «Lalką». Mendel
studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa. Gdańsk, 2010. S. 210–212.
Об этом идет речь в «Домашней хронике» («Kronikаdomowа»), изданной позднее по рукописи под названием: Silva rerum. Wspomnienia i
zapiski dzienne z lat 1830–1881 / Oprac. i wstęp. poprzedził Z. Sudolski.
Współpraca: I. Najda. Warszawa, 2000.
Salinger J. Etapem z Warszawy do Krasnoufimska (1863–1864) / Oprac. tekstu, wstęp i przypisy J. i M. Rokoszowie. Kraków, 1983. S. 49–50.
Sieroszewski W. Dzieła. T. XVI. Varia. Pamiętniki i wspomnienia / Redakcja:
A. Lam, J. Skórnicki. Kraków, 1959. S. 211.
Ibidem. S. 211.
Pobyt na Syberii Rafała Błońskiego przez niego samego w Rzymie opisany
w 1865 r. Wydanie drugie, poprawione. Kraków, 1873. S. 25.
Стоит упомянуть, что «ссыльная страничка» — однако тоже без брани
в адрес русских — есть и в биографии ее сына, Зыгмунта Шенсны Фелинского, который, будучи архиепископом Варшавским в 1862–1863 гг.,
стремился остудить повстанческие настроения, однако царские власти
оценили его позицию как недостаточно верноподданническую и приговорили его к высылке в Ярославль. Там он находился 20 лет, после
чего ему было разрешено выехать в Галицию. В 2009 г. Фелинский был
канонизирован Папой Бенедиктом XVI.
Felińska E. Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i w
Saratowie. Wilno, 1852. T. 1. S. 89–90.
Ibidem. S. 348.
Ruciński J. Konarszczyk 1838–1878. Pamiętniki zesłania na Sybir. Lwów,
1895. S. 16.
Ibidem. S. 20.
Ibidem. S. 70–71.
Ibidem. S. 182–183.
Zapałowski W. Polacy i Rosjanie // Etapami na Syberię. Obrazy i wspomnienia. Antologia. Warszawa, 1916. S. 147.
Pamiętniki z pobytu na Syberii Rufina Piotrowskiego. Poznań, 1861. T. 3. S.
128.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
�Людмила Будагова
(Москва)
Чехи между
81
поляками и русскими:
деятели чешского
национального
возрождения о польском
восстании 1830–1831 гг.
Куда ты завел нас? —
лях старый вскричал.
Туда, куда нужно, —
Сусанин сказал…
K. Рылеев
Будагова Людмила Норайровна — доктор филологических наук, Россия, Мос
ква, Институт славяноведения РАН
Эпиграф к статье для сборника памяти Виктора Александровича Хорева перенесен из тезисов доклада к конференции,
посвященной его 80-летию. Через каких-то
пару месяцев Виктора Александровича не
стало… Однако при том, что между тезисами и статьей возник скорбный рубеж,
при том, что один текст писался «до», а
другой «после» него, я не стала отказываться ни от эпиграфа, ни от его толкования. Пусть чуть легкомысленное по форме, оно отражает ту инициаторскую роль,
которую играл В. А. Хорев в деятельности
Института, занимая в трудные годы «перестройки» (страны, общества, науки), все
еще продолжающейся, пост заместителя
директора нашего учреждения и заведующего Отделом филологии.
Разъясню сначала осовремененный
смысл двух строчек из думы «Иван Сусанин» Кондратия Рылеева, пришедших на
память и вызвавших ассоциацию (правда,
в отличие от первоисточника, вполне жизнеутверждающую) с нашей научной работой и путеводной ролью Виктора Александровича в ней. От поэмы Рылеева о
подвиге костромского крестьянина, который, взявшись провести польских захватчиков к юному царю Михаилу, заводит их
в болотную трясину, они, если переосмыс-
�82
Людмила Будагова
лить персонажей короткой цитаты, способны перенести нас в современность. Под ляхом (не обязательно «старым») может выступать любой институтский литературовед (не только полонист), но под Иваном
Сусаниным, однако цивилизованным и благожелательным к публике,
ведомой непроторенными путями, — лишь Виктор Александрович
Хорев. В переосмыслении не нуждается вопрос «Куда ты завел нас?»
и, что самое важное, ответ. Совсем не в болото, а именно «туда, куда
нужно» всегда заводили и продолжают вести нас многие инициативы
этого замечательного ученого, умелого руководителя, надежного друга многих из нас.
Вот и меня к заявленной в статье теме привела работа над проектом «Русский человек и Россия в славянской литературе, фольклоре и
документалистике», прямо связанным с имагологией, которая с большой творческой отдачей начала изучаться в нашем Институте (и не
только литературоведами!) по инициативе Виктора Александровича.
***
Польско-русские конфликты всегда волновали славянский мир,
в частности, деятелей чешского национального возрождения, c большим вниманием относившихся и к русским, и к полякам. Подневольные граждане Австрийской империи связывали с Россией надежды на
освобождение, а в русском фольклоре и литературе видели источники
питания и опору для становления и развития литературы своей, национальной. Чехов вдохновлял и культурный опыт близкого соседа, польского народа. Их увлекали далеко не только его krakowiaczki и polki,
подхваченные чешскими селами и городами, но в первую очередь —
польский романтизм, на который во многом ориентировались чешские
поэты. Идея славянской взаимности, весьма популярная на протяжении всего ХIX века, тоже способствовала неравнодушному отношению
чехов к периодически обострявшимся межславянским распрям. В их
трагическом ряду — и антирусское восстание поляков, об отношении к
которому деятелей чешской культуры пойдет речь в этой статье.
Восстание началось 29 ноября 1830 г. с ночного нападения группы польской молодежи на резиденцию царского наместника в Царстве
Польском, великого князя Константина, а закончилось 7 сентября 1831 г.
взятием генералом Паскевичем мятежной Варшавы. Польское войско
было вытеснено в Пруссию, где оно и сложило оружие, часть его разоружилась на австрийской территории. Последние польские бастионы
сдались в начале октября. Видные участники восстания стали спасаться бегством на чужбину. «Польское восстание 1830–1831 гг. конечно же
�Чехи между поляками и русскими...
83
глубоко взволновало сознательную часть тогдашнего чешского общества; у молодежи оно вызвало горячие симпатии, однако старшие восприняли его — с полным на то основанием — как несчастье»1.
Действительно, отношение чехов к противоборствующим участникам конфликта было неоднозначным. Многие из начинающих в ту
пору литераторов, среди которых были Карел Гинек Маха (1810–1836),
Йозеф Ярослав Лангер (1806–1846), сочувствовали полякам, переживали разгром их восстания, осуждали русского царя. Однако в чешской среде раздавались и упреки в адрес строптивого польского народа, и призывы к соотечественникам не принимать сторону ни русских,
ни поляков, поскольку одинаково «хороши» и те и другие, а выступать
в роли миротворцев. Находились люди, чье отношение к полякам менялось с положительного на отрицательное — то ли искренне, то ли
из конъюнктурных соображений, из-за боязни впасть за их поддержку
в немилость у власти. К этим людям, как будет показано ниже, относился и такой человек незапятнанной гражданской репутации, как
Франтишек Ладислав Челаковский (1799–1852), известный поэт и собиратель славянского фольклора.
Отношение чехов к польскому восстанию 1830–1831 гг. интересно с разных точек зрения. В чешском восприятии противоборствующих сторон открывались не только явные, но и некие скрытые черты
двух народов. Отношение чехов к русско-польским конфликтам многое говорило и о них самих. В своей совокупности все это проливает
свет на далекую эпоху, позволяет живо ощутить ее атмосферу.
Начнем с деятелей чешской культуры, не скрывавших своего
сочувствия к польским повстанцам и уже тем самым встававших в
оппозицию к властям Австрийской империи, чьи великодержавные
интересы исключали всякую лояльность по отношению к свободолюбию подданных наций, входивших не по своей воле в ее состав.
Самым известным и харизматичным среди современников польского восстания, сочувствующих полякам, был поэт Карел Гинек
Маха, большой поклонник польского романтизма. Махе как представителю подневольного народа империи Габсбургов была близка и понятна их мечта о независимости родной страны, поделенной в XVIII в.
между Австрией, Пруссией и Россией. Известно, что Маха, несмотря
на свою бедность, оказывал — вместе с друзьями — материальную
поддержку польским беженцам, пробиравшимся после разгрома восстания через Чехию в Западную Европу. Интерес к польскому народу
и его культуре заставляют студента Пражского университета изучать
польский язык. «Утром Свобода передал мне привет от Веселского из
Глинска; потом вместе с Квадратом, который вернул мне конспекты
�84
Людмила Будагова
по философии, мы учили польский», — записывает он в дневнике 5
октября 1835 г.2 На следующий день в том же дневнике Маха возмущается юным собратом по перу Штульцем, вроде бы согласившимся
написать оду в честь русского царя, посетившего тогда вместе с императором Фердинандом Прагу, хотя «этот Штульц сначала бранил его,
не переставая… и проклинал за польский народ»3. Случайно или нет,
но Маха чуть раньше фиксирует в своих записях, что «турецкие музыканты», которых он вместе со своей Лори слушал «поздно вечером»
18 сентября 1835 г., играли, проходя по пражским улицам, и «польский
марш»4. Однако вполне явным и сознательным актом солидарности
Махи с польским народом можно считать элементы структуры его
романтической повести «Цыгане» (1835, изд. 1857), где каждую главу
предваряет эпиграф — цитата из произведений польских авторов.
Искреннее сочувствие полякам проявлял и Йозеф Ярослав Лангер, ныне практически забытый поэт, сатирик и лирик, отразивший
переход чешской поэзии от подражаний западному искусству к ориентации на славянский фольклор. Последователь Франтишка Ладислава
Челаковского, он представлял народно-фольклорную линию чешского романтизма, продолженную Карелом Яромиром Эрбеном.
Маха, если не считать польских эпиграфов к главам повести
«Цыгане», свои пропольские настроения оставлял за пределами литературного творчества, реализуя их в поступках и дневниках. В поэзии
и прозе поэт-романтик байронического типа сосредотачивался на экзистенциальных, а не национальных проблемах.
Лангер же выражал сочувствие к полякам в своих стихах. Самое
известное его произведение на польскую тему — аллегорическое стихотворение в духе народной песни «Чешские леса», опубликованное в
1831 г. в журнале «Чехослав», который Лангер в 1830–1831 гг. редактировал вместе с друзьями. Обращаясь к чешским горам и лесам, зеленеющим, но не цветущим и бесплодным, поэт вспоминает «нашу деревню в ярме», смиренно несущую свой крест, ее беды и мольбы о милости
Божьей и надежды, спасающие от отчаяния. Поэт призывает родные
леса «зеленеть и дальше» в ожидании «ветра с востока». Пусть он несет с собой тучи, но их не надо бояться, в них — не громы и молнии, а
милость Божья, благословение небес. Росистыми каплями дождь прольется на землю, давая жизнь всему, что «сейчас высыхает и гибнет»:
I protož, vy lesiny,
jen se zelenejte,
a vy, milí bratrové,
jenom nezoufejte;
�Чехи между поляками и русскими...
85
vždyť pak nám i zázrakem
Bůh pomoci může,
a na jedlích porostou
lilie a růže.
Стихи, где сквозь картины природы проглядывало прославление
живительной силы польского восстания, не прошли для автора бесследно. «Много шуму наделало стихотворение Лангера “Чешские леса”
в журнале “Чехослав 5”, которое Янек Неедлый (это чудовище!) объявил политически неблагонадежным и подстрекательским», — сообщал
в письме своему другу Ф. Л. Челаковский5. Автору стихов, вопреки обещаниям, было отказано в предназначенной ему должности редактора
журнала «Йинде а Ныни». Это стало новым ударом для Лангера, выдворенного полицией в 1830 г. из Праги в родное местечко Богданеч по
просьбе деспотичного отца, недовольного сыном, который предпочел
литературную карьеру университетскому образованию6.
Сочувствуя полякам, ни Маха, ни Лангер не испытывали неприязни к русскому народу. В дневнике К. Г. Махи промелькнуло осуждение не народа, а царя России. Этот дневник свидетельствует не только
об интересе Махи к польскому языку, но и о его знакомстве с языком
русским. Описывая, как 16 сентября 1835 г. он «бродил по холмам над
Новоместским кладбищем», откуда открывается «прекрасный вид на
Прагу и горы вокруг», Маха добавляет: «Позже на кладбище, на надгробье Елены Телепневой, я прочитал надпись по-русски: “Знаем, что
земля не способна чувствовать вместе с нами, и все же грустно осознавать, что когда-нибудь чужая земля примет прах наш”»7.
Лангер усердно изучал как польский, так и русский язык. Он
делал выборочные переводы «Древних русских стихотворений», частично собранных в XVIII в., а частично сочиненных казаком Киршей
Даниловым, сам писал не только стихи в стиле польских «краковячков» и сербских песен, с которыми познакомился по трехтомной антологии «Национальной славянской поэзии» (1822–1827), составленной
Челаковским, но создавал и произведения в духе былин и других жанров русского народного творчества. Стойкий интерес к последнему
пробудил тот же Челаковский, чей сборник стихов «Эхо русских песен» (1829) Лангер относил к «наивысшим достижениям нашей нынешней поэзии»8. К стихам более позднего сборника того же автора
«Эхо чешских песен» (1839) Лангер отнесся отрицательно, восприняв
их как пародии на чешскую поэзию.
Известный поэт и собиратель славянского фольклора, властитель
дум многих своих современников, Ф. Л. Челаковский с большим вни-
�86
Людмила Будагова
манием следил за польским восстанием 1830–1831 гг., обмениваясь в
переписке с друзьями информацией и обсуждая самые разные вопросы, связанные с Польшей и поляками. Так, например, один из его приятелей Камарит рассказывает ему в письме от 3 июля 1831 г. о печальной
судьбе мелкопоместного помещика из «русской Польши», некоего Яна
Кожуховского, который приехал вместе с женой и сыном в Вену, там
заболел и больным отправился в Карловы Вары, но, не доехав, умер
в Таборе, где его и похоронили; потом Камарит пишет, как хотел бы
поближе познакомиться с его сыном 18–19 лет, «полным огня и остроумия», читающим наизусть Мицкевича, «что-то о борьбе поляков за
свободу», и о том, как тот вернулся в Вену, где умерла его мать9.
Другой корреспондент, Властислав Планек, 15 ноября 1831 г. напоминает Челаковскому его же слова («Помните, в самом начале смуты вы
писали, что для поляков наступает Белогорская пора») и подтверждает
их, обвиняя во всем Николая I. Не умалчивает он и об оказавшихся в
Страконицах генералах разгромленной польской армии, которым ктото из местных помог перебраться в Баварию, «где их приняли очень
приветливо»10. В письме, отправленном почти через месяц (13 декабря
1831 г.) из тех же Страконец Планек снова затрагивает тему польских
беженцев, известных и неизвестных участников восстания, перебирающихся на Запад: «Наш город переживает большую радость: в нем все
время появляются польские офицеры. Первыми проехали Ромарино,
Лангерман, Шнайдер, за ними 15 офицеров низших чинов, потом Младый и Уминский, а они еще обещают, что очень скоро опять пойдут
через нас на русских, и наши жители должны будут им помочь»11. В
письме от 11 апреля 1835 г. Планек вспоминает молодого пражского
врача Лешановского, хорошо известного в патриотических кругах еще
с тех пор, когда он самоотверженно заботился о польских беженцах,
оказавшихся после разгрома восстания в Праге12.
Из местечка Клокоты в более раннем письме от 13 сентября
1831 г. Челаковскому сообщают о долетевших из Праги слухах, что
чешские крестьяне должны хранить косы, вилы и другие орудия труда не дома, а оставлять их в управах. Совершенно очевидно, что слухи
эти отражали опасения австрийских властей, что и их империя не застрахована от восстания подданных. Перечисление вроде бы незначительных, но красноречивых фактов и реалий, связанных с польским
восстанием, сохранившихся в переписке неравнодушных людей, можно было бы продолжить.
Сочувствуя восставшим, Франтишек Ладислав Челаковский
смотрел на происходящее в русской части Польши не с националистической, а с общегуманистической и славянофильской точки зрения,
�Чехи между поляками и русскими...
87
считая, что отделение польских земель от Российской империи не навредило бы русскому народу и пошло бы на пользу всему славянству,
укрепив его и ослабив позиции немцев в Европе. В письме Камариту
от 17 января 1831 г. он пишет: «Говорят, что из частиц Польши могло
бы снова сложиться Королевство Польское. Пусть, я не против: в Европе стало бы одним славянским двором (метафора страны. — Л. Б.)
больше, и русские при этом бы ничего не потеряли. Случись это, я
пошел бы туда служить профессором или кем-нибудь еще, чтобы выкинуть оттуда всю немчуру»13.
Растерянный от множества слухов и сообщений, которые «день
изо дня разносятся» по Чехии «о поляках и русских», Челаковский
уверен в одном: что «и с той и с другой стороны льется много крови,
нанося огромный вред всему славянскому народу!». И все это — «ради
высокомерной мыслишки одного человека! — пишет он своему другу
12 марта 1831 г., проникаясь все большим сочувствием к полякам, гордостью за этот народ и осуждая Николая I. — Вместо того чтобы уступить полякам и дать им то, что им принадлежит по праву, он скорее
пошлет на смерть части отборных войск с обеих сторон. Разумеется,
русские сейчас не уступят полякам, но даже если бы они ради этого пожертвовали всем, что им останется? Обнищавшая земля, измученное
войско, нация рабов, которая всегда будет ненавидеть своих угнетателей. Бедный польский народ! История не сохранила памяти о другом
народе, который бы с таким героизмом защищал свои права в неравной — по числу и силе противника — борьбе за свои права, как этот!»14
В своем послании другу от 15 октября 1831 г., т. е. уже после взятия
Варшавы генералом Паскевичем, Челаковский писал: «С поляками все
кончено. Бедняги! Жалко мне их, они заслуживают лучшей доли»15.
Симпатии к польским повстанцам и, как следствие этого, публичная критика Челаковским в газете «Пражске новины» в 1835 г.
русского царя за грубое обхождение с пришедшей к нему на прием
делегацией поляков отрицательно сказались на его карьере. По требованию русского посла, Челаковского в конце 1835 г. лишили места
редактора «Пражских новин» и журнала «Ческа вчела», уволили из
Пражского университета, где он был только что утвержден в должности профессора чешского языка и литературы. В 1838 г. Челаковский
становится библиотекарем у князя Р. Кинского, который покровительствовал деятелям культуры. В 1842 г. он переезжает во Вроцлав (в
то время — Вратиславль, прусская часть разделенной между тремя
государствами Польши) и занимает там в университете должность
профессора славянской филологии. Через семь лет, в 1849 г., его приглашают в Пражский университет, где он остается до конца жизни. В
�88
Людмила Будагова
письмах из Вроцлава тоже затрагивается польская тема, но звучит она
в иной, чем прежде, тональности. Поляки из объекта восхищения и сочувствия превращаются в объект критики и раздражения: «С народом
этим надо обращаться как с углем, т. е. держаться от него подальше;
потому что, если не сгорите, то запачкаетесь. Теперь я познал поляков,
как никто другой. О них можно пропеть такое: Polacy, Polacy, wszyscy
są jednacy — иными словами, они не намерены ни строить, ни чтото исправлять, ни стремиться к высоким целям, а хотят разрушать,
биться головой об стену и многое о себе понимать». Ругая поляков,
известный славянофил в том же письме из Вроцлава от 29 мая 1843 г.
неожиданно выдает панегирик австрийскому правительству: «Наша
политика не может быть иной, чем всем сердцем держаться австрийской власти. И поскольку она до сих пор удовлетворяла все наши требования, мы будем использовать и дальше то оружие, которым до сих
пор воевали, а именно, верность и выдержку, и путь законности, и нет
сомнения, что власть эта со временем еще больше склонится в нашу
пользу. Все другие химеры, известные, прежде всего, нашей молодежи, надо разоблачить и выкинуть из головы»16.
Итак, вместо «героического польского народа» в сознании
Челаковского (а может быть, только в его корреспонденции, бумагах,
в том, куда может проникнуть сторонний взгляд?) утверждается совсем другой, отрицательный образ поляков, с которым соседствует
непривычный для чешского патриота эпохи национального возрождения позитивный образ империи Габсбургов. Что стоит за всем этим:
возрастная эволюция (созревание, деградация?) личности, результат
обретенного жизненного опыта, или отзвук травмы от понесенного
некогда наказания за публичную критику Николая I, грубо обошедшегося с депутацией подневольного народа, реверанс перед имперской
властью, стремление обезопасить себя от подобных неприятностей?
В том, что в перемене отношения Челаковского к полякам сыграли свою роль чисто житейские причины, а именно недовольство
учителя своими учениками, говорит его письмо Йозефу Юнгману от
29 ноября 1842 г. Посылая с «чужбины» выражение «глубокого уважения» знаменитому филологу, знающему толк в педагогике, Челаковский делится с ним своими переживаниями, пишет о «неодолимой
тоске по Праге», готовности к трудностям, о предвкушении того, что
и на новом месте его ждет такая же благодатная почва для преподавательской деятельности, «какую он нашел бы в Праге, если бы имел
счастье быть там профессором славянской филологии». Но ожидания
не оправдались. «В горсточке моих слушателей больше всего поляков,
а с этим народом гораздо тяжелее добиться каких-то целей, чем даже с
�Чехи между поляками и русскими...
89
железными немцами… (Наш Пуркине остроумно называет это stupor
polonius)»17.
А что стояло за демонстрацией верноподданнических чувств к
империи Габсбургов — искренность или дипломатия? Может быть,
Челаковский вдруг ощутил себя (или стал) патриотом не только славянства, но и Австрийской империи, поверил в возможность нормального существования, развития и процветания славянских народов в ее
пределах? А может быть, просто потому, что захотел не столько быть,
сколько прослыть благонадежным, чтобы спокойно жить на родной
земле, не подвергаясь репрессиям. Ведь для того, чтобы приносить
пользу своему народу, совсем необязательно поднимать восстания…
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Perwolf J. Vývin idey vzájemnosti u národův slovanských. Praha, 1867.
S. 65.
Дневник К. Г. Махи 1835 года / Приложение к статье: Будагова Л. Н.
Целомудренный Эрос // Национальный Эрос и культура. В 2 т. М.,
2002. Т. 1. С. 314.
Там же. С. 315.
Там же. С. 308.
Недатированное письмо, скорее всего, относится августу–сентябрю
1831 г. См.: Korespondence a zápisky Františka Ladislava Čelakovského.
Sv. 2. Dopisy z let 1829–1842. Praha, 1910. S. 187.
Cм.: Rieger K. Úvod // Josef Jaroslav Langer. Výbor básní. Praha, 1912.
S. 11.
Дневник К. Г. Махи 1835 года. С. 306–307. Надпись приведена авто
ром дневника по-чешски, курсив его.
Spisy Jaroslava Langera. Díl druhý. V Praze a ve Vídni, 1861. S. 15.
Korespondence a zápisky Františka Ladislava Čelakovského. Sv. 2. S. 178.
Ibidem. S. 208.
Ibidem. S. 213.
Ibidem. S. 371.
Ibidem. S. 134.
Ibidem. S. 154.
Ibidem. S. 201.
Ibidem. Sv. 3. S. 119.
Ibidem. S. 58.
�Демонические «фемины»
с неземными телами —
Беата ВаленчукДейнека
(Седльце)
женский модернистский
дискурс на примере
избранных произведений
Брониславы Островской
Модернизм, так же как романтизм,
очень часто обращался к народной культуре. Во времена «Молодой Польши» славяне
и их история интересовали писателей, обращавшихся к их прошлому, верованиям,
культам, магии, фантастике и трансцендентому миру. В равной степени, согласно
принципам символизма и синкретизма,
они интересовались разнообразными воплощениями женственности, мифами о
любви или поэтическим видением женских
сил природы, используя это в своем творчестве1. Женщина и ее прекрасное, полуобнаженное тело в модернизме становятся
неисчерпаемым полем для эксперимента
и исследований, предметом притяжения и
проклятия2. Стоит также упомянуть, что
значительное количество женщин-авторов
поднимало темы, близкие женской природе — относящиеся к сфере биологии, трансцендентальности, доминирования. Данный
феномен особенно заметен в их поэзии, в
эротических и любовных стихотворениях,
в репрезентации неизведанных сил природы, в текстах о пространстве и формах
мира (реальности), находящихся вне схем,
а также в выражении собственных комплексов. Поэтессы гораздо смелее говорят
о своих желаниях, мыслях, вожделениях.
К группе подобных авторов принадлежит и Бронислава Островская (1881–
Валенчук-Дейнека Беата /
Walęciuk-Dejneka Beata —
Dr., Польша, Седльце, Университет естественных и гуманитарных наук
�Демонические «фемины» с неземными телами...
91
1928) — поэтесса камерной интимности, эмоциональная и впечатлительная в творчестве, использующая в своей поэтической программе
традиционные литературные образы. Чтобы адекватно охарактеризовать женщину, Островская прибегает к представлениям, понятиям,
символам, черпаемым из различных кругов культуры: религиозных,
народных, мистических и философских. Принятый ею подход к жизни и
литературе, связанный с необходимостью возвращения к религиозным
и культурным корням, относится также к поиску гармонии, в том числе
и в сфере чувственной любви, и в сфере сакрального. Как пишет М. Подраза-Квятковска, «симбиоз чувственной любви и sacrum был темой
трудной и рискованной: справились с ней Островская и Завистовская»3.
Сосредоточимся на различных реализациях данного женского
дискурса, который в текстах Островской представлен как любовный,
трансцендентальный, фантастический мир людей, явлений, вещей.
Предметом анализа и интерпретации будут произведения, в которых
с помощью существ из морских глубин (осьминог из сборника «Жертвенные платки» [«Chusty ofiarne»]), демонических «фемин» с неземными телами (баллада «Танцовщица из Камбоджи») или же привидений (фантомов) из мира народной фантазии и фольклора (баллада «Русалки») Островская старается найти «адекватные эквиваленты для
сложной материи чувств, которыми женщины одаривают этот мир»4.
Эпоха модернизма, как известно, с одной стороны насыщена образами плоти, фигурами похоти, подчиняющейся фатальности природы,
мифу Андрогина, образу Саломеи и гедонистической любви5, с другой
же — странным восхищением стихией воды. В пластическом искусстве, как заметил Мечислав Валлис, сецессия «обладала особенным
притяжением к воде <…> и всему, что связано с ней <…> Любимыми
животными были зайцы в воде или вблизи воды, рыбы, жабы, улитки,
морские звезды, медузы. Вспомним также изображаемых художниками эпохи модернизма водяных божеств: нимф, русалок, водяных. <…>
В человеческом мире модернизма повсеместно господствовала женщина, почти полностью исключая участие мужчины. В произведениях
художников-модернистов женские образы, вода и растительный мир
связаны и сплетены между собой»6. Также в поэзии данного периода
можно заметить преобладание акватических фантазий7.
Особого внимания заслуживают буйный эротизм, вожделение,
похоть, «в которой персонифицированная, аморальная, как сама природа, посланница сил гораздо более могущественных, чем она сама,
существо, вызывающее желание и страх, является ядовитым, отравляющим цветком, <…> осьминогом <…> вампиром»8, чувственным
существом извне, искушающим и притягивающим мужчин. Именно в
�92
Беата Валенчук-Дейнека
таком ключе создано стихотворение Островской «Осьминог» из поэтического сборника «Жертвенные платки»9. Главная героиня — символ инфернальных сил — обитает в морских глубинах, «zatulona w
pian puszystych błam». С одной стороны, она представлена как искушающая русалка, с другой — как разрушительница, «поглощающая сила
природы»10, представляющая угрозу для рыбаков:
A na głębinach tchem rusalnych wir
Wolne żagle w zdradny ciągnie wir <…>
Ode brzegu aż po brzeg głębiny
Snuje władne mych przędz pajęczyny.
(А в глубинах, вихрь вдыхая,
Свободный парус тянет в вихрь обманный <…>
От брега аж по брег глубинный
Ткет мою властную пряжу-паутину.)
Поэтический монолог женщины-осьминога является оправданием величайшего вожделения, несущего гибель из-за нереализованных
любовных желаний. В рыбацких легендах осьминог часто является
причиной смерти. Как отмечает Анна Выдрыцка, «осьминог (в нашем
случае женщина) был наполнен жаждой разрушения. Зловещий и проклятый, он становится орудием импульса к уничтожению». Женщина,
одевающая маску агрессивного существа, трагическая, решительная,
предстает как «посредник разрушения, что, возможно, соотносится с
женским сознанием, отражающим конфликты эпохи»11. Женской страсти в произведении сопутствуют метафоры огня, тепла, жара, голода:
I na tonie co mym ogniem gorą
Prężę ramion mych głodnych ośmioro
I przyczajam w głębokościach wód
Mój wieczysty nienasytny głód.
(И в глубине, что моим огнем горит,
Напрягая мои восемь голодных щупалец,
Затаив в глубинах вод
Мой вечный ненасытный голод.)
Для более полной характеристики образа «литературного» осьминога-женщины стоит обратиться к биологической науке, согласно
которой осьминог принадлежит к классу моллюсков и ракообразных,
�Демонические «фемины» с неземными телами...
93
из числа головоногих моллюсков, обитающих на дне морей. Он имеет
восемь конечностей, у основания которых начинается мантия. Живут
осьминоги в основном обособленно, за исключением периода производства потомства. Встревоженный осьминог может менять окрас или
скрываться под пеленой чернильного облака12. В символике культуры
самка-осьминог обладает похожим значением, что и мифический дракон-кит, паук или спираль, — означает жизнеспособность, созидание,
развитие, центр, иногда потусторонние силы13. Число «восемь» отсылает нас к космическому миру и равновесию, совершенству, является
символом надежды14.
Поэтическая самка-осьминог, обитающая в морских глубинах,
— это изголодавшееся, вечно ненасытное существо. Конечно же,
имеется в виду метафорический голод. Приведем еще раз слова Выдрыцкой: «Любовная тоска была возведена до измерения голода, что
отчетливо указывает на импульсивный характер любви; даже волны
она превращает в огонь. <…> Самка-осьминог становится видом отряда богомоловых — другого популярного образа в символическом
бестиарии»15. Самка богомола обыкновенного, по примеру самки
овода съедающая после спаривания своего партнера, соотносится с
типом женщины красивой и испорченной одновременно, страстной
и злой, искушающей и разрушающей, циничной, с женщиной, которая может разжечь огонь страсти и вожделения, привести к гибели.
Мужчина, попавшийся в ее сети, страдает от любви к ней, одержим
ею и готов принять те условия, которые она назовет16. Согласно биологии, богомол обыкновенный представляет собой хищное насекомое, он отлично сливается с растительным окружением и поджидает
там свою жертву. Даже молодые особи сразу же после того как вылупились, становятся хищниками17.
Произведение Островской, по утверждению Стефана Лиханьского, является «способом объяснения с помощью образа и действия
в произведении <…> внутренних пертурбаций, кризисов мысли и
совести, а также состояний кристаллизации, решающих жизненных
моментов»18. Стихотворение «Осьминог» представляет собой образ,
полный внутренней динамики и напряжения, зримый, основанный
на аналогии: физиологическое и метафорическое (моллюск — человек) расстояние, отделяющее самку-осьминога от молодого рыбака,
в которого она влюбилась и по которому скучает, отождествляется
в тексте с духовным расстоянием, которое отделяет внутренний мир
человека от предмета его тоски — Бога, Абсолюта, правды, совершенства. Это два интегральных, но чужих, взаимонепроницаемых, далеких мира — человеческий и трансцендентальный19:
�94
Беата Валенчук-Дейнека
I tak czekam nieskończone wieki
Na samotny twój przelot daleki:
Rozesnuta na bezmiaru krą
Głodną żądzą czekających rąk
Bacząc, zali w zórz bławych modlitwie
Nie przypływa twe skrzydło rybitwie.
(И так я бесконечно жду
Твоего одинокого полета вдаль:
Плывущая в бесконечности льдина,
Изголодавшаяся по томящимся рукам,
Вознося к голубым звездам молитву —
Не плывет ли твое крыло чайки.)
Это пример романтической тоски любовницы по своему вымышленному идеалу, которому сопутствуют одиночество и вечное ожидание; здесь также отображены и характерные элементы несчастной
романтической любви. Поэтесса соединяет противоречивые чувства:
желание (страсть, похоть) и романтическую тоску. Этот вожделенный,
вымышленный мужской идеал будет пойман, поглощен и обречен на
погибель. И несмотря на то, что самка-осьминог / другая «фемина»
не находит удовлетворения в уничтожении, она не может бежать от
своей природы, «увековечивая характерное для мифа похоти отношение эротической доминанты: она жаждет полностью завладеть партнером. Таким образом замыкается круг эмоционального парадокса:
от природы нельзя сбежать, существуют только идеалы, иллюзия
которых приумножает страдание». Символическое пространство,
представленное в произведении, таково: водные глубины и водяные
поверхности оказываются «полем столкновения мифа похоти с реминисценциями романтической любви», что подчеркивает Войцех Гутовский20. Даже природа, описываемая в картинах широко и с размахом, включается в эти мрак, тайну и даль, соединяется с космосом,
вожделением, с безответной любовью.
Островская восприняла модернизм как собственную поэтику и
литературную философию. При этом, реализовывая постулаты своей
программы, она должна была еще глубже проникнуть в его сущность,
достигая таким образом фундаментальных истин романтизма. Романтизм же с его идеологией, философией, литературностью, программностью, поэтикой Островская восприняла в собственной, персональной версии, и восприняла его как вызов. Как подчеркивает Стефан
Лиханьский, Бронислава Островская является неоромантиком по вну-
�Демонические «фемины» с неземными телами...
95
треннему глубокому убеждению, современный ей мир она измеряет
мерками романтических мифов21.
Продолжением содержащихся в «Осьминоге» тезисов является
неоромантическая баллада «Танцовщица из Камбоджи». Название и
содержание явно перекликаются с модернистским образом Саломеи, а
также с популярными среди писателей эпохи модернизма картинами
Гюстава Моро «Танец Саломеи» и «Явление». Многочисленные в то
время обращения к образу библейской жрицы служили отображению
внутренних конфликтов, чувств, желаний фигуры femme fatale. Саломея
стала в XIX в. воплощением мифа о губительной женственности, персонификацией враждебной, разрушающей силы, а также власти Эроса.
Невинная и в то же время испорченная, она представляет собой демона чувств, побеждающую самку богомола22. Не менее важен и ее танец.
Он вовлекает не только тело, но и разум, является посредником между
мирами, границей, отделяющей от внеземной реальности. В верованиях многих народов ритуалу танца приписывали функцию языка богов,
форму божественной деятельности23. Именно через танец в модернизме
можно было показать жажду смерти и разрушения, стремление к полной
деструкции, катастрофе, инструментом которого становилась женщина.
Подобную ситуацию мы видим и в произведении Островской, и в
картинах Моро. На первой картине («Танец Саломеи») художник изобразил девушку, застывшую в танцевальной позе, одетую в богатые одеяния,
в окружении дворцовой роскоши, представленной в полном ее блеске.
Моро искусно обозначает чувственность женщины, а яркая рама усиливает впечатление. Саломея стоит на пальцах, глаза полузакрыты, правая
рука согнута, левая вытянута перед собой, как будто указывает на что-то.
Танцовщица у Островской представлена подобным же образом:
Wzniesione kiście moich rąk
Splećcie się w wian! puśćcie się w krąg!
Roztrąćcie sobą mroków próg
Gwiazdami tkan.
(Воздетые вверх кисти рук моих,
Сплетитесь в венок! пуститесь в круг!
Рассейте мрак порога
Тканью звезд.)
Была ли знакома Островская с произведениями Моро и романом
Ж. К. Гюисманса «Наоборот», ознаменованным увлечением как автора, так и главного героя (герцога дез Эссента) художественными об-
�96
Беата Валенчук-Дейнека
разами Саломеи? Картины Моро появились в 1875 и 1876 гг., а книга
была издана в 1884 г.24 Поводом к размышлению может также послужить и название стихотворения — «Танцовщица из Камбоджи».
С. Лиханьский пишет: «Здесь (т. е. в «Осьминоге». — Б. В-Д.) показан мотив контакта с точки зрения тоски по близости, показан со
стороны поражения, неполноты минутных экстазов, только на мгновение дающих иллюзию удовлетворения и тотчас превращающиеся
в предательство, никчемность, отчуждение. Данная тема, которая в
“Осьминоге” показана скорее статично — как расширенное множеством вариантов изображение одной неизменной ситуации, — в “Танцовщице” отображена динамично и конкретно»25.
Танцовщица переживает своего рода мифический экстаз, страсть,
господство. Ее сакральным танцем управляют правила любовной игры,
связанные с мифической тематикой, — мольба, страстное желание:
Ku tobie wznoszę korny wzrok…
Sprężcie się teraz w gibki łuk
Cięciwy żądne moich nóg…
Gnajcie mię w szał, szarpcie mię w wir…
(К тебе я поднимаю кроткий взгляд…
Согнитесь в гибкий лук,
Сети, жаждущие ног моих…
Гоните меня в безумие, бросайте в вихрь…),
любовный подъем:
Przebiłam niebios mrok…
Nogi me jeszcze nie dość chyże
Ręce me jeszcze nie dość giętkie
Szalone wiry nie dość prędkie…
(Пробилась я чрез мрак небес…
Но ноги мои не проворны,
Руки мои недостаточно гибки,
Безумные вихри недостаточно быстры...),
а также упадок, состояние любовного истощения:
Jak powalona palma w wichrze
Upadam w proch…
�Демонические «фемины» с неземными телами...
97
W piersiach palące czuję łzy
Łono wstrząsają śmierci dreszcze …
Gdzie Ty? Gdzie Ty?26
(Как сломанная пальма в вихре,
Я падаю в прах…
В груди я чувствую обжигающие слезы,
Лоно мое будоражит страх смерти…
Где Ты? Где Ты?)
Танцующая Саломея персонифицирует пламя наслаждения27, а
пламя (огонь) имеет в культуре амбивалентный характер, символизирует жизнь и смерть, является сакральным элементом и фактором,
провоцирующим изменения, уничтожает, но и призывает к жизни,
очищает, защищает от демонических сил28. Саломея несет в себе «сублимированное телесное наслаждение, горький и упоительный вкус
крови, а также духовную половину андрогина или хотя бы гностическое умиротворение страха перед смертью. Часто она <…> становилась <…> одержимостью мужского, женоненавистнического воображения». Ее также можно понимать и как «сконцентрированную на
собственной совершенной красоте нарциссическую девушку, которая
ищет в своем отражении глубокую правду о себе самой, своей судьбе,
в конце концов, о порядке вещей в реальности»29.
Движения и жесты камбоджийской танцовщицы полны страха,
беспокойства, внутреннего напряжения; это движения в мраке, вид таинственного tremendum, контакта со сферой святости, подтверждение существования божества и себя самого, это средство, гарантирующее правильное функционирование мира, упорядочивающее реальность и обеспечивающее космическую гармонию30. Это произведение можно причислить к «суггестивному выражению религиозного синкретизма эпохи
“Молодой Польши” либо к поискам религиозного синтеза»31. Эстетика
модернизма создала благоприятные условия для взаимопроникновения
различных видов искусства и для культурно-религиозного синкретизма.
Описание религиозного танца и связанных с ним переживаний, которые
угасают, оставляя чувство боли, потери, опустошения, в тот момент,
когда бессильное, измотанное тело танцовщицы-жрицы падает на пол в
храме, прекрасно, даже если интерпретировать его без излишнего углубления в символические образы. Это стихотворение является средством
объединения, обретения себя в мире, соединения с ним.
Для модернизма особенное значение имели традиционные верования, «русалка была символом тайны плоти, двойственности бытия,
�98
Беата Валенчук-Дейнека
возможностью пересекать границы»32. Образ прекрасной водной богини, сопутствующей праславянской Живе, в более широком контексте связан с созреванием, плодородием, энергией. Само слово русалка,
как пишет Витольд Клингер, происходит от лат. Rosalia — праздник
роз, который ассоциируется с весной, полнотой жизни, рождающейся
энергией. Исследователь соотносит происхождение русалок с культом греческих нимф, с дохристианским праздником в честь богини
Карны, которой приносились в определенный день жертвы из роз, а
также с верованиями, распространенными на территории Беларуси,
Украины и России33. Здесь стоит еще раз сослаться на восточнославянскую мифологию, которая гласит, что русалки — это женские демоны
и враждебные водные существа, реже лесные или полевые, предстающие в образе прекрасных, обнаженных или одетых в белые одеяния
девушек с распущенными волосами, очаровывающих прохожих. Русалки заигрывают с мужчинами и обманывают их, искушают своими
прелестями, часто приводя к гибели34.
Эти стройные, с чудесными формами женщины, обманывающие
мужчин сверканием своего тела, заполонили страницы неоромантических произведений. Такой же образ женских существ, а также акватической стихии представила Бронислава Островская в балладе
«Русалки»35. Стихотворение имеет отчетливое романтическое эстетическое и балладное направление, однако ему не чужда также и модернистская концепция «чувственного (панэротического) космоса»36.
Место действия произведения, тихое одинокое озеро / среди безлюдной лесной полянки, хорошо соответствует странноватой романтической ауре таинственности. Озеро таит в себе отдельный подводный
мир: в глубине озера проклятое государство, странное водное королевство русалок.
Королевство как акватическое пространство, в котором утопленницы скрывают свое обольстительное тело, является пространством, удаленным от мира, отчужденным, это безжизненная сфера,
сфера холода, неподвижности, изоляции. В этом королевстве свой король: в глубинах этого озера <…> живет единственный властелин
на распутье. В этой стране русалок все иное, опасное, а жители ее
живут вдали от людей, одиноко, пробуждая беспокойство, нарушая
при этом границы общепринятой нормы. Водная гладь являет собой
символическую и физическую границу между двумя совершенно
по-разному созданными реальностями: действительной, общеизвестной, собственной, той, которая вверху и по которой тоскуют русалки — и непознанной, фантастической, сказочной, той, которая внизу
и по которой тоскуют люди. В этом мрачном мире гарем русалок про-
�Демонические «фемины» с неземными телами...
99
водит дни и ночи во дворце своего властелина, дрожа перед королем с
его строгостью и демоничностью, бледнея и угасая от страха: король
<…>, у которого в глазах только холод и ужас <…>, или: дрожа у
ног железного короля, / как рой рабынь, одурманенных страхом. Ежедневно пребывая в комнатах короля, они имеют возможность расслабиться, отдохнуть, только когда «засыпают и видят сны. Их жизнь как
будто сон наяву, сомнамбулический транс. Пробуждение не гарантирует возврата к прошлой жизни, а лишь усиливает тоску по ней»37.
Приведем более обширную цитату — фрагмент баллады:
Leżą tak senną rzeszą i bezwładną,
Onych rusałek ciała roztęczone:
Czasem im blaski na włosy upadną,
Strojąc je w dziwnej światłości koronę <…>
Śnią się rusałkom jakieś białe chaty,
Pszczoły gorliwie brzęczące na lipie,
Na strzesze wianek jaskółek skrzydlaty,
Konie przy studni żórawianym skrzypie <…>
I każą tęsknić do dawnego życia
Więc do tej ziemi tęsknią z wodnej toni,
Kędy im słońce świeciło przed laty: <…>
Gdzie wiosną w sadach kwietna trześń się kłoni <…>
(Лежат так сонно и бессильно
Разнеженные тела русалок:
Иногда свет падает на их волосы,
Украшая их удивительной красоты короной <…>
Снятся русалкам какие-то белые дома,
Пчелы, старательно жужжащие на липе,
На крыше крылатый венок из ласточек,
Лошади у колодца <…>
И велят тосковать о жизни былой,
Об этой земле они грезят на глубине морской,
О том, когда им солнце светило, как прежде <…>
Как весной в садах клонится цветущая сирень <…>)
Жизнь русалок, с одной стороны, скучна и монотонна: лежат
так сонно и бессильно, а с другой — трудна, до конца не реализована.
Их манящие, радужные тела, светящиеся наготой, жаждущие любви,
поцелуев, объятий, ничего не получают, а чувства, безумие и любовь,
которые они готовы проявлять по отношению к властелину, безответ-
�100 Беата Валенчук-Дейнека
ны, так как господин золотом утопил их глаза на дне, <…> к другой,
иной, являющейся в снах госпоже / шлет он песнь извечной тоски.
Он живет как раб своего королевства; истощенный излишком похоти, мечтает о возлюбленной светящейся, / из лучей и огня сотканной.
Этот узник сексуальной стихии тоскует по душе, воплощающей в себе
ценности, противоположные плотским чувствам.
В любовной идеализации «акватического властелина» портрет возлюбленной изображен более схематично, чем образы чувственных русалок38. Они спят, мечтают о былом, тоскуют по простой, обычной сельской жизни, забавам и хозяйству — белым домам, жужжащим на липе
пчелам, пролетающим ласточкам, лошадям у колодцев. В восточнославянском фольклоре, как мы писали выше, русалки — это утонувшие или
умершие молодые девушки или дети, которые превратились в бледные
существа с зелеными волосами39. В романтической литературе, основанной на народных мотивах, очень часто русалками становятся использованные, обманутые и брошенные молодым помещиком или князем сельские девушки, которые от отчаяния и страха совершают самоубийство
(топятся в реках, озерах) и мечтают о мести40. Модернистские акватические мотивы использовались различными литературными и культурными направлениями для описания человеческих желаний и стремлений,
зачастую появлялись они в любовном или эротическом дискурсе. Женщина и ее стихия, безответная и разрушающая любовь, — предмет восхищения эпохи, что проявляется также на уровне модели мира: то, что
принадлежит женщине, являет собой саму сущность жизни.
Мир глубин, которым так восхищались романтики, обретает в
творчестве Островской модернистский образ пустоты, пропасти, о
которых Подраза-Квятковска писала как о «недостатке, отсутствии
различных элементов»: тихо, царит молчание, в колористике преобладает серый цвет, заметно также отсутствие движения. Вместо него —
неподвижность, оцепенение41. Молчание и неподвижность — это известные в культуре образы смерти, преисподней, это избавление от
признаков этого мира и обретение себя в хаосе мира иного42. Водная
гладь является границей, которую нельзя безнаказанно пересечь, поэтому властелин бежит в мечтания, сновидения, размышления. Его
идеальной возлюбленной становится таинственная партнерша — лучезарная, светлая, страстная, смелая и горделивая:
On gwiazdę ściągnąć by chciał do otchłani
By w pocałunkach blask wypijać złoty
I mieć kochankę ogromnie świetlaną
Całą z promieni i ognia utkaną
�Демонические «фемины» с неземными телами... 101
A tej nie znalazł w swych niewolnic tłumie
I w państw podwodnych zwierciadlanej fali
Tej, która chodzi w tęsknocie a w dumie
Jak złota gwiazda po niebie z opali.
(Он звезду бы хотел забрать в пропасть,
Чтоб пить в поцелуях сиянье золотое,
Иметь любовницу лучезарную,
Из лучей и огня сотканную,
Но не нашел такую в толпе своих рабынь
И в зеркальных подводных странах,
Ту, что ходит в тоске, но горделиво,
Как звезда золотая по опаловому небу.)
Повсеместность сиянья, концепция «свечения» в данном фрагменте присутствует так же, как и во всей балладе, она выразительна,
передана широкой лексической гаммой: звезда, блеск, золото, светящийся, лучи, огонь, зеркальная волна, небо, опал. Любовным историям обычно сопутствует светлая колористика, изобилие света, лучей,
яркости. В художественном плане это метафоры, в которых используются, как в выше приведенном фрагменте, сопоставления с водой,
небосклоном, благородными камнями или женскими волосами, в
культурном прочтении соотносящимися с хаосом Природы, подземным миром, предполагающими связь с нечистой силой43:
Ale rusałki przed tron jego wiodą
Drżącą pod płaszczem rozwianych warkoczy
Olśnioną ciała własnego urodą
Siostrzycę swoja wabną, śnieżnołoną…
(Но русалки к его трону ведут
Дрожащую под плащом распущенных кос,
Ослепленную красотой своего тела
Сестру свою милую, снежно-белую…
Модернистское представление о русалках соответствует преданиям традиционной культуры. Русалки имеют много характерных
черт своих фольклорных прародительниц. Однако Островская, используя фольклорную основу, согласно концепции «Молодой Польши» «поселила» их в климате той эпохи, «одела» их в модернистский
костюм. Их поэтический образ представляет собой смешение приро-
�102 Беата Валенчук-Дейнека
ды и культуры, инстинкта, интеллекта и изощренности. Специфика
акватических дев основывается на том, что «они теряют в водной пропасти свое очарование, превращаются в сомнамбул, которые живут в
неволе при властелине эпохи модернизма»44. Для творцов эпохи «Молодой Польши» русалки являлись отчетливым символом опасного и
притягивающего обаяния женщины и любви. Вода, как писал Мирча
Элиаде, является символом женщины, плодородия, жизни, энергии45,
но может быть также сферой смерти, преисподней, символом единения, она обладает очищающими и возрождающими свойствами46. С
давних времен вода считалась стихией меланхолии, грусти, воспоминаний, размышления, исчезновения, давала надежду на новую жизнь,
будучи одновременно образом абсолютной погибели47.
Имеет значение также и тот факт, что балладу написала женщина,
то есть личность, особенно восприимчивая к внутреннему состоянию
человека, психической и чувственной сфере.
Приведенные и проанализированные выше произведения
поэтессы являются примером, в котором, как заметила Анна
Выдрыцка, «говорящее Я Брониславы Островской, определяющееся
часто как «Я — женское», должно быть определено по отношению к
противоположным моделям. В формировании этого Я значительную
и заметную роль играли собственные мировоззренческие дилеммы,
связанные с образом женщины»48.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
Ср.: Podraza-Kwiatkowska M. Symbolizm i symbolika w poezji Młodej
Polski. Warszawa, 1987.
См.: Borkowska G. Płeć jako skaza. Przybyszewski i Nałkowska // Nowa
świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze
polskiej i rosyjskiej w schyłku stulecia / Red. G. Ritz, Ch. Binswanger,
C. Scheide. Kraków, 2000. S. 77–78.
См.: Podraza-Kwiatkowska M. Młodopolska femina. Garść uwag // Teksty Drugie. 1993. Nr. 4/5/6. S. 42.
Ср.: Borkowska G. Polski feminizm: matki i córki // Z perspektywy końca wieku. Studia o literaturze i jej kontekstach / Red. J. Abramowska,
A. Brodzka. Poznań, 1997. S. 169.
Gutowski W. Nagie dusze i maski (O młodopolskich mitach miłości).
Kraków, 1997. S. 264–268. Ср. также: Podraza-Kwiatkowska M. Salome i Androgyne. Mizoginizm i emancypacja // Podraza-Kwiatkowska M.
Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski.
�Демонические «фемины» с неземными телами... 103
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Wallis M. Secesja. Warszawa, 1984. S. 196.
См.: Czabanowska A. Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski //
Pamiętnik Literacki. 1987. Z. 3.
См.: Czabanowska-Wróbel A. Maski kobiety i twarz mężczyzny // Teksty
Drugie. 1993. Nr. 4/5/6. S. 185.
Ostrowska B. Ośmiornica // Ostrowska B. Poezje wybrane / Oprac.
A. Wydrycka. Kraków, 1999. S. 151-153.
Gutowski W. Op. cit. S. 49.
См.: Wydrycka A. «…Rymów gałązeczki skrzydlate…». W świecie poetyckim Bronisławy Ostrowskiej. Białystok, 1998. S. 124.
См.: Królestwo zwierząt. Nowa ilustrowana encyklopedia zwierząt świata / Red. D. Burn. Warszawa, 2003. S. 543–544.
См.: Cirlot J. E. Słownik symboli. Tłum. I. Kania. Kraków, 2006. S. 296.
См. также: Leksykon symboli / Oprac. M. Oesterreicher-Mollwo, tłum.
J. Prokopiuk. Warszawa, 1992. S. 114.
См.: Leksykon symboli. S. 113.
См.: Wydrycka A. Op. cit. S. 124.
Подробнее на эту тему: Goik M. Kobiety w literaturze. Warszawa, 2009;
Kowalski P. Zwierzoczłekoupiory, wampiry i inne bestie. Krwiożercze
potwory i erozja symbolicznej interpretacji. Kraków, 2000. S. 42–43.
См.: Królestwo zwierząt. Nowa ilustrowana encyklopedia zwierząt świata. S. 555.
Lichański S. Cienie i profile. Studia i szkice literackie. Warszawa, 1967.
S. 331.
Ibidem. S. 340.
Gutowski W. Op. cit. S. 50.
Ср.: Lichański S. Op. cit. S. 428.
См.: Goik M. Op. cit. S. 138–139; Trześniowski D. Modernistyczny portret grzesznic w Starym Testamencie // Kobieta w literaturze i kulturze /
Red. D. Mazurek. Lublin, 2004.
См.: Kowalska J. Koło bogów. Ruch i taniec w mitach i obrzędach. Warszawa, 1995. S. 19 et passim.
Huysmans J. K. Na wspak / Tłum. J. Rogoziński. Warszawa, 1976.
Lichański S. Op. cit. S. 363.
Ostrowska B. Tancerka z Kambodży // Ostrowska B. Biała godzina. Wybór poezji. Warszawa, 1969. S. 91–95.
См.: Siemaszko P. Salome modernistów. Malarska i poetycka wersja kobiety fatalnej // Kobiety w literaturze / Red. L. Wiśniewska. Bydgoszcz,
1999. S. 122–123.
См.: Kowalski P. Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie.
Wrocław, 1998. S. 371–379.
�104 Беата Валенчук-Дейнека
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Ср.: Trześniowski D. Op. cit. S. 224–225.
См.: Kowalska J. Op. cit. S. 21, 84, 86.
См.: Wydrycka A. Op. cit. S. 148.
Ratuszna H. Tajemnica głębi jeziora — «Rusałki» Bronisławy Ostrowskiej // Podanie — legenda w tradycji ludowej i literackiej / Red. M. Jakitowicz, V. Wróblewska. Toruń, 2007. S. 169.
См.: Klinger W. Wschodnio-europejskie rusałki i pokrewne postaci demonologii ludowej a tradycja grecko-rzymska. Kraków, 1949. S. 15 et
passim.
См.: Kopaliński W. Encyklopedia «drugiej płci». Wszystko o kobietach.
Warszawa, 2006. S. 329.
Ostrowska B. Rusałki // Ostrowska B. Opale. Poezje. Warszawa, 1941. S.
21–27.
Gutowski W. Op. cit. S. 197.
Ratuszna H. Op. cit. S. 173.
Ср.: Gutowski W. Op. cit. S. 197.
См.: Kopaliński W. Op. cit. S. 329; Dzwigoł R. Polskie ludowe słownictwo
mitologiczne. Kraków, 2004. S. 159; Podgórscy B. i A. Wielka księga demonów polskich. Katowice, 2005. S. 281.
Более подробно я пишу об этом в статье «Przyjmij Boże moją duszę / a
ty wodo ciało…»: O słowiańskiej wyobraźni akwatycznej romantycznych
poetów // Język, kultura i świat roślin / Red. E. Komorowska, D. Stanulewicz. Szczecin, 2010. S. 292–299.
См.: Podraza-Kwiatkowska M. Somnambulicy — dekadenci — herosi.
Studia i eseje o literaturze Młodej Polski. Wrocław, 1985. S. 29, 35–36.
См.: Walęciuk-Dejneka B. Pozasłowna komunikacja w polskim folklorze
tradycyjnym. Symbolika milczenia // Świat Słowian w języku i kulturze.
VII Kulturoznawstwo. Historia / Red. E. Komorowska, A. Krzanowska.
Szczecin, 2006. S. 209–214. О молчании см.: Semantyka milczenia /
Red. K. Handke. Warszawa, 1999; см. также: Semantyka milczenia 2 /
Red. K. Handke. Warszawa, 2002.
См.: Kowalski P. Op. cit. S. 602–609.
Ratuszna H. Op. cit. S. 176.
Eliade M. Traktat o historii religii / Tłum. J. Wierusz-Kowalski. Warszawa, 1966. S. 190.
Kowalski P. Woda żywa. Opowieść o wodzie, zdrowiu, higienie i dietetyce. Wrocław, 2002. S. 55–72.
См.: Czabanowska A. Op. cit.
Wydrycka A. Op. cit. S. 115.
�Гжегож Вишневский
(Варшава)
От Пруса до Кабатца:
Виктор Хорев
о польской литературе
ХХ века
Вишневский Гжегож /
Wiśniewski Grzegorz — Dr.,
Польша, Варшава, Союз
польс ких писателей
В 2003 г., руководя с польской стороны подготовкой крупнейшего культурного мероприятия — Российского сезона в
Польше и Польского сезона в России, — я
заказал для каталога проходящей в обеих
столицах выставки «Варшава — Москва.
1900–2000» статью о польской литературе
двадцатого столетия. При этом мне очень
хотелось, чтобы читатель смог посмотреть на нее глазами нашего партнера, и я
адресовал свою просьбу исследователю из
России, профессору Виктору Александровичу Хореву — наряду с также ныне покойной Еленой Захаровной Цыбенко бесспорному лидеру русской полонистики.
Шесть лет спустя Виктор Хорев, вручая
мне свою новую книгу «Польская литература ХХ века»1, признался, что ее замысел
возник именно в результате моей просьбы:
свой (добавлю — пространный и чрезвычайно содержательный) написанный для
каталога очерк2 он решил расширить до
размера монографии.
Я принял, однако, эти слова В. А. Хорева как дань вежливости, но не вполне заслуженный комплимент — ведь создание
такой книги было логичным и по-своему
необходимым увенчанием всех прежних
трудов профессора; попросту говоря, Хорев такую книгу рано или поздно должен
был написать. Здесь следует напомнить,
�106 Гжегож Вишневский
что В. А. Хорев, помимо многих работ по отдельным вопросам польской литературы, уже в начале своей научной деятельности составил
обобщающий очерк истории польской литературы межвоенного периода (в изданной в России в 1969 г. «Истории польской литературы»), а
в последние годы стал автором глав, посвященных Польше, в опубликованном в России солидном двухтомнике о литературах Восточной
Европы после Второй мировой войны. Несколько попыток подобных
фрагментарных обзоров предпринимали также в последнее время его
воспитанники и ближайшие сотрудники из Института славяноведения Российской академии наук — Ирина Адельгейм и Ольга Медведева.
Насчитывающая более трехсот страниц книга Виктора Хорева
имеет подзаголовок «1890–1990», ибо важнее календарных начала и
конца века автор справедливо счел возникновение «Молодой Польши» и последнюю трансформацию общественного строя. В рамках
так очерченного столетия литературовед предложил следующую периодизацию: 1890–1918, 1918–1939, 1939–1945, 1945–1956, 1956–1968 и
1968–1989 гг. Среди основных целей, которые поставил перед собой
автор, была, как он сам отмечает в предисловии, и практическая —
помочь русскому читателю найти и отобрать в польской литературе
самые важные и самые значительные явления и произведения; такой
канон польской литературы должен выполнять две функции — познавательную (информатора о жизни другого народа) и эстетическую,
а при его формировании главным критерием должна стать мысль о
вкладе польской литературы в литературу мировую.
Хронологическое повествование о польской литературе дополнено в книге Хорева — и это дополнение я считаю ее большим достоинством — объемной и интересной информацией о русско-польских литературных контактах и взаимодействии обеих литератур. Эта
тема отчетливо заявлена уже в самом начале книги, ибо именно конец
ХIХ в. и начало ХХ в. были периодом, когда литературные контакты
стали чрезвычайно богатыми, а польская, особенно позитивистская,
литература получила в России воистину ошеломляющий резонанс
(Сенкевич «по своей популярности среди русских читателей и месту,
которое его книги занимали в круге чтения российского интеллигента, соперничал тогда с такими гигантами мировой литературы, как
Лев Толстой и Эмиль Золя» (С. 24), – отмечает наш автор). В. А. Хорев
рассматривает и позднее творчество польских позитивистов (иногда
очень подробно, анализируя в том числе произведения сегодня в Польше уже почти забытые, например, «Дети» Болеслава Пруса), и самые
главные литературные явления «Молодой Польши». Среди последних
�От Пруса до Кабатца: Виктор Хорев о польской литературе... 107
в прозе автор наибольшее внимание уделяет Стефану Жеромскому,
подчеркивая в то же время новаторство Вацлава Берента и Кароля
Ижиковского или самобытность также в свое время очень популярного в России Станислава Пшибышевского. «В польской литературе рубежа ХIХ–ХХ вв. сформировались и проявились все главные тенденции, наблюдаемые в европейских литературах, причем, как правило,
они не являлись заимствованными, вторичными, а были органичны
и во времени параллельны аналогичным тенденциям в западноевропейской и русской литературах» (С. 51), — пишет исследователь. В
описании литературы межвоенного периода Хорев, следуя другому из
сформулированных им в предисловии принципов — принципу избегания конъюнктурной замены прежних плюсов на минусы и наоборот, — немало места посвящает и левым течениям, а именно творчеству Бруно Ясенского, Владислава Броневского и Леона Кручковского,
Ванды Василевской и группы «Предместье»; подчеркивает значение
романа «Канун весны» Жеромского («наиболее яркое художественное
отражение противоречий в послевоенной Польше» — С. 84), из произведений «скамандритов» выделяет поэзию Юлиана Тувима и прозу
Ярослава Ивашкевича, отдает дань справедливости Юлиану Пшибосю, Болеславу Лесьмяну, Марии Домбровской и Зофии Налковской,
с глубоким пиететом пишет о «великой троице» — Станиславе Игнацы Виткевиче, Бруно Шульце и Витольде Гомбровиче («Виткаций
является предтечей новаторской драматургии, получившей широкое
распространение в западноевропейской литературе после Второй
мировой войны» — С. 105). Существенной внутренней цезурой в литературе межвоенного периода Хорев считает начало 30-х гг., когда
дебютирует поколение, уже не обремененное национально-романтической традицией, и когда среди деятелей культуры одновременно все
больше нарастают катастрофические настроения; подводя итог всей
эпохе, автор высказывает мнение, что если для «Молодой Польши»
была характерна смешанность идейно-художественных тенденций, то
литература межвоенного периода отличается четкой их поляризацией
на реалистические и авангардистские, причем оба направления оказались весьма плодотворными.
Почти две трети книги В. А. Хорева посвящены литературе периода Народной Польши. Без всяких недомолвок автор пишет о политической обстановке тех лет: «Освобождение Польши советской армией
спасло польский народ от биологического уничтожения, которое ставили своей целью нацисты, но не дало ему возможности свободного
выбора своего политического устройства» (С. 121). В прозе первых послевоенных лет писателем с самой яркой индивидуальностью Хорев
�108 Гжегож Вишневский
считает Тадеуша Боровского; среди книг, сводящих счеты с межвоенной Польшей, выделяет «Стены Иерихона» Тадеуша Брезы; наиболее достоверное литературное отображение событий сентября 1939 г.
усматривает в «Польской осени» Яна Юзефа Щепаньского, а наиболее впечатляющее художественно-документальное воплощение темы
фашистской оккупации — в «Медальонах» Налковской. Хорев также
подчеркивает значение первых в польской литературе страниц о Варшавском восстании — сборника «След» Романа Братного и конечно,
немало внимания уделяет «Пеплу и алмазу» Ежи Анджеевского. Что
касается поэзии тех лет, исследователь обращает особое внимание
на дебют Тадеуша Ружевича, цитируя слова Петра Кунцевича о том,
что этот дебют «был для послевоенной поэзии тем же, чем “Баллады
и романсы” Мицкевича для первой половины девятнадцатого века»
(С. 169), и приводя известное, обращенное к молодому поэту стихотворение Чеслава Милоша. Для характеристики периода социалистического реализма в польской литературе наш автор, в свою очередь,
приводит слова Кшиштофа Теодора Теплица (1956) о «периоде наивысшего, пожалуй, в истории триумфа принципа: если факты не соответствуют теории, то тем хуже для фактов» (С. 179).
В поколении, которое появилось на литературной арене после
1956 г., наиболее талантливым прозаиком Хорев называет Марека
Хласко; однако наиболее характерными с точки зрения проявления
новых тенденций и в то же время наиболее яркими в художественном отношении произведениями он считает тогдашние книги Тадеуша Конвицкого и Вильгельма Маха. Наряду с детальным разбором
литературы, посвященной войне и оккупации, исследователь выразительно подчеркивает роль, которую в те годы сыграла так называемая
деревенская проза — произведения Юлиана Кавальца, Эрнеста Брылля, Тадеуша Новака, Веслава Мысливского. Что касается драматургии, Хорев уделяет много внимания последним пьесам Кручковского
и отмечает успех «Ноябрьского действия» Брылля; говоря о поэзии,
он подробно обсуждает, наряду с произведениями Ружевича, творчество Виславы Шимборской, Збигнева Херберта, Ежи Харасимовича,
Станислава Гроховяка, Мирона Бялошевского. Подводя итоги периода 1956–1968 гг., Хорев констатирует: «Нацеленность литературы на
интеллектуальный критический анализ действительности и духовной
жизни современников, ее решительный поворот к художественному
исследованию нравственных и мировоззренческих проблем личности привели к кардинальному обновлению изобразительных художественных средств. В 60-е гг. было создано много замечательных произведений, обогативших польскую национальную и мировую куль-
�От Пруса до Кабатца: Виктор Хорев о польской литературе... 109
туру. <…> Мировое признание получили драматургия С. Мрожека и
Т. Ружевича, фантастика С. Лема» (С. 236).
Наиболее подробно Хорев описывает два последних десятилетия
Народной Польши — семидесятые и восьмидесятые годы. Панорама,
которую здесь рисует автор, соединяет в себе эрудицию и объективность — не упущены также важные явления и имена, например, Тадеуш Сеяк или Халина Аудерская, которых часто по неясным причинам
обходят молчанием польские исследователи. По мнению Хорева, в течение этих двух десятилетий ведущие позиции в польской литературе
занимали писатели старшего и отчасти среднего поколения; попытки ввести новую проблематику и новые художественные ориентиры,
предпринятые представителями «новой волны», увенчались лишь частичным успехом. К концу века, — отмечает Хорев, — «исчерпал себя
конфликт между реализмом и модернизмом, определяющий динамику развития литературы на протяжении большей части ХХ века» (С.
324). Литературовед восхищается поздним творчеством Ивашкевича,
вполне соглашаясь с мнением Януша Рогозиньского о том, что в своих последних книгах стихов поэт достиг «такой степени совершенной
простоты, которую можно сравнить только с простотой самых ярких
лириков — Гете или Мицкевича» (С. 240). Впрочем, Хорев не обходит
молчанием и травлю Ивашкевича, которая началась в Польше после
его кончины, и пишет о тех, кто выступил в защиту писателя. Автор
подчеркивает признание, которое получила поэзия Херберта и Милоша, выделяет достижения исторической прозы Анджея Кусьневича и Владислава Терлецкого, а также деревенской прозы, в том числе
Эдварда Редлиньского и особенно Веслава Мысливского, отмечает
сенсационный поздний дебют Эустахия Рыльского, констатирует художественное убожество «антисоциалистического реализма» военного положения (одно из исключений сделав для «Польских разговоров
летом 1983 года» Ярослава Марека Рымкевича) и поражение, которое
потерпели среди читателей произведения из круга так называемой
«художественной революции», поощряемой и пропагандируемой Генриком Березой; широко обсуждает достижения парабеллетристических жанров. Свои обобщения Хорев дополняет кратким перечислением важнейших литературных явлений и произведений последних
лет, заканчивая их перечень «Чернорусской хроникой прокаженных»
Эугениуша Кабатца.
Если бы я осмелился сделать какие-либо замечания в адрес монографии В. А. Хорева, то они касались бы того, что часто свойственно
и польской критике — некоей недооценки двух единственных в своем
роде великих польских новаторов и экспериментаторов, Теодора Пар-
�110 Гжегож Вишневский
ницкого и Леопольда Бучковского. В целом же, фундаментальная работа профессора Виктора Хорева, благодаря своему масштабу, содержательности и добросовестности заслуживает широкого признания и
самой высокой оценки. Ее выход в свет стал важным научным событием еще и потому, что эта книга представляет собой один из первых
(а может быть, и самый первый) синтетических обзоров польской литературы последнего столетия, вышедших из-под пера иностранного
исследователя, а ее адресатом является литературная общественность
страны и народа, который по-прежнему составляет самую многочисленную, самую компетентную и самую благодарную зарубежную аудиторию польской культуры.
П ри м е ч а н и я
1
2
Хорев В. А. Польская литература ХХ века. 1890–1990. М., 2009. Далее в
тексте ссылки на это издание с указанием страниц.
Хорев В. Польская литература ХХ века глазами русского полониста //
Москва — Варшава / Warszawa — Moskwa. 1900–2000 / Ред. Л. Иовлева,
М. Попшенцкая. Варшава, 2004. С. 117–127.
�Петр Глушковский
(Варшава)
Образ Речи Посполитой
в представлении
Ф. В. Булгарина
Глушковский Петр /
Gluszkowski Piotr — кандидат исторических наук,
Польша, Варшава, Центр
польско-российского диалога и согласия
Фаддей Венедиктович Булгарин (1789–
1859) — известный российский писатель
польского происхождения, один из самых
популярных журналистов первой половины
XIX в., редактор и издатель многих журналов и самой популярной газеты первой четверти XIX в. — «Северной пчелы». В 1829 г.
его книга «Иван Выжигин» была самым популярным романом в России.
Булгарин жил в Речи Посполитой
лишь несколько лет. В своих «Воспоминаниях» он писал: «Я застал, так сказать,
последний вздох умирающей Польши»1.
Однако он никогда не скрывал своего
польского происхождения, а Польша и
поляки очень долго являлись главной
темой его творчества. На протяжении
сорокалетней литературной деятельности Булгарина польская тема регулярно
находила себе место на страницах его
произведений. Во многих известных произведениях Булгарина («Мазепа», «Воспоминания») затрагивалась история Речи
Посполитой, а в некоторых («Марина
Мнишек — супруга Дмитрия Самозванца», «Дмитрий Самозванец», «Бегство
Станислава Лещинского из Данцига») она
становилась и главным сюжетом. Булгарин касался истории Речи Посполитой
также в многочисленных статьях, публиковавшихся в «Северной пчеле».
�112 Петр Глушковский
В свое время Булгарин сражался также за восстановление Речи
Посполитой. Уже в 1810 г. он покинул Россию и уехал в Варшавское
княжество с намерением вступить в польскую армию. Из Варшавы
через Германию и Францию он отправился в Испанию, где в это время
формировался 2-й (польский) полк шеволежеров-кирасиров под командованием Т. Лубенского (позже — 8-й полк шеволежеров). По всей
вероятности, он принимал участие в походе «Великой армии» на Москву в 1812 г., о чем может свидетельствовать описание Москвы 1812 г.
в его романе «Петр Иванович Выжигин». После падения Наполеона
Булгарин пришел к выводу, что восстановление Речи Посполитой в
современном мире невозможно.
Булгарин неоднократно подчеркивал, что Польша во время правления династий Пястов и Ягеллонов была сильным государством. Эту
точку зрения он ярко выразил в «Эстерке», рассказывая о справедливости и обширных познаниях короля Казимира III Великого2. Булгарин стремился показать, что в древние времена польские монархи,
подобно русским царям, правили своей страной авторитарно, благодаря чему Польша стала обширным и богатым государством. По его
мнению, твердая династическая власть является органичной для всех
славянских народов.
Одним из главных сюжетов в творчестве Булгарина было выявление причин гибели Речи Посполитой. Он был уверен, что бедствия
Польши начались с введения выборности королей. С конца XVI в. государство постепенно клонится к закату: «Пламя раздоров никогда не
угасало на земле польской. Деревни и города приходили в упадок, и
почти все жители страны были рабами узкой группы “панов”»3. Выборность королей в трактовке Булгарина ассоциировалась, прежде
всего, с кровопролитием, а не со свободой волеизъявления. Он критиковал практически всех выборных королей за их озабоченность не
интересами страны, но лишь обогащением собственного рода. Претенденты на корону обещали шляхте новые привилегии, вследствие
чего у их преемников оставалось все меньше возможностей управлять
страной. Постепенно монархи потеряли уважение шляхты, которая
обращалась к ним «тогда только, когда она надеялась получить милости, ибо, наконец, вся власть короля ограничивалась раздачею чинов,
мест и казенных имуществ, или староств»4. В начале XIX в. многие
поляки оставались сторонниками выборности короля, но большинство современных историков сходятся во мнении, что такой порядок
способствовал падению Речи Посполитой5.
Булгарин подчеркивал, что для большинства избранных королей
Польша была чужой страной. Исключение составлял только Станис-
�Образ Речи Посполитой в представлении Ф. В. Булгарина 113
лав Лещиньский, стремившийся править страной не в личных интересах, а во благо народа. Булгарин считал, что Лещиньский был последним королем, который пытался предотвратить падение государства;
приветствовал изгнание Карлом XII главного конкурента Лещиньского — Августа II6. Современная польская историография в значительной степени разделяет такую оценку7. Интересно здесь то, что Булгарин выступает на стороне врагов России.
Булгарин решительно критиковал строй Речи Посполитой, считая его одной из основных причин упадка государства. Он боролся
с мифом о вольной и счастливой Польше, популярным в либеральных кругах России: «В Польше искони веков толковали о вольности
и равенстве, которыми на деле не пользовался никто, только богатые
паны были совершенно независимы от всех властей, но это не вольность, а своеволие»8. Согласно Булгарину, «бедное дворянство пользовалось только тенью свободы; купечество и мещанство вообще
не участвовало в правлении; вся власть пребывала в руках богатого
дворянства и вельмож»9. Один из героев «Ивана Выжигина» «весьма
сожалел о блаженных временах, когда сильный барин мог безнаказанно угнетать бедных шляхтичей и, называя их братьями, равными,
бить батогами на подостланном ковре в знак отличия от мужиков, а
также сажать в домашнюю тюрьму и отнимать имение под выдуманным предлогом»10. Шляхетская демократия привела к тому, что самой
большой ценностью стали сословные привилегии, а не интересы родины. Шляхтич Пекарский из «Дмитрия Самозванца» готов «проливать кровь за наше сокровище, права шляхетские»11.
Ослабление королевской власти дошло до такой степени, что
«польская шляхта не почитала преступлением лично от себя вмешиваться в иностранные войны»12. Каждая «партия» стремилась
захватить власть в стране, что приводило к внутренним усобицам.
«Магнаты враждовали между собой и беспокоили соседние державы
просьбами о покровительстве своей партии, — писал Булгарин. —
Все партии ненавидели короля и не имели к нему ни малейшей доверенности, испытав его малодущие и вероломство. Порядочное дворянство приставало к различным партиям, но вообще действовало
более словами, нежели делом, а мелкая шляхта вооружалась на счет
панов, бушевала, пьянствовала, грабила и обращалась в бегство при
встрече с неприятелем»13. На страницах своих романов и «Воспоминаний» Булгарин представлял Польшу как страну полной анархии.
По его мнению, государство без сильной центральной власти неизбежно придет в упадок. Речь Посполитая была самым ярким тому
примером.
�114 Петр Глушковский
Булгарин создал много типажей поляков. Практически все они
— гордые, храбрые и честные люди. Булгарин изображал своих соотечественников лучшими воинами: «Каждый мужчина долженствовал
быть отличным ездоком и стрелком из ружья и пистолета. Погасить
свечу пулей, попасть в туза или убить налету пулей ласточку — ныне
причисляемое к редкостям, почиталось тогда делом обыкновенным»14.
Однако среди выведенных им характеров можно встретить также
тупых, упрямых, драчливых персонажей. Все названные черты воплотились в образе Гологордовского из «Ивана Выжигина»: «Когда
Белоруссия принадлежала Польше, Гологордовский изъявлял большую привязанность к России. После присоединения этой местности к
России Гологордовский вдруг сделался приверженцем древнего польского правления»15. Булгарин не скрывал, что поляки злоупотребляли
картами, вином, поединками и слишком увлекались политикой.
Внутреннюю нестабильность Речи Посполитой использовали соседние государства, получившие возможность влиять на ее политику.
Булгарин предельно четко обозначил эту проблему в романе «Мазепа». «В манифестах шведы называли себя нашими приятелями и защитниками, а обдирали до последней нитки, — писал Булгарин, ссылаясь на воспоминания своей прабабки. — Русские также называли
себя нашими друзьями и защитниками и тоже не щадили нас. Наши
поляки, придерживаясь то партии Станислава Лещиньского, то партии Августа II, т. е., то шведа, то москаля, разоряли нас не хуже»16, —
замечал Булгарин, несмотря на свои симпатии к Лещиньскому. Типичного представителя богатой шляхты того времени Булгарин изобразил в романе в лице пана Дорошильского — самолюбивого хвастуна,
оспаривающего решения начальства17.
Своими повествованиями об истории падения Речи Посполитой
Булгарин вписывался в русло доктрины официальной народности. В
определенном смысле польская тема выполняла дидактические функции — Булгарин стремился к тому, чтобы опыт Речи Посполитой стал
полезной для России прививкой от либерализма: «Государство не может быть счастливо иначе как под сенью законной власти <…>, величие и благоденствие России зависят от любви и доверенности наших
престолу, от приверженности к вере и отечеству»18. Для него было аксиомой, что сильный монарх является залогом сильного государства.
Булгарин пытался убедить своих соотечественников в том, что
они должны быть счастливы, живя в Российской империи, а не в пределах Австрийской империи или Пруссии19. При этом поляки для него
— не только богатая шляхта, но также и мещане, мелкие землевладельцы и крестьяне, чья судьба в Речи Посполитой незавидна. Соглас-
�Образ Речи Посполитой в представлении Ф. В. Булгарина 115
но Булгарину, «поселяне были вообще угнетены, а в Литве и Белоруссии положение их было гораздо хуже негров»20. В немалой степени
Булгарин основывался на опыте своей семьи и родственников. Всякое
ослабление власти короля и борьба между магнатами ухудшали положение земледельцев. Булгарин апеллировал к русскому дворянству,
дабы оно не повторяло ошибок поляков.
Булгарин не сожалел о разделе Речи Посполитой. По его мнению,
она была неспособным к развитию государством. Он разделял мнение своего дяди, служителя в доминиканском монастыре, принадлежавшего к числу тех поляков, которые, «не предаваясь политическим
мечтам, почитали Польшу умершею и все счастье польских провинций полагали в сближении поляков с Россиею и в беспредельной преданности к русскому престолу»21. Более того, писатель неоднократно
выражал удивление, что раздел страны произошел так поздно: «В
наше время едва можно поверить, что такой образ правления, как был
в прежней Польше, мог существовать между образованными народами!»22. Могущественные соседи, по Булгарину, медлили из уважения
к принципам Вестфальского мира23. Свое мнение на этот счет он четко сформулировал в 1843 г. в очерке о Суворове: «Надобно удивиться,
как могло столь долгое время существовать государство, в котором
короли не имели власти, где сильные паны были превыше закона,
где необузданная и своевольная шляхта (дворянство) угнетала слабого и бессильного и разрушала все предположения сеймов — и где
не было ни постоянного войска, ни среднего сословия! Польша могла
существовать до тех пор, пока соседи ее были слабы, но когда Россия и Пруссия возвысились и заняли свои места в политическом мире,
Польша стала ничтожною — и, наконец, сама себя умертвила раздорами и безначальем»24. Придерживаясь подобных взглядов, Булгарин
оказывался в оппозиции по отношению к романтическому видению
прошлого, и многих его польских знакомых возмущал его критический подход к отечественной истории25.
Размышляя о рациональных механизмах гибели Речи Посполитой, Булгарин обратился к роли в ее истории иезуитов: «Первая и
главная, а лучше сказать, единственная радикальная причина упадка
Польши была власть иезуитов, истребивших истинное просвещение и
укоренивших в умах нетерпимость (intolerance)»26. Булгарин утверждал, что «иезуиты овладели умом и сердцем короля, склонили на свою
сторону знатных и богатых честолюбцев и ухищрениями и насилием
влекут всех иноверцев соединиться с римскою церковью, пасть к ногам папы!»27 Одновременно они начали заниматься частным и общественным воспитанием польского юношества, что повлияло на нравы
�116 Петр Глушковский
шляхты. Булгарин признавал, что иезуиты обладали большим педагогическим опытом и были людьми образованными. Однако, по его
мнению, единственной их целью являлись власть и деньги, ради которых они были готовы на любое преступление. Благодаря влиянию
иезуитов на польских королей, выпускники их школ заняли почти все
государственные должности.
Булгарин был убежден в том, что влияние иезуитов на развитие
страны оказалось исключительно отрицательным28. До их появления
Польша была образованной и, что особенно важно, нравственной
страной, где «познания, мужество и искусство в военном деле почитались тремя гражданскими добродетелями, которые основывались
на одной главной добродетели: любви к отечеству»29. Иезуиты «систематически истребляли истинное просвещение и помрачали даже
здоровый рассудок»30. «Все усилия своего ума и всю ловкость свою
употребляли иезуиты к тому, чтобы посеять в сердце учеников свой
беспредельный фанатизм, нетерпимость в вере, вражду к иноверцам
и ко всем противникам иезуитского ордена»31. В результате «прежний
свет в Польше померк, и настал мрак, в котором большая часть шляхты уже не видела прямых выгод государства»32. Булгарин считал, что
иезуитам были нужны послушные и даже фанатичные католики, а не
образованные, справедливые и мыслящие поляки. Ненависть Булгарина к иезуитам была столь велика, что он даже сравнивал их с Омаром, сжегшим Александрийскую библиотеку33.
Следует отметить, что в отношении иезуитов мнение Булгарина
расходится с оценками польской историографии. Хотя иезуиты действительно имели чрезмерно большое влияние и излишне увлекались
политикой, многие из них были настоящими польскими патриотами34.
Примером может служить П. Скарга — известный писатель и ученый XVII в., чей патриотизм и положительное влияние на развитие
польской культуры не подлежат сомнению35. Булгарин же представил
Скаргу как врага Польши, отдавая должное лишь его риторическому
таланту. Иезуиты официально подчинялись папе римскому, но орден
имел относительную независимость от Ватикана.
Согласно Булгарину, иезуитам удалось получить большое влияние в Польше благодаря женщинам — «стрелкам и наездникам иезуитского воинства»36. В романе «Мазепа» иезуиту Заленьскому и княгине Дульской удалось обмануть хитрого и опытного гетмана Украины. Булгарин высоко ценил ум полячек, но также хорошо знал, что
они очень религиозны и амбициозны. «Постигая, что нравственность
целого поколения зависит от матерей, иезуиты совершенно овладели
умами женщин и более всего действовали через них, — объяснял Бул-
�Образ Речи Посполитой в представлении Ф. В. Булгарина 117
гарин. — Зная везде домашние тайны и имея везде своих учеников и
приверженцев, иезуиты вскоре овладели целою Польшей и нравственно господствовали в ней вместе с женщинами. Мастера своего дела!»37
Булгарин с большой симпатией относился к последнему польскому королю Станиславу Понятовскому: «Станислав Август начал свое
царствование спокойно, оживляя просвещение и насаждая угасшие
науки, надеялся на выздоровление Польши!»38 Но он уже не мог повернуть течения истории, «потому что не было для этого никаких стихий»39. «Конституция 3 мая, со своими хорошими, оживительными
идеями, пришла слишком поздно, чтобы изменить состояние Польши»40. К этому времени страна «беспрерывно склонялась к упадку,
т. е. лежала на смертельном одре и в пароксизмах ожидала смерти»41.
Король Станислав Август Понятовский прекрасно понимал, что он
уже ничего не сможет сделать для улучшения положения Речи Посполитой. Единственное, чем он смог заняться, не вызывая подозрений у
соседей Речи Посполитой, — это развитие польской культуры и науки: «Не в состоянии будучи спасти клонившееся к падению Отечество, старался он восстановлением ученой славы народа, по крайней
мере, продлить его нравственное существование… Язык доведен был
до возможной степени совершенства, а число классических авторов
во всех родах равнялось почти блестящей эпохе царствования Сигизмунда Августа»42.
Уже в своем первом большом очерке, написанном в России, —
«Кратком обозрении польской словесности» — Булгарин подчеркивал, что Польша, несмотря на состояние своей культуры, литературы
и науки, находящихся на самом высоком уровне, исчезла как государство. Когда поляки попытались преодолеть слабость государственного управления (Конституция 3 мая), выяснилось, что они не способны
соперничать с соседями и отстаивать свою независимость43. По мнению Булгарина, словесность оставалась тем единственным полем, на
котором поляки еще могли продемонстрировать свою силу как народ.
Поэтому в XVIII в. ни король, ни аристократия, ни шляхта не жалели
средств на развитие культуры. Своим творчеством Булгарин хотел показать, что в состав Российской империи вошел просвещенный народ,
благодаря которому русская культура и литература смогут достичь
мирового уровня. Булгарин давал понять читателям, что, подобно
тому, как в древние времена римляне вдохновлялись культурой греков, ныне русские должны использовать культурный, литературный и
научный багаж поляков.
Поэтому Булгарин представлял Речь Посполитую как литературное и научное сокровище, которым теперь может пользоваться вся
�118 Петр Глушковский
Российская империя. Благодаря Булгарину многие русские впервые
узнали о сочинениях известных литераторов родом из Речи Посполитой: И. Красицкого, А. Нарушевича, С. Трембецкого, И. Шимановского, К. Венгерского и др. Этих авторов Булгарин превозносил как
литературных гениев, известных не только в Польше, но и во всей
Европе. Так, о Ф. Заблоцком (далеко не самом видном польском авторе) он писал: «Лучшее его произведение есть стихотворный перевод
или, скорее, подражание Плавтову Амфитриону, в чем Заблоцкий не
уступает Мольеру. В комедиях его вообще надлежит удивляться легкости разговоров, чистоте слога и веселости, кои при хорошей завязке
составляют главное достоинство сего рода сочинений; характеры изображены живо, а смешное выставлено весьма искусно»44.
У него не было сомнений, что, присоединив большую часть территории Речи Посполитой, Россия получила шанс достичь высот также и в области культуры. Он напоминал, что в то время, когда русские
находились под монгольским игом, в Польше уже был создан первый
университет: «Краковская Академия, основанная в 1347 году, произвела славных в учености мужей, отличившихся особенно успехами в
истории и математике. Сия последняя наука, по свидетельству чужеземцев, процветала в Польше более, нежели в других государствах, и
имела между прочими то преимущество, что никогда не была искажаема астрологическими бреднями»45.
Приводя в качестве примеров выдающихся ученых (Коперник,
Гевелий, Йонстон, Мартин из Олькуша, корифеи в области геральдики
и правоведения46) Булгарин доказывал, что польская наука ни в чем не
уступает французской, немецкой или английской. Более того, она намного ближе и понятнее для славян, поэтому именно ее следует брать
за образец в первую очередь. Булгарин хотел продемонстрировать русскому обществу, что у польской науки есть давние традиции, а труды
польских ученых известны во всем мире. Он боролся с ошибочным
отнесением польских ученых к другим народам: «Напрасно немцы хотели присвоить себе Коперника; ныне уже все сомнения решены, что
он поляк родом из Торна. Он воспитывался в Краковской Академии
и был каноником во Фрамбурге, городе, издревле принадлежавшем
Польше»47. Польская наука, литература и культура развивались очень
быстро, и уже в XV–XVI вв. любой просвещенный человек должен
был знать польскую словесность. Самым плодотворным для польской
культуры периодом, по мнению Булгарина, было царствование Сигизмунда III, которое он назвал «золотым веком польской литературы»48.
Булгарин подчеркивал также патриотизм поляков, которые, несмотря на упадок своей страны, всегда любили ее и были готовы за нее сра-
�Образ Речи Посполитой в представлении Ф. В. Булгарина 119
жаться. Даже в записке, направленной для III Отделения Собственной
Его Императорского Величества канцелярии, он заявлял, что «последние происшествия в Польше перед последним разделом сего края обнаружили великие таланты, древние рыцарские характеры и пробудили
воинственный дух поляков… Костюшкина революция или, лучше сказать, вооружение доказало, что поляки любили свое отечество более,
нежели другие народы и пробудили воинственный дух поляков»49.
Подытоживая, можно сказать: падение Речи Посполитой показало, что поляки любили и всегда будут любить свою родину. Булгарин считал, что эту любовь можно использовать во благо Российской
империи. Именно эта тема была одной из главных в его записках в
III Отделение.
В отличие от большинства польских писателей, Булгарин не идеализировал истории Речи Посополитой. Он описывал причины ее падения и многочисленные пороки поляков. Особой критике подвергались практически все выборные короли, поведение польской шляхты,
злоупотребление liberum veto, влияние иезуитов и государственный
строй Польши в целом. Писатель также отмечал и другие стороны
Речи Посполитой: ее знаменитых представителей, моменты ее славы и величия, тем самым показывая, что в свое время Польша была
одним из самых крупных государств Европы. Большое внимание он
уделял польским литераторам, а также достижениям в области науки,
он описывал также любовь поляков к своей родине, которая заметно усилилась после падения Речи Посполитой. Несомненно, Булгарин
способствовал ознакомлению Российской империи с образом Речи
Посполитой. Представляя пороки польской шляхты, он стремился к
тому, чтобы опыт Речи Посполитой оказался полезным для Российской империи.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
Булгарин Ф. В. Воспоминания. М., 2001. С. 20.
Булгарин Ф. В. Эстерка. Историческая повесть // Булгарин Ф. В. Собр.
соч. СПб., 1843. Т. 5. С. 207–225.
Булгарин Ф. В. Марина Мнишек — супруга Дмитрия Самозванца //
Фадзей Булгарин. Выбранае / Ред. А. Федута. Мiнск, 2003. С. 257.
Булгарин Ф. В. Мазепа. М., 1990. С. 447.
Elekcje królów Polski w Warszawie na Woli 1575–1764. Upamiętnienie pola
elekcyjnego w 400-lecie stołeczności Warszawy / Red. M. Tarczyński. Warszawa, 1997.
�120 Петр Глушковский
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Булгарин Ф. В. Воспоминания. С. 69.
Feldman J. Stanisіaw Leszczyński. Wrocław; Warszawa, 1948; Forycki M.
Stanisіaw Leszczyński — sarmata i europejczyk. 1677–1766. Poznań, 2006;
Stanisław Leszczyński. Król, polityk, pisarz, mecenas / Red. A. Konior.
Leszno, 2001.
Булгарин Ф. В. Воспоминания. С. 18.
Булгарин Ф. В. Марина Мнишек — супруга Дмитрия Самозванца.
C. 257.
Булгарин Ф. В. Иван Выжигин. М., 2002. С. 11.
Булгарин Ф. В. Дмитрий Самозванец. М., 1994. С. 275.
Там же. С. 273.
Булгарин Ф. В. Воспоминания. С. 18–19.
Там же. С. 26.
Булгарин Ф. В. Иван Выжигин. С. 11.
Булгарин Ф. В. Воспоминания. С. 67.
Булгарин Ф. В. Мазепа. С. 446–463.
Булгарин Ф. В. Дмитрий Самозванец. С. 9.
Булгарин Ф. В. [Толки о деле поляков, содержащихся в крепости] // Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение / Сост. А. И. Рейтблат. М., 1998. С. 147.
Булгарин Ф. В. Воспоминания. С. 18.
Там же. С. 285.
Булгарин Ф. В. Мазепа. С. 446.
Булгарин Ф. В. Воспоминания. С. 37.
Булгарин Ф. В. Суворов. С. 55–56.
Malinowski M. Dziennik / Z rękop. łac. przeł. M. Kridl. Wilno, 1921. S. 84–
85.
Булгарин Ф. В. Воспоминания. С. 39.
Булгарин Ф. В. Дмитрий Самозванец. С. 146.
Ср.: Boleszczyc S. Jezuici w Polsce i na Rusi. Lwów, 1882; Paluszkiewicz F.
Jezuici w piśmiennictwie polskojęzycznym. Warszawa, 2000; Stasiewicz-Jasiukowa J. Wkład Jezuitów do kultury i nauki Rzeczypospolitej Obojga
Narodów i pod zaborami. Kraków; Warszawa, 2004.
Булгарин Ф. В. Дмитрий Самозванец. С. 212.
Булгарин Ф. В. Воспоминания. С. 38.
Булгарин Ф. В. Путевые заметки о поездке из Дерпта в Белоруссию и
обратно весной 1835 года // Фадзей Булгарин. Выбранае. С. 202.
Булгарин Ф. В. Воспоминания. С. 38.
Там же. С. 39.
Obirek S. Jezuici na dworach Batorego i Wazów. Kraków, 1996; Zaіeski J.
Jezuici w Polsce. Kraków, 1900–1906. T. 1–5.
�Образ Речи Посполитой в представлении Ф. В. Булгарина 121
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tazbir J. Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji. Warszawa, 1983; Obirek S.
Wizja kościoła i państwa polskiego w kazaniach Piotra Skargi. Kraków,
1994.
Булгарин Ф. В. Мазепа. С. 381.
Булгарин Ф. В. Путевые заметки... С. 202.
Булгарин Ф. В. Суворов. СПб., 1843. С. 57.
Булгарин Ф. В. Воспоминания. С. 18.
Там же. С. 18.
Там же. С. 37.
Булгарин Ф. В. Краткое обозрение польской словесности // Сын Отечества. 1820. № 31. С. 201–202; Он же. Воспоминания. С. 37.
Эту оценку Булгарин повторял во многих других своих произведениях.
Булгарин Ф. В. Краткое обозрение польской словесности. C. 206.
Там же. С. 197.
Например, Бартош Папроцкий (около 1543–1614) — родоначальник
польской и чешской геральдики, Каспер Несецкий (1682–1744) — составитель польского гербовника.
Булгарин Ф. В. Краткое обозрение польской словесности. C. 198; Он же.
Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1852. № 75.
Булгарин Ф. В. Краткое обозрение польской словесности. С. 99. Ср.: Ziomek J. Renesans. Warszawa, 1986.
Булгарин Ф. В. О духе и характере польского народа // Видок Фиглярин.
С. 258.
�Забытая Смута?
Меандры польской
Иероним Граля
(Варшава)
исторической памяти
2012 год, официально посвященный
в России национальной памяти и истории,
был отмечен значительными празднествами, связанными с тремя датами: 862 г. (датированная этим годом запись в «Повести
временных лет» o прибытии варяжского
конунга Рюрика на Русь стала основанием
для празднования 1150-летия российской
государственности), 1812 г. (дата «Первой
Отечественной войны», как в российской
традиции называется поход Наполеона I на
Москву и поражение его Великой армии) и
1612 г. Последняя из этих дат, связанная с
400-летием капитуляции польского гарнизона в Кремле, рассматривается — впрочем, с сильным преувеличением и под
громкие протесты специалистов — как
конец Великой Смуты. Эта тема занимает
существенное место и в польской национальной традиции.
Затяжной кризис московской государ
ственности в первые десятилетия XVII в., —
хотя в свете новейших исторических исследований он предстает скорее как гражданская война, чем иностранная интервенция
(читай: польско-шведская — ибо так, вопреки исторической логике, хотя именно
длительный конфликт между Речью Посполитой и Швецией был одним из поводов
вмешательства польско-литовского госу-
Граля Иероним / Grala Hie
ronim — Dr., Польша, Варшава, Варшавский университет
�Забытая Смута? Меандры польской исторической памяти 123
дарства в эти события, — это называется в российских школьных учебниках!)1, — действительно невозможно рассматривать, не принимая во
внимание разнообразных польских сюжетов. Достаточно вспомнить
роль польских магнатов в походе Дмитрия I Самозванца за царской короной, кровавый «московский пир» или резню польских гостей, приехавших на свадьбу Дмитрия и Марины Мнишек, поход Сигизмунда III
на Смоленск, победу под Клушином, избрание королевича Владислава
царем, трагическую судьбу кремлевского гарнизона… Этих сюжетов
немало, поэтому неудивительно, что в российской коллективной памяти именно польская тема и эта полумифическая внешняя угроза, для
преодоления которой Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому удалось
поднять соотечественников и повести их на Москву, могли со временем
— не без воздействия официальных факторов — заслонить подлинную
картину событий и придать ей характер патриотически-конфессиональной войны во имя спасения народа от нашествия чужаков-иноверцев.
Такая картина, внедрявшаяся почти сразу после завершения
Смуты фактическими бенефициарами сложившейся ситуации — новой царской династией Романовых — в целях укрепления своего авторитета и преодоления недавних конфликтов, со временем стала использоваться правителями России для обоснования сведения счетов с
некогда победоносным соседом (разделы Польши, но также и… пакт
Молотова-Риббентропа!), для возбуждения патриотических настроений во время очередного подавления «польских бунтов» (особенно
во время Ноябрьского восстания 1831 г.), а также — в универсальном
измерении — для поисков великих патриотических образцов перед
лицом новых угроз (поход Наполеона, гитлеровское нашествие).
События 1604–1619 гг. овеяны в России героической легендой,
как правило, не стесняемой наличием невыгодных свидетельств
источников. Воплощением патриотизма и героизма всего народа стали памятник Минину и Пожарскому И. Мартоса, воздвигнутый на
Красной площади (1818) и первая русская национальная опера «Жизнь
за царя» М. Глинки (премьера — 1836), в советские времена именовавшаяся «Иван Сусанин».
Тема Смуты, обычно понимаемой как польская интрига, присутствует и в творчестве самых выдающихся художников — достаточно упомянуть драму Пушкина «Борис Годунов» и одноименную
оперу Мусоргского (премьера — 1874), — но ее чрезвычайно активно
использовали и второстепенные, например, М. Загоскин и Н. Кукольник, писавший либретто для Глинки2.
Не было недостатка в связанных со Смутой польских сюжетах
и в творчестве русских живописцев: к ним обращались, например,
�124 Иероним Граля
В. Демидов («Предсмертный подвиг князя М. К. Волконского, сражающегося с ляхами в Пафнутьевском монастыре в Боровске в 1610 г.»,
1841), М. Скотти («Минин и Пожарский», 1850; «Подвиг Ивана Сусанина», 1851), Н. Неврев («Присяга Лжедмитрия I польскому королю
Сигизмунду III на введение в России католицизма», 1874), М. П. Клодт
(«Марина Мнишек и ее отец Ежи Мнишек под стражей в Ярославле»,
1883), В. Верещагин («Осада Троице-Сергиевой лавры», 1891), К. Маковский («Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям», 1896), С. Иванов («Смута», 1897; «Смутное
время. Подмосковье. Войско Самозванца», 1908) и Э. Лисснер («Изгнание польских интервентов из Московского Кремля в 1612 году»).
Отраженный на этих полотнах коллективный портрет «ляхов» был
крайне нелестным, а ведь это были, как правило, чрезвычайно популярные и часто репродуцируемые произведения…
Тема победоносной войны с польской интервенцией нашла весьма отчетливое выражение и в «важнейшем из искусств» (В. И. Ленин) — кино. Хотя две основные картины российского исторического
кино на эту тему — «Минин и Пожарский» (реж. В. Пудовкин, 1939)
и «1612» (реж. В. Хотиненко, 2007) — разделяют почти 70 лет и смена политического строя, исторический смысл обоих произведений
практически идентичен3. Примечательно, что антипольскую агитку
сталинской эпохи (Сталинская премия 1941 г.), которую, наряду с полонофобским «Богданом Хмельницким» И. Савченко (1941), следует
рассматривать как своеобразное историческое алиби для пакта Молотова–Риббентропа и его политических последствий сентября 1939 г.,
и современный суперфильм, призванный обосновать смысл нового
государственного праздника, Дня народного единства 4 ноября, и вышедший в российский кинопрокат накануне этого праздника в огромном количестве копий (580), объединяет, по крайней мере, одно обстоятельство: оба произведения сделаны по так называемому госзаказу.
Отметим, что, как с художественной, так и с исторической точки зрения, старый фильм Пудовкина неизмеримо лучше: стремясь
показать жестокость и подлость польских интервентов, делая поляков убийцами рода Годуновых, Хотиненко не только фальсифицирует
исторические реалии, но и совершает просто бессовестное покушение
на гениальный текст самого Пушкина (так, при помощи «альтернативного понимания истории» была отброшена великолепная последняя
сцена из «Бориса Годунова» со знаменательным «народ безмолвствует»!). В этой ситуации громкое заявление режиссера, что он «не стал
бы снимать антипольский фильм», вызывает обоснованное удивление
и неприятный осадок4, а его историческая компетентность до боли на-
�Забытая Смута? Меандры польской исторической памяти 125
поминает псевдопознания создателей американского мультипликационного фильма «Анастасия» (реж. Г. Гольдман, 1997), приписывающих
вину в трагическом конце Романовых «отставленному царскому советнику» Распутину, который погибает подо льдом, преследуя последнюю
представительницу российской династии — царевну Анастасию5.
Наконец, стоит отметить, что два года назад в России большой популярностью пользовалась историческая компьютерная игра «Смута
1605–1612», использующая псевдоисторическую иконографию: улыбку
польского читателя вызывает прежде всего факт использования широко известной иллюстрации к «Потопу» Сенкевича — «Компании Кмичица» Ю. Коссака (1885) как изображения наших предков enmasse6 .
Как следует из представленного выше, по необходимости весьма краткого обзора, проблематика Смуты, рассматриваемой, прежде
всего, в категориях войны с внешним врагом (т. е. с Польшей), нашла
заметное отражение в русской культуре и искусстве, а порожденные
ею мифы и стереотипы, подкрепляемые и пропагандируемые официальной историографией и школьными программами (независимо от
эпохи и строя), по-прежнему остаются вполне живучими…
В отличие от русского исторического сознания, события Великой Смуты не занимают — и никогда не занимали! — слишком заметного места в коллективной памяти поляков. Несмотря на то, что в
эпоху разделов Польши охотно вспоминались разного рода военные
победы над оккупантом, картина событий 1604–1619 гг. представлена
в польской литературе и искусстве относительно скромно и при этом
не относится к вершинным достижениям последних7.
Как представляется, первая попытка ввести проблематику дмитриад в отечественную литературу принадлежит Ю. У. Немцевичу —
повстанцу, секретарю Костюшко, политику, историку и литератору в
одном лице. Именно его «Исторические песни» (1816), хотя и вышедшие уже после краха надежд на обретение независимости, связанных
с Наполеоном I, но писавшиеся — несомненно, по заказу варшавского Общества Друзей наук — в 1808–1810 гг., когда еще существовала
надежда на возрождение Речи Посполитой при помощи победоносного французского императора, напомнили — в некоторых эпических
стихотворениях («Сигизмунд III», «Дума о Жулкевском» и «Владислав IV») — о давних триумфах над Москвой. Великолепное знание
отечественной истории, а также собственный драматический опыт
(автор участвовал в работе над Конституцией 3 Мая и в восстании Костюшко; взятый в плен под Мацеевицами, он длительное время провел в заключении в Петропавловской крепости) способствовали тому,
что эти события стали в большей степени поводом для исторических
�126 Иероним Граля
и гражданских размышлений об утраченных возможностях, чем предметом национальной гордости. Критически оценивая, прежде всего,
политику Сигизмунда III, поэт с грустью констатирует:
Na próżno Polak mocarstwa podbija,
Toczy bitwy niezliczone,
Próżno chorągwie wśród Moskwy rozbija
I więzi cary zwalczone;
Świat się nad Polską odwagą zadumiał,
Lecz Zygmunt z zwycięstw korzystać nie umiał8.
Подлинным героем эпохи был для Немцевича гетман Станислав
Жулкевский. Созданный в античном духе образ победителя Клушинской битвы выразительно отражен в сцене триумфа над Шуйскими на
Сейме, когда польский военачальник демонстрирует достойное императора великодушие по отношению к побежденным, а вместе с тем —
и проницательность Кассандры:
Królu! narodzie wolny i potężny!
Wiodęć ród carów nieszczęsny, lecz mężny,
Przyjm go nie jako chluby widowisko,
Lecz jak odmiennej fortuny igrzysko.
Bodajby Nieba, co nam dziś szczęściły,
Wiodły zwycięstwa za orły polskimi,
Bodajby wnuki sposoby srogimi
Za krzywdy przodków nigdy się nie mściły!9
К событиям Смуты поэт обращается и в своем рассказе о победах
королевича Владислава, рисуя их в сильно преувеличенном виде:
Ledwie Władysław okrył laurem skronie,
Gdy podbitego mocarstwa bojary
Panem go głoszą i, podnosząc dłonie,
Hołd mu oddają nieskażonej wiary.
Krótko przysięga lud niestały wiąże,
Już tłum bojarów w poddaństwie się chwieje;
Ciągnie na Moskwę z wojskiem bitny książę
I wszędy zemstę i strach blady sieje.
Walecznym hufcom nic nie kładzie tamy
Wiaźma, Nowogród i Siewierz zdobyte;
Już setne miasta otwierają bramy,
�Забытая Смута? Меандры польской исторической памяти 127
Już nurty Donu i Wołgi przebyte.
Gdzieś okiem rzucił okropne pożogi,
Rozbite wojska i zniszczone kraje,
Wtenczas Moskale pełni ciężkiej trwogi,
Proszą o pokój, zwycięzca go daje10.
Следующее произведение Юлиана У. Немцевича — «История
правления Сигизмунда III» (1819) — представляло польскому читателю иную, менее героическую картину польских походов на Россию.
Вот во время деулинских переговоров Федор Шереметьев, некогда
сторонник польской кандидатуры на царский трон, бросает в лицо
польским комиссарам: «Разнузданный ваш солдат не знал меры в
оскорблениях и излишествах… Вы растравляли наши сердца самым
оскорбительным презрением; никогда нашего земляка вы не называли
иначе, чем псом-москалем, вором, изменником. Даже перед Господними святынями вы не могли сдержать ваших рук… Мы не хотим
ни побратимства, ни свобод и вольностей ваших»11. Инстинкт прирожденного историка не подвел Немцевича — полная возвышенных
метафор, речь оппонента Шереметьева, канцлера Льва Сапеги, хотя и
представляет собой замечательный образец старопольского искусства
красноречия, выглядит в этом сопоставлении бледно и неубедительно12. Поэтому представляется, что упреки, которые выдвигал в адрес
автора «Истории» сам Мицкевич, утверждавший, что он «является
собою, лишь когда описывает победы поляков, a особенно — поражения москалей» и «с наслаждением рисует картину пожара Москвы»13,
иногда сильно преувеличены. Более того, поэт читал критикуемое
произведение старшего коллеги по перу без особого внимания, если
пропустил столь значимое суждение: «Страшная и долгая война, если
мы рассмотрим ее с точки зрения справедливости и нравственности…
была начата поляками самым несправедливым образом»14.
Провал Ноябрьского восстания побудил другого поэта-пророка — Сигизмунда Красиньского — обратить внимание на эпоху Смуты. Склонный к экзальтации и афиширующий свою русофобию («О,
как же я их ненавижу, не выношу этих москалей!… Я испью вашей
крови», – писал он о своем отношении к русским в письме к другу15),
которая служила компенсацией сервилизма его отца, он написал тогда
своеобразное произведение — исторический роман «Агай-хан», опубликованный во Вроцлаве (1834) под инициалами A. K. Канвой произведения стала драматическая судьба самой большой авантюристки
нашей национальной истории — Марины Мнишек, нелегкой жизнью
которой в эпоху господства мужчин писатель почти болезненно оча-
�128 Иероним Граля
рован. В конце своего произведения он взывает к Деве Марии, Королеве Польши, чтобы она простерла свою благодать на душу той, для
которой «царская корона была терновым венцом»16.
Возникающие попеременно описания сложных отношений дочери сандомирского воеводы с очередными мужчинами — Дмитрием I и Дмитрием II — тушинским вором (поэт разоблачает его как…
еврея), а также с казацким атаманом Иваном Заруцким — показаны
сквозь призму страданий ослепленного любовью и желанием очередного претендента на ее руку и ложе — мусульманского аристократа,
который хотел бы заключить ее в объятья, прижать к груди и кататься
с нею по земле, как змей со змеею17. Роман, несколько шокировавший
современников, а для потомков, несомненно, довольно графоманский,
несмотря на первоначальный успех (его перевели на несколько языков), был вскоре предан забвению.
Представляется, что историческую память нескольких последующих поколений поляков формировало, прежде всего, творчество
Немцевича (ведь «Песни» в XIX в. относились к числу наиболее популярных польских книг), которому не составил достойной конкуренции даже замечательный историк Ю. Шуйский, бывший, кроме того,
и драматургом — столь же плодовитым, сколь и посредственным.
Именно Шуйский обратился к эпохе дмитриад в дилогии «Марина
Мнишек» (1875) и в совершенно забытой сейчас пьесе «Двор королевича Владислава», в которой несколько раз выступила в мужской роли
Адама Казановского сама Хелена Моджеевская18.
Очередным, также не слишком удачным литературным произведением, затрагивающим эпоху Смуты, была драма А. Новачиньского «Царь-самозванец, или польский пир в Москве» (1908), в которой
сыграл одну из лучших своих ролей — Дмитрия — великий Людвик
Сольский19. Довольно популярная в свое время, эта драма содержала
в себе весь каталог дежурных антимосковских стереотипов: «стадная
покорность» царских подданных, низкий общий уровень культуры
(«русский народ скуден умом, ибо долго гнил во власти тьмы»), отсутствие образованной элиты («горячо верующий человек, не испорченный книгами. Поистине русский…»), жестокость и вероломство
(«по натуре своей они прирожденные предатели»)20. С другой стороны, Новачиньский, соглашаясь с пушкинской версией происхождения
самозванца — беглого монаха Гришки Отрепьева, — отверг психологические линии Пушкина и безжалостно сорвал со своего персонажа
одежды романтического героя, благородные порывы которого — желание покарать детоубийцу Годунова — исказит любовь к расчетливой «гордой полячке» Марине Мнишек21. Его Дмитрий — это мошен-
�Забытая Смута? Меандры польской исторической памяти 129
ник и развратник, человек низкий и вероломный; а еще хуже то, что
поддерживающие его поляки действуют цинично, ради собственной
корысти, хорошо понимая, что на их глазах разыгрывается, говоря
словами канцлера Замойского, настоящая «комедия Плавта»22.
Особую пикантность сценической истории этой не вполне удачной драмы (она была слишком растянута, затем А. Гжимале-Седлецкому удалось, исходя из интересов театра, сократить ее до… 4 часов!) — впрочем, пожалуй, самого большого события краковского театрального сезона 1907–1908 гг. — придает тот факт, что работе Сольского-режиссера, проводившего необходимые разыскания в Москве
и Петербурге (видимо, прежде всего, в сфере реквизита и костюмов),
активно способствовал сам Станиславский, а после одного из краковских спектаклей за кулисы неожиданно пришли трое довольных
гостей из России, которых привел Я. Каспрович. Это были Чичерин,
Луначарский и сам Владимир Ленин!23
Почти одновременно с Новачиньским свой суровый расчет с нашим прошлым произвел Ст. Жеромский, создав прекрасный образ Станислава Жулкевского, гражданина и патриота, а одновременно — горячего сторонника польско-московский унии («Дума о гетмане», 1908).
Представляется, что взгляды писателя — последовательного критика
шляхетской анархии, которую он связывал с «польской душой» («Я содрогаюсь пред тобой, ты нелегкая, строптивая, сама себя терзающая
безумием, ты самой себе неизвестная и никому неведомая»), а одновременно — сторонника замыслов великого гетмана — заслуживают упоминания. Они хорошо отражены в оценках польских военачальников,
прославившихся во время Смуты: последний комендант Кремля, Миколай Струсь — это «захватчик Москвы и кровопийца», легендарный
Александр Лисовский занимает Москву «с несколькими тысячами набранных из-под виселицы людей», а Александр Зборовский «заявляет,
что не хочет иметь Польшу своей отчизной, если король Сигизмунд
захочет совать нос в его дела, в его замки, построенные на московском
льду». Лишь усвятский староста, Ян Петр Сапега — кстати, авантюрист несравненно большего масштаба, чем названные выше, который,
отойдя от самозванца, перешел на сторону гетмана, — заслужил теплые слова: «И пришла ко мне польская доблесть Сапеги»24.
Не подлежит сомнению, что Жеромский весьма критически оценивал позицию по отношению к Москве польских элит, чей эгоизм
препятствовал пониманию величия замыслов Стефана Батория, стремившегося подчинить себе Москву ради вытеснения с европейского
континента турок («на Царьград военная дорога ведет через Москву»),
и гетмана Жулкевского, хранителя его великого проекта: «Покров ко-
�130 Иероним Граля
ролевы Ядвиги, в складках которого хранится наше добро и просвещенность Европы, должен окутать основания святой Руси (выделено мною. — И. Г.), сильно порубленные топором Ивана Грозного, ее
страшные раны и широко разлившуюся лужу крови».
Оценка дмитриад была меткой (видимо, об этом проницательном анализе великого писателя стоит напомнить сегодняшним сторонникам празднования «русского поклонения»): «Обман в окружении польской свиты, под защитой польских сабель волчьим прыжком
вскочил на почитаемый трон», а выходки польского солдата — этакого «польского смельчака», который «осквернял и грабил церковь» и
«своими руками душил жителя этой земли, утопающего в крови», —
названы своими именами и преданы осуждению.
Особенно интересно представлена картина неудавшегося государственного эксперимента — призвания на московский трон королевича Владислава, которое, по мнению Жеромского, могло положить
начало совершенно новой — демократической — России. Этот замысел, однако, излагает не пан гетман, а его важнейший политический
партнер в российской столице — предводитель боярской думы князь
Федор Мстиславский, описанный в «Думе» с симпатией и уважением
(«Взгляд у князя спокойный, умный, глубокий»).
Осуждая польскую склонность к раздорам, жажду власти (Марина) и богатства (Мнишек), своеволие и жестокость солдатни, которая
не щадит даже святынь («заливает кровью Троицкую скалу, в церкви Ростова убивает народ») и совершает бесчисленные преступления
(«В большие ямы сваливают убитых людей, засыпают их высокими
холмами»; «Обагрилась сабля по рукоять, пронзая тело Господне в
несчастном народе»), старый аристократ вынашивает впечатляющий
план оксидентализации Московии, что в его понимании тождественно не только демократизации государственного строя, но и прогрессу
цивилизации: «Я пойду на запад искать учения, я не убоюсь ни польских выборов, ни шума в сейме ляхов, я не убоюсь королевских увещеваний, а присмотрюсь, как живут свободные». И далее: «Русским
утром, холодным, апрельским, повеет по полю ветер с запада, украсит
поле радостными цветами. Ох, тоскует душа по счастью страны! Сядет Жигимонтович на высокий трон и обступит его верный русский
сейм. И окружит его совет русских сердец, людей с честной душой,
возвышенным челом… А в городах засияет свет науки, не будет знание грехом на Руси»25.
Отметим, что повествование Жеромского о Смуте — это своеобразный трактат о безвозвратно утраченном шансе двух народов,
причем львиная доля вины за провал этих гигантских замыслов, по
�Забытая Смута? Меандры польской исторической памяти 131
мнению писателя, связана с чрезмерным эгоизмом и отсутствием
государственного инстинкта у польской политической элиты, с тем
гипертрофированным индивидуализмом «польской души», из-за которого была упущена великая «московская оказия», а вскоре последовало и поражение под Цецорой, где сложил измученную голову гетман-визионер26.
Увлеченность писателя фигурой гетмана и его московским проектом, вне всякого сомнения, основанная на внимательном прочтении
сочинений Жулкевского, а прежде всего — его дневника «Начало и
ход московской войны», привела Жеромского к столь же неортодоксальной общей оценке событий, сколь порой и опережающей выводы
современной ему историографии.27
Именно этот способ говорить о Смуте — эпохе жестокости и безвозвратно утраченных шансов, состоящих не в завоевании, а в примирении — стал с этого времени определять основное направление
литературного повествования. Не избегая осуждения польских ошибок и вины — политического эгоизма, нетерпимости, презрения по
отношению к «грубой Москве» — и описания стыдливо замалчиваемых ужасов (каннибализм в польском гарнизоне в Кремле), польская
литература стремилась честно разобраться с «неудобным» наследием
прошлого. Романы «Золотая вольность» З. Коссак (1928), «Царские
врата» А. Стоёвского (1975) и «Crimen. Ярмарочная повесть» Ю. Хена
(1975), а также приключенческая трилогия К. Коркозовича «Наездники Апокалипсиса» (1990) содержали в себе значительную долю горькой правды о событиях, которые в течение столетий осложняли отношения двух соседних народов. Это отнюдь не являлось недостатком
уважения к рыцарственным предкам и их заслугам в служении отчизне: достаточно хотя бы вспомнить созданную З. Коссак — поистине с
сенкевичевским размахом — картину битвы под Клушином28.
Именно «Золотая вольность» занимает среди перечисленных
произведений особое место. Те фрагменты текста, которые относятся
к неосуществленным замыслам гетмана Жулкевского, a особенно —
трогательное описание прощания польского государственного деятеля с «москвичами» нa Девичьем Поле, обнаруживают значительную повествовательную и идейную близость к представлениям Жеромского. И здесь также кульминацией сцены становится речь князя
Мстиславского, без обиняков говорящего о беззаконии и жестокости
польских кондотьеров («Мерзким стало в Москве польское имя»), но
при этом искренне — как русский патриот и политик — радующегося планируемому союзу обоих государств: «Впервые древняя Москва
по доброй воле поверила чужому, протягивая руку для мира… К вам
�132 Иероним Граля
она идет, Станислав Станиславович. Не к Польше панов Лисовских,
Мнишеков или Рожиньских, но только к той, о которой вы говорите,
что она такая, как вы»29. Эта близость является тем большей, что сведения источника, на котором основаны оба описания события, по сути
дела, довольно кратки, хотя и выразительны: «Князь Мстиславский и
другие первостатейные бояре проводили гетмана около доброй мили,
а пока ехал он через город, вся чернь по улицам забегала ему дорогу,
прощаясь и благословляя»30.
Заслуживает внимания и картина, представленная Ю. Хеном,
хотя действие его романа «Crimen» — явно вдохновленного книгой
«Право и лево» В. Лозиньского, к творчеству которого писатель многократно обращался, создавая почти одновременно «Приключения
старостича Вольского» (1973–1974), — происходит уже после завершения Смуты, на коронной Руси, но упоминания событий дмитриады,
участником которой был Томаш Блудницкий, герой романа, постоянно появляются на его страницах. Показательно, что для шляхетской
братии московская эпопея сводится лишь к двум мотивам — развратности Марины, этой «московской блудницы», и каннибализму в среде кремлевского гарнизона. Добавим, что это нашло свое отражение
и в основанном на мотивах романа телевизионном сериале «Crimen»
(реж. Л. Адамик, 1988, премьера — 1990), где роль Блудницкого исполнял Б. Линда31.
В свою очередь, иная, можно сказать — патриотически-державная точка зрения представлена в новейшем произведении польской
приключенческой литературы — в многотомном романе Я. Комуды
«Орлы в Кремле» (не завершен: в 2009–2013 гг. вышло 4 тома, следующие готовятся к выходу), рекламная акция которого вновь обратилась к греющим душу соотечественников сарматским мифам, прямо
заимствованным из пропаганды времен Сигизмунда III. Процитируем
в качестве примера слова издателя: «1605 год. Польские войска вступают в Москву. Фантастика? Нет! Самая подлинная историческая
правда! Рассказ о самом большом, полном приключений походе поляков, сравнимом с завоеваниями испанских конквистадоров. О походе за короной царей Москвы, называемой Третьим Римом. Книга о
столкновении двух миров — выросшей на почве шляхетской свободы
Речи Посполитой и ксенофобской Москвы, отгороженной от Европы
стеной православия. Рассказ о феномене гусар и польского войска,
побеждающих в морозных степях и ледовых пустынных пространствах России, где века спустя понесли поражение армии Наполеона и
III Рейха»32 . Что же после этого удивляться, что нам так трудно объяснить сегодняшним россиянам, что поход самозванца не был поль-
�Забытая Смута? Меандры польской исторической памяти 133
ским завоеванием, что одно дело — война, начатая Сигизмундом III,
а совсем другое — самовольная авантюра амбициозных магнатов,
наконец, что польские войска вступили в Москву не как завоеватели
(конквистадоры!), а как союзники законной власти…
Странно, что еще реже, чем в литературе, тематика Смуты и дмитриад встречалась в польской исторической живописи XIX в. Фактически, она представлена тремя произведениями на тему одного и того
же события: довольно низкопробной картиной — впрочем, выставлявшейся в Парижском салоне! — Я. Канте Шведковского («Поклонение царей Шуйских», ок. 1837)33 и двумя, также мало выдающимися,
полотнами Я. Матейко («Торжественная выдача Жолкевским братьев
Шуйских», 1853; «Цари Шуйские на варшавском Сейме», 1892). Более
позднее из них — и более удачное — создано под влиянием известной
картины придворного художника Вазов, Томмазо Долабеллы, которая
пропала в XVIII в., но ранее воспроизводилась на различных гравюрах (особенно — на гравюре Т. Маковского34).
Стоит упомянуть и еще об одном полотне, тематически связанном со Смутой и принадлежащем кисти ученика Матейко, М. Готтлиба — «Сцена из жизни Дмитрия Самозванца» (1876), а также о «Побеге Марины Мнишек» (1882) Леона Вычулковского и о картине М. Котарбиньского «Больной князь Пожарский принимает московских послов» (1882; Городской музей Омска), за которую этот ученик Клодта
получил в петербургской Академии художеств диплом художника I
степени.
В свою очередь, вызывает удивление полное отсутствие проблематики Смуты почти у всех наших выдающихся баталистов-певцов
старопольской эпохи. Симптоматично, что если в творчестве Ю. и
В. Коссаков, Ю. Брандта, Ст. Качора Батовского и В. Павлишака сравнительно часто отражаются почти одновременные с дмитриадами
победы польских гусар под Кирхольмом (1605) и Хотином (1621), то
великолепная победа под Клушином (1610) — никогда.
Больше повезло следующей войне с Москвой — так называемой смоленской (1632–1634): независимо от различных современных
изображений триумфа Владислава IV (особенно капитуляции армии
Шеина под Смоленском), отдельные ее эпизоды неоднократно привлекали воображение польских баталистов35.
Это явление хорошо иллюстрирует общую для литературы
и изобразительных искусств тенденцию: в эпоху творчества «для
подкрепления сердец» символом утраченного польского превосходства на Востоке становилась отнюдь не Смута, не возвращение
Сигизмундом III смоленской и чернигово-сиверской земель, не клу-
�134 Иероним Граля
шинская победа и двухлетнее правление в Москве, а более ранние войны с Иваном IV Грозным, и особенно — победоносные походы Батория, отражением которых стала картина Я. Матейко «Баторий под
Псковом», впрочем, явно противоречащая исторической правде36.
Не впечатляет и отечественная кинематография: наряду с уже
упомянутым «Crimen», где сюжет Смуты играет второстепенную
роль, единственным специально посвященным ей произведением предстает не сохранившийся «Царь Дмитрий Самозванец» (реж.
M. Хаушильд, сценарий Л. Орвич-Бродзиньского, 1921), где роли Сигизмунда III и Дмитрия сыграли Ф. Бродневич и Ю. Карбовский37.
Таким образом, на поле битвы остается лишь А. Жулавский
со своей весьма противоречивой экранизацией оперы Мусоргского
(«Борис Годунов», 1989), которая является результатом совместного
испано-франко-югославского производства. Однако, учитывая скандальные обстоятельства завершившегося судом конфликта между
режиссером и отвечавшим за музыкальную сторону фильма великим
М. Ростроповичем, польская тема в данном случае не исчерпывается фигурой режиссера и удачного исполнителя роли монаха Пимена
Р. Тессаровича…
Согласно различным — иногда противоречивым — свидетельствам, основной причиной иска, который великий музыкант предъявил знаменитому режиссеру, было «оскорбление русской души», которое состояло, в частности, во введении в фильм сексуальной сцены
между Дмитрием и трактирщицей, а также в резком контрапункте
изысканной жизни польского двора и монохромного, серо-бурого колорита Московской Руси (это классическая оппозиция: «просвещенная Европа» и «грубая Московия»). Впрочем, сам Жулавский логично объясняет это стремлением пластически сопоставить два разных
мира — западное декадентство и восточную суровость. Суд в итоге
согласился с доводами польского режиссера, но продюсер, не желая
вызывать недовольство великого музыканта, поместил в титрах фильма информацию о том, что маэстро дистанцируется от идеи фильма38.
Таким образом, оказывается, что эпоха Смуты не занимает
слишком большого места в исторической памяти поляков: так или
иначе она представлена в литературе, в то время как в изобразительном искусстве, в кино, а также в музыке (где нет каких бы то ни было
обращений к этой теме!) она отражена более чем скромно, несмотря
на то, что уровень тогдашних побед польского оружия должен был
бы воздействовать на воображение наших предков, особенно в эпоху национального порабощения. Этот парадокс оказывается особенно любопытным, если принять во внимание изначально существо-
�Забытая Смута? Меандры польской исторической памяти 135
вавшие солидные, казалось бы, основания: внушительные расходы
двора Сигизмунда на увековечение памяти о победах первого Вазы
на Востоке. К таким свидетельствам победы относятся значительные
живописные полотна (см. упомянутое произведение Долабеллы)39, памятные медали40, пропагандистская и панегирическая литература41,
иезуитский театр, публичные торжества Сигизмунда III и Станислава
Жулкевского42, наконец, построение в Варшаве так называемой Московской часовни — мавзолея умерших в польском плену Шуйских43.
Непродолжительность влияния столь интенсивной пропагандистской
акции можно объяснить, пожалуй, лишь общей неприязнью шляхетского общества по отношению к самому монарху и к его «московской
авантюре», а также еще более общим недовольством конечными результатами войны. Значительные территориальные приобретения
потребовали больших расходов, а осознание растраченных результатов победы, упущенных шансов на вечный мир (или династическую
унию), память о проявленной жестокости, наконец, шокирующие слухи о каннибализме польского гарнизона в Кремле придавали победе
сильный привкус горечи и создавали вокруг нее ауру стыда.
Точку зрения немалой части старопольской элиты прекрасно иллюстрирует произведение канцлера и гетмана Станислава Жулкевского — создателя неудавшегося польско-русского соглашения 1610 г. —
«Начало и ход московской войны». С другой стороны, следует еще раз
упомянуть, что именно из этого замечательного произведения черпали материал для своих исторических размышлений Стефан Жеромский и Зофья Коссак.
Позднейшие поколения последовали примеру подданных Си
гизмунда III, совсем забывая пусть и недолгое, но впечатляющее
превосходство над Москвой. Новые войны, а вместе с ними и новые
поражения, посыпавшиеся на ослабленную московской войной и
внутренней анархией Речь Посполитую (Цецора — 1620, восстание
Хмельницкого — 1648, Шведский потоп — 1655, проигранная война с
Москвой — 1654–1667), заслонили память о давних триумфах: московит вошел в Вильно и Люблин, швед — в Варшаву и Краков… Перед
лицом очередных катаклизмов события полувековой давности исчезали из памяти, а последующие столетия принесли народу несравненно
более горькие испытания.
В завершение — еще одна констатация: сопоставление хронологии литературных и художественных отражений эпохи дмитриад в
нашей традиции отчасти может создать впечатление, что в сознании
поляков как в XIX в., так и в современный период память о соотечественниках, разгуливавших отрядами по бескрайним просторам Рос-
�136 Иероним Граля
сии и засевших в Кремле, светит как бы отраженным светом и обусловлена фигурой мощного соседа. Показательно, что участие поляков
в событиях Смуты, включая победы лисовчиков, было значительно
лучше известно жителям Конгрессового Королевства, чем остальных
частей разделенной страны, хотя подавляющее число научных публикаций на данную тему вышло в Галиции. Несомненно, такая ситуация
была обусловлена широким освещением истории Смуты в царских
школьных учебниках, обилием русских литературных и художественных (а также музыкальных, таких как уже упомянутые оперы
«Жизнь за царя» Глинки и «Борис Годунов» Мусоргского) произведений, наконец — официальными мероприятиями российских властей
(например, празднованием 300-летия дома Романовых). Аналогично,
впрочем, можно усмотреть связь между недавним использованием
темы Смуты в официальной российской публицистике и кинематографии — и появлением в польской литературе «патриотического
противоядия» в виде произведений Я. Комуды, а также призывами в
СМИ праздновать «русское поклонение»44.
Наконец, добавим — не без удовлетворения, — что, как представляется, и в польской историографии XIX–XX вв. обнаруживается относительно мало идеологических черт: начало этой похвальной тенденции, без сомнения, восходит к Ю. У. Немцевичу, который поразительно
объективно, если учесть тогдашнее знание источников, описал как сам
ход дмитриад и польско-московской войны, так и деулинские переговоры 1618 г. По его стопам пошли и позднейшие исследователи Смуты —
А. Гиршберг, В. Собеский, Я. Мачишевский, Д. Черская, Г. Визнер,
В. Поляк и Т. Богун45, — которые, хотя обычно и спорили, прежде всего, по вопросам оценки политики Сигизмунда III и возможных шансов
польско-московской государственной унии, отнюдь не теряли из вида
негативных аспектов польского вмешательства в российские дела.
(Перевод В. Мочаловой)
П ри м е ч а н и я
1
2
См.: Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское
общество. М., 2005; ср.: Grala H. Wielka Smuta: wojna domowa czy obca
interwencja? // Mówią Wieki. 1996. № 4–5. S. 7–16.
См.: Kępiński A. Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa; Kraków,
1990. S. 168, 173–196. Ср.: Dmitriew M. Studium narodowych obsesj // Przegląd Historyczny. T. LXXXIII. 1992. № 1. S. 129–130.
�Забытая Смута? Меандры польской исторической памяти 137
3
4
5
Проблематике Смуты в советской и российской кинематографии было
уделено значительное внимание на заседаниях Международного научного конгресса «Польша — Россия. Трудные вопросы. Три нарратива:
история, литература, кино» (Краков, 5–7.X.2010). В ходе панельного
заседания «1612» свои точки зрения представили, в частности, Г. Стахувна, А. Малов (кстати, один из консультантов фильма Хотиненко) и
П. Ролльберг. Следует также упомянуть и фильм С. Бондарчука, являющийся экранизацией драмы Пушкина («Борис Годунов», 1986), где роль
Марины сыграла А. Беджиньская.
См.: Rzeczpospolita. 31.10.2007. Ср. также: Wojciechowska J. Władimir
Chotinienko: Nie jestem Polakożercą // Dziennik. Polska. Europa. Świat.
2007. № 240 (13–14.10). См. также: Szczerba J. Bij Lachów czyli russkaja
skazka // Gazeta Wyborcza. 11.09.2008.
Исключением среди немалого числа специалистов — историков и киноведов, — по обе стороны границы безжалостно высмеивающих произведение Хотиненко, является мнение Гражины Стахувны, склонной
считать несущественными упреки режиссеру в несоответствии исторической правде — перед лицом licentia poetica, законов жанра, поскольку
«режиссер соединил в своем фильме в духе современной голливудской
практики черты разных жанров» (Stachówna G. Hetman i carówna — polsko-rosyjskie romanse w cieniu wielkiej polityki. Rok 1612 Władimira Chotinienki // Historyka. T. XLI. 2011. S. 75–82). К сожалению, собственные
доказательства заслуженной исследовательницы кино — несмотря на ее
утверждения о консультациях у историков! — просто пестрят анахронизмами («В XVI веке, когда начались польско-русские войны, вызванные желанием поляков захватить восточные земли» — S. 74), очевидными ошибками («В 1609 году Сигизмунд III решил поддержать претензии
второго Дмитрия Самозванца, прозванного Лжедмитрием, и организовал военный поход под руководством польного коронного гетмана Станислава Жулкевского» — S. 78; «сторонники Дмитрия открыли полякам
ворота Москвы» — там же; «с обороны в 1609 г. подмосковного монастыря Троицы в Сергиеве, исполняющего функции монастыря-матери,
началась акция национального сопротивления иностранным захватчикам, войскам Дмитрия I Самозванца» — S. 81) и наконец — забавными
упрощениями («Церковь представлена старым мудрецом-священником,
у которого есть дар предвидения будущего. Он сидит, претерпевая разные трудности, на высоком столпе, как некогда католический (выделено
мною. — И. Г.) св. Симеон Столпник» — S. 81) и нелепыми домыслами:
вопреки мнению автора, прототипом «гетмана» Кибовского может быть
не Ян Кароль Ходкевич (S. 79), но единственный, пожалуй, польский
кондотьер, которому сулили «шапку Мономаха» и который умер в Мо-
�138 Иероним Граля
6
7
8
9
скве — тушинский гетман Ян Петр Сапега. Единорог же в русской традиции представляет не столько «возвышение сексуального желания»
(S. 80), сколько триумф христианской веры над неверными и еретиками,
и именно по этой причине он был в те дофрейдовские времена введен
в московскую государственную доктрину и царскую сфрагистику. —
См.: Grala H. «Pieczat’ połotckaja» Iwana IV Groźnego. Treści imperialne
w moskiewskiej sfragistyce państwowej // Rocznik Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego. 1997. T. 3 (14). S. 121–123.
Смута 1605–1612. Историческая настольная игра. The Time of Troubles.
Historical Simulation Game [Электронный ресурс]. URL: www.statusbelli.
ru. М., 2011.
Ср.: Grala H. Wielka Smuta w pamięci historycznej Polaków // Международная конференция «Виктор Хорев — Amicus Poloniae». K 80-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2012. С. 35–37; Idem. Jedna Smuta — dwie
tradycje // Mówią Wieki. Wydanie specjalne. 2012. № 4. S. 87–92.
Niemcewicz J. U. Śpiewy historyczne z muzyka, rycinami i krótkim dodatkiem zbioru historii polskiej. Wyd. V. Lwów, 1849. S. 171. Подстрочный
перевод:
Напрасно поляк завоевывает державы,
Ведет бессчетные битвы,
Напрасно в Москве разбивает отряды
И пленяет побежденных царей;
Мир поразился польской отваге,
Но Сигизмунд не сумел воспользоваться победой.
Ibidem. S. 195–196. Подстрочный перевод:
Король! Свободный и сильный народ!
Я привел тебе семью царей, несчастную, но мужественную,
Прими ее не как зрелище для гордыни,
Но как свидетельство превратностей фортуны.
Пусть же Небеса, которые к нам сегодня благоволили,
Даруют и впредь победы польским орлам,
Пусть же внуки жестоко
За обиды предков никогда не мстят!
10
Ibidem. S. 219. Подстрочный перевод:
Лишь только Владислав покрыл голову лавровым венцом,
Как бояре побежденной державы
Провозглашают его господином и, воздевая руки,
�Забытая Смута? Меандры польской исторической памяти 139
Приносят присягу неизменной верности.
Недолго связывает присяга непостоянный народ,
Уже толпа бояр колеблется в верности;
Идет на Москву с войском храбрый князь
И всюду сеет месть и страх.
Воинственным отрядам нет преград нигде —
Вязьма, Новгород и Северск взяты;
Уже сотни городов открывают врата,
Уже пройдены течения Дона и Волги.
Куда ни бросишь взгляд, везде пожары,
Разбитые войска и опустошенные земли,
Тогда москали, преисполненные ужасом,
Просят о мире, победитель его дарует.
11
12
13
14
15
16
17
18
Niemcewicz J. U. Dzieje panowania Zygmunta III. Wrocław, 1836. T. 3.
S. 119–120. Для иллюстрации своих доказательств историк использовал труд Станислава Кобежицкого: Kobierzycki S. Historia Władysława,
królewicza polskiego i szwedzkiego / Wyd. J. Byliński i W. Kaczorowski;
przekł. M. Krajewski. Wrocław, 2005. S. 258–261.
См.: Niemcewicz J. U. Dzieje panowania Zygmunta III. S. 117–119. Ср.: Sielicki F. Podróż bojarzyna Borysa Szeremietiewa przez Polskę i Austrię do
Rzymu oraz na Maltę, 1697–1698. Z dziejów kontaktów kulturalnych Rusi
moskiewskiej z Polską i Zachodem. Wrocław, 1975. S. 21–24.
Mickiewicz A. Literatura Słowiańska // Mickiewicz A. Dzieła. Wydanie Jubileuszowe / Red. J. Krzyżanowski. Warszawa, 1955. T. 10. S. 25. Сходно,
впрочем, относился к историку Каэтан Козьмян, упрекая его, в частности, в том, что он «хранил в сердце чувство безграничной мести и ненависти к русским». — Koźmian K. Pamiętniki / Wyd. J. Willaume. Wrocław,
1972. T. 2. S. 200–201. Ср.: Kępiński A. Op. cit. S. 136–137.
Niemcewicz J. U. Dzieje panowania Zygmunta III. S. 197; Ср.: Флоря Б. Н.
Указ. соч. С. 20.
Krasiński Z. Listy do Konstantego Gaszyńskiego / Opr. Z. Sudolski. Warszawa,
1971. S. 37. О взглядах Красиньского см.: Kępiński A. Op. cit. S. 123–125.
См.: Krawczyk M. Duma i uprzedzenie czyli słów kilka o Marynie Mniszchównie // Mówią Wieki. Wydanie specjalne. 2012. № 4. S. 25–26.
A. K. [Z. Krasiński]. Agay-Han. Powieść historyczna. Wrocław, 1834. См.
рус. пер. В. Ходасевича: Красиньский З. Агай-хан: историческая повесть
// Начало века: Из истории международных связей русской литературы
/ Ред. М. Ю. Коренева и др. СПб., 2000. С. 341–396.
См.: Got J., Szczublewski J. Helena Modrzejewska. Warszawa, 1958. S. 94.
Выступление Моджеевской в этой комедийной роли документировано
�140 Иероним Граля
19
20
21
22
23
24
фотографией 1867 г. — См.: Materiały archiwalne związane z osoba Heleny Modrzejewskiej przechowywane w Archiwum Państwowym w Krakowie. Przewodnik. Kraków, 2009. S. 52, il. 23. Взгляды Шуйского-писателя
довольно заметно согласуются с его представлениями как историка об
истории России Нового времени и характере ее контактов с латинской
культурой. — Ср.: Karpiński W. Polska a Rosja. Z dziejów słowiańskiego
sporu. Lublin, 1999. S. 175–178.
Сольский выступил в этой роли более 100 раз, он исключительно ценил ее, что и подчеркнул в своих воспоминаниях: «Она относилась
к самым большим и значительным в моей театральной практике». —
Solski L. Wspomnienia. Wyd. 2. Kraków, 1961. S. 256–257. Особое уважение вызывает тот факт, что артист в первый раз выступил в роли молодого Дмитрия в возрасте 53 лет (1908), а в последний — в возрасте
65! Добавим, что в этой роли он выглядел действительно великолепно
(Ibidem, S. 192–193, фотография на вклейке). Попутно заметим, что
смехотворная формулировка «Людвик Сольский — Дмитрий в кино»
в одном из наших недавних текстов (Grala H. Jedna smuta — dwie tradycje. S. 89) появилась в результате не ошибки автора, а самовольных
действий плохо образованного редактора популярного журнала и отсутствия авторской корректуры.
Nowaczyński A. Car Samozwaniec czyli polskie na Moskwie gody. Kronika
prawdziwa o Dymitrze Joannowiczu jedynorocznym autokratorze, jako się
wzniósł i padł on z przyczyny furyjej Pani Fortuny Caricy Wiecznej. Wyd.
II. Warszawa, 1909, passim.
Возможно, именно этот аспект драматического повествования Новачиньского вызвал следующее замечание Сольского: «Хищность, которую он [Новачиньский] проявлял в публицистике, на сцене приобретала драматическую ценность» (Solski L. Op. cit. S. 253).
Это мнение заимствовано из речи Яна Замойского на заседании
Сейма (1605): «Что касается самой особы этого Дмитрия… боже
мой, это или Плавта, или Теренция комедия». — Pisma polityczne
z czasów rokoszu Zebrzydowskiego / Wyd. J. Czubek. T. 2. Kraków,
1918. S. 87 nn. Это лаконичное высказывание канцлера играет в
повествовании Новачиньского особую роль, становясь, в частности, аргументом российской стороны во время прений с польскими пленными в финальной сцене драмы. — Nowaczyński A. Op. cit.
S. 194–195, 351.
Solski L. Op. cit. S. 256–257.
Ср.: Граля И. Воин родины или солдат удачи? Тушинский гетман Ян
Пётр Сапега и православные «московиты» // Родина. Российский исторический журнал. 2013. № 2. С. 20–23.
�Забытая Смута? Меандры польской исторической памяти 141
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Żeromski S. Dumaohetmanie. Wyd. V. Kraków, 1923.
Станислав Бжозовский, довольно, впрочем, критически оценивавший
«Думу», поскольку считавший, что «она потакает утопическим инстинктам польской интеллигенции»(!), весьма метко отметил историографический масштаб замысла автора: «Жеромский поставил перед собой
огромную историческую проблему. В XVII веке судьба двух народов,
а точнее — всей массы народов, живших на польско-русской территории, зависела от того, смогут ли поляки подчинить свой субъективизм,
чуждый миру, на почве которого он вырос, — разумной воле, обеспечивающей их основы в этом мире» (Brzozowski St. Legenda Młodej Polski.
Studia o strukturze duszy kulturalnej. Wyd. II. Lwów, 1910. S. 317, 325). См.
также: Lubaszewska A. Mit — ethos — konstrukcja: «Duma o hetmanie»
Stefana Żeromskiego. Wrocław, 1984.
Наиболее существенные работы того времени появились несколько
позднее: Prochaska A. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego traktat pod Moskwą // Przegląd Historyczny. T. 13. 1911; Sobieski W. Żółkiewski na Kremlu,
Warszawa; Lublin; Łódź; Poznań; Kraków, 1920.
Kossak Z. Złota wolność. T. 1–2. Warszawa, 1959. S. 515–531.
Ibidem. S. 563. Показательно, что Коссак повторяет ошибку Жеромского,
считая Мстиславского Рюриковичем («последний из Рюриковичей». —
Ibidem. S. 562); у Жеромского — «старший князь в роде Рюрика», в то
время как Федор Иванович был потомком Гедиминовичей. — См.: Зимин A. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. М., 1988. С. 124–128.
Żółkiewski S. Poczatek i progres wojny moskiewskiej (1612) / Wst. i koment.
W. Sobieski. Wrocław, 2003. S. 171; Там же (S. 170) — о предшествующем совещании гетмана с боярами. (Рус. пер.: Записки Станислава
Немоевского. Рукопись Жолкевского / Подг. к изд. А. И. Цепковым. Сер.
«Источники истории». Рязань, 2007. По изд.: Рукопись Жолкевского.
М., 1835. С. 402. — Прим. ред.).
См. описание в базе «Filmpolski.pl» [Электронный ресурс]. URL: http://
www.filmpolski.pl/fp/index.php/124602.
См.: Jacek Komuda. Samozwaniec, t. 1. [Электронный ресурс]. URL:
http://fabrykaslow.com.pl/ksiazki/samozwaniec-t-1.
См.: Chrościcki J. Hołd carów Szujskich Jana Kantego Szwedkowskiego z
1837 roku // Hołd carów Szujskich / Pod red. J. A. Chrościckiego i M. Nagielskiego. Warszawa, 2012. T. 1. S. 161–166.
Ср.: Gębarowicz M. Początki malarstwa historycznego w Polsce. Wrocław,
1981. S. 114–115.
Например, полотна Юлиуша Коссака «Подмога Смоленску» (1882) и
«Фредро под Смоленском» (1884).
�142 Иероним Граля
36
37
38
39
40
41
Ср.: Krawczyk J. Matejko i historia. Warszawa, 1990. S. 13–14; Jaworski R.
Konflikt polsko-rosyjski w okresie wielkiej smuty — z polskiej perspektywy // Historia alternatywna. Spotkanie polsko-rosyjskie. Warszawa, 2004.
S. 13–19.
Car Dymitr Samozwaniec [Электронный ресурс]. URL: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/22199.
Kletowski P., Marecki P. Żuławski (wywiad rzeka) // Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa, 2008. Ср.: Zytaty. 3.05.2012. [Электронный ресурс]. URL:
http://zytaty.blogspot.com/2012/05/tarcia-z-rostropowiczem-zaczey-sie-od.
html. Об упреке в предполагаемом унижении России со стороны «полячишки» нам рассказывал сам Жулавский во время организованной Польским Институтом в Москве ретроспективы его фильмов (февраль, 2007),
гвоздем которой была как раз российская премьера «Бориса Годунова» в
Доме кино! Автор этих строк имел также случай задать вопрос о причине конфликта вдове Ростроповича, выдающейся певице Галине Вишневской, которая в этом фильме озвучивала Марину Мнишек (на экране эту
роль играла Дельфина Форест). Ответ был лаконичен: «Об этом человеке
(Жулавском. — И. Г.) больше ни слова»… Проблема столь яростного польско-российского конфликта во время реализации оперного проекта тем более примечательна, что сам Ростропович многократно упоминал о своих
польских родственных связях, позволявших видеть в нем потомка знаменитого средневекового рода Богориев из Скотников (с ним связан своим
происхождением, в частности, Ярослав, гнезненский архиепископ и близкий соратник Казимира Великого). Ср.: Некролог маэстро от 28.04.2007,
написанный Доротой Шварцман [Электронный ресурс]. URL: http://www.
polityka.pl/kultura/217006,1,zmarl-mscislaw-rostropowicz.read.
Ср.: Morka M. Polski nowożytny portret konny i jego europejska geneza.
Wrocław, 1986. S. 90–96. Добавим, что королевское меценатство сопровождалось и значительной активностью в этой сфере магнатов, особенно — из кругов Мнишеков и Жулкевских. См.: Gębarowicz M. Op. cit.
S. 40–155; Kroll P. «Ad majorem Polonorum gloriam»: Kircholm i Kłuszyn
w ikonografii XVII w. (В печати).
См.: Stahr M. Medale Wazów w Polsce 1587–1668. Wrocław, 1990. S. 66–73;
Rokita J. G. Próby propagandowego wykorzystania zwycięstwa smoleńskiego w medalierstwie // Hołd carów Szujskich. S. 109–124.
См.: Nowak-Dłużewski J. Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Czasy zygmuntowskie. Warszawa, 1966. S. 186–232; Zawadzki K. Prasa ulotna
za Zygmunta III. Warszawa, 1997. S. 100–107; Idem. Początki prasy polskiej.
Gazety ulotne i seryjne XVI–XVIII wieku. Warszawa, 2002. S. 106–112;
Oszczęda A. Tryumfy smoleńskie. Propagandowe treści wierszy tryumfalnych // Hołd carów Szujskich… S. 69–92.
�Забытая Смута? Меандры польской исторической памяти 143
42
43
44
Chrościcki J. Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587–1668. Warszawa, 1983. S. 70–74; Chemperek D. Tryumf warszawski Stanisława Żółkiewskiego i hołd Szujskich w historiografii siedemnastowiecznej // Hołd carów Szujskich… S. 93–107.
Ср.: Chrościcki J. Mauzoleum Carów Szujskich (Kaplica Moskiewska) w
przestrzeni ceremonialnej Warszawy // Hołd carów Szujskich… S. 125–141;
Jamski P. J. Legenda Kaplicy Carów Moskiewskich w Warszawie (1620–
1914) // Ibidem. S. 143–160.
Дискуссия, проходившая в 2011 г. в польских средствах массовой информации (отнюдь не только в правых, см.: Gmyz C., Trzmiel A. Zapomniana
rocznica tryumfu // Rzeczpospolita. 29.10.2011), вызвавшая депутатские запросы в Сейме в адрес Министерства культуры и национального наследия, а также несколько хаотичные действия различных государственных
институтов, в частности, Министерства иностранных дел Польши (!),
концентрировалась вокруг якобы намеренно скрываемого от общества
«самого большого триумфа в нашей истории» (например: «Hołd ruski»
ukrywany z powodów politycznych? [Электронный ресурс]. URL: http://fakty.interia.pl/historia/news-hold-ruski-ukrywany-z-powodow-politycznych-posel-pieta-oburz,nId,973695; Hołd Ruski — celowo przemilczany fakt w historii
Polski [Электронный ресурс]. URL: http://niepoprawni.pl/blog/991/hold-ruski-celowo-przemilczany-fakt-w-historii-polski; Hołd Ruski [Электронный
ресурс]. URL: http://www.niedziela.pl/artykul/96225/nd/Hold-Ruski), т. е.
якобы поклонения царя Василия IV Шуйского (1611), на потребу патриотической публицистики абсурдно именуемого «русским поклонением»
(легко читаемая аналогия с «прусским поклонением» 1525 г.). Добавим,
что подавляющее большинство поборников этих празднеств обнаруживало полную неосведомленность в исторических реалиях, в частности,
приписывая Жулкевскому сдерживание под Клушином — около 400 км
от Москвы — мощной московской армии, идущей на Варшаву (sic!), или
же видя в детронизированном собственными соотечественниками и постриженном «в монахи» Василии Шуйском, который был — в нарушение данных боярской Думе обещаний — изъят из монастыря и вывезен
в Польшу ради устроения пропагандистского спектакля, русского царя,
якобы захваченного в плен победоносными польскими полками. От внимания яростных публицистов ускользнул даже немаловажный факт, что,
в соответствии с польскими законами, во время приема высокопоставленных пленников в Сейме Речи Посполитой существовал только один
легитимный правитель всея Руси — королевич Владислав Ваза, «нареченный царь и государь», т. е. Russiae imperator electus… До привлечения
официальных представителей государства к реализации проекта празднования «русского поклонения» не дошло, состоялся лишь — вдохнов-
�144 Иероним Граля
45
ленный полотном Яна Матейко — хэппенинг на Старом Рынке в Кракове
(29.09.2012), организованный обществом «Студенты для Речи Посполитой». Добавим, что непосредственную связь с инициативой торжественного празднования этого «поклонения» обнаруживает и неоднократно
цитируемый в нашей статье сборник исследований, к сожалению, снабженный столь же неточным, сколь и в принципе неверным названием —
«Hołd carów Szujskich» (и царь там был все-таки один, да к тому же —
экс…). Существенным элементом дискуссии вокруг «русского поклонения» стали публичные дебаты «Польша и Россия в XVII в. Что и как
праздновать?», организованные Центром польско-российского диалога и
согласия в Королевском замке в Варшаве (13.11.2012), во время которых
сама идея празднования была подвергнута уничтожающей критике как
не учитывающая существующие источники и далекая от исторической
правды. См. о медийно-политических кулисах проекта празднования и
его подлинном историческом контексте в: Grala H. Warszawski hołd braci
Szujskich i co z tego wynika // Mówią Wieki. Wydanie specjalne. 2012. № 4.
S. 51–55.
Ср.: Флоря Б. Н. Указ. соч. С. 20–21.
�Юрий Гусев
(Москва)
Традиции
культурных взаимосвязей
между Польшей и Венгрией
в XVI–XXI вв.
Гусев Юрий Павлович —
доктор филологических наук,
Россия, Москва, Институт
славяноведения РАН
Культурные взаимосвязи — а если
сказать точнее, взаимное духовное тяготение — возникают, конечно, не просто так.
Под таким взаимным интересом, взаимной симпатией должны лежать некие солидные предпосылки: исторические, экономические и т. д.
Регион Центрально-Восточной Европы где-то с XV–XVI вв. оказался зажатым
роковым образом в беспощадных геополитических тисках. С двух сторон на него давили Российская и Священная Римская (в
сущности — германская) империи — обе
быстро крепнущие, агрессивные. Двойное это давление дополнялось мощной
турецко-османской агрессией с юга и (не
столь долгой, но очень активной) шведской угрозой — с севера. Все эти четыре
грозные силы, естественно, противоборствовали друг с другом, и иногда от «буферного» пространства между ними вообще почти ничего не оставалось. Тем не менее, оно — опять же, отчасти вследствие
этого противоборства — худо-бедно, но
продолжало существовать. С некоторой
долей цинизма можно сказать: именно постоянная угроза покорения, даже полного
уничтожения, висевшая над славянскими
и неславянскими народами, населяющими
этот несчастливый регион, способствовала тому, что народы эти выработали у себя
�146 Юрий Гусев
высокую степень жизнестойкости; многие из них сумели не просто не
утратить свой язык, свое национальное самосознание, но и сохранять
и, как только условия становились хотя бы относительно благоприятными, развивать собственную яркую, самобытную культуру.
Наверное, это утверждение относится в той или иной мере ко всем
народам региона. Но я хочу сказать прежде всего о поляках и венграх,
которые на протяжении трех или даже четырех столетий оставались —
даже при весьма проблематичном состоянии их государственности —
двумя самыми значимыми факторами в жизни этого региона. Причем
не только как культурная, но часто и как военная сила.
(Позволю себе одно, наверное, некорректное, но весьма наглядное
сравнение. Регион этот представляется мне похожим на своеобразное
футбольное поле, зажатое между крайне возбужденными трибунами,
зрители на которых следят не столько за мячом, сколько друг за другом,
то и дело норовя выбежать на поле и наброситься на враждебные трибуны. В такой обстановке растерянные игроки тоже думают не о мяче, а о
том, чтобы уцелеть, и для этого вынуждены искать способы для сплочения. Польше и Венгрии — или, если быть точными, полякам как народу
и венграм как народу, — которые были на этом поле едва ли не самыми
сильными и упорными «игроками», часто приходилось, прислонившись
спиной друг к другу, сообща отбиваться от разъяренных «болельщиков».)
Факт тот, что между собой поляки и венгры не воевали, кажется,
никогда, хотя долгое время имели общую границу (а соседи, как известно, чаще всего становятся самыми заклятыми врагами). Более того, именно в эту эпоху сложились между ними отношения взаимного интереса,
доброжелательства и сотрудничества, а время от времени и военного
союзничества. Тогда же появился до сих пор не ставший анахронизмом
(хотя получивший несколько ироничный оттенок) девиз: «Поляк, венгер — два братанки и до шабли, и до склянки» (из двух упомянутых компонентов «склянка», конечно, сейчас актуальнее, чем «шабля»).
Сотрудничество, союзничество между ними иногда перерастало едва
ли не в симбиоз. Собственно, еще в XIV в. венгерский король Лайош I Анжуйский стал (в 1370–1382 гг.) королем Польши, известным под именем
Людвиг (Людовик) Венгерский. Но это было начало. Позже, во времена
турецкого нашествия, когда Венгрия оказалась в сущности разодранной
между Османской империей и Австрией, венгры в массовом порядке укрывались в Польше. Так, совершив побег из австрийской тюрьмы, не куда-нибудь, а именно в Польшу бежал отец будущего великого венгерского поэта
Балинта Балашши, и Балинт некоторое время рос там (в крепости Каменец
Жешувского воеводства). А в 1576 г. трансильванский князь Иштван Батори стал польским королем Стефаном Баторием — и взял с собой в Польшу
�Традиции культурных взаимосвязей между Польшей и Венгрией... 147
того же Балинта Балашши, тем самым спасая его от турецкой неволи и, может быть, казни (Балинт к тому времени прославился дерзкими вылазками
против турок, и те ультимативно требовали его выдачи).
Перескочив сто с лишним лет, вспомним трансильванского князя Ференца II Ракоци, для которого Польша стала чем-то вроде базы, где он мог
спокойно готовиться, собирать силы для освободительной войны против
Австрии — и оттуда в июне 1703 г. вступил на территорию Венгрии — перешел Рубикон, как он сам писал в мемуарах, заимствовав это выражение
у своего кумира Юлия Цезаря. В Польше же он укрылся в 1711 г., после
поражения своего дерзкого предприятия (и мог бы там, в Кракове и Гданьске, провести остаток жизни, если бы в поисках сильного союзника не перебрался во Францию, а оттуда — в Турцию, где и оставался на положении
то ли почетного гостя, то ли интернированного до конца жизни).
Поляки активно помогали венграм во время национально-освободительной войны 1848–1849 гг.; генерал Йозеф Бем был одним из самых эффективных военачальников венгерской революционной армии.
И (случайность, конечно) рядом с ним в качестве адъютанта сражался и
погиб еще один венгерский поэтический гений Шандор Петефи.
Продолжать приводить примеры можно долго, вплоть до Второй
мировой войны, когда более ста тысяч поляков, в основном солдат, из
захваченной Гитлером Польши бежали, многие с семьями, в Венгрию,
и Венгрия дала им убежище, хотя была связана с Германией военным
союзом. И — вплоть до 1956 г.: венгерская революция началась, как
известно, 23 октября 1956 г. как демонстрация солидарности с попытками поляков отстоять свой, польский путь строительства социализма. Недаром одним из эпицентров, вокруг которых собиралась будапештская молодежь, был памятник Бему, а один из лозунгов, несомых
демонстрантами, гласил: «Польша нам пример дает, венгры, двинемся
вперед!» («Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat!»).
Собственно говоря, и в политическом союзе «Вышеградская (Вишеградская) четверка», возникшем в самые последние годы и объединившем четыре соседние страны: Венгрию, Польшу, Словакию и
Чехию, — можно видеть продолжение все той же давней традиции1,
тем более что Польша и Венгрия играют в нем весьма активную роль.
Таким образом, в государственной, в общенациональной, в общественно-политической сфере многовековая традиция взаимного интереса, взаимопомощи, взаимодействия налицо. И она, видимо, просто
не могла не породить аналогичных явлений в духовной сфере, в том
числе и в литературе.
Тема эта — огромная, она не уместится не только в рамки статьи,
но и целой большой книги2. Я затрону лишь один момент, который ка-
�148 Юрий Гусев
жется мне и интересным, и показательным. И к тому же, являясь фактом художественной литературы, имеет прямое отношение к истории.
Речь идет о нескольких произведениях одного из крупнейших современных венгерских прозаиков и драматургов, Дёрдя Шпиро. Кроме того
что он писатель, он еще и литературовед-славист (в 1981 г., например, издал монографию о творчестве Мирослава Крлежи). Он много переводит; в
частности, перевел на венгерский язык несколько пьес Крлежи, Выспяньского, Гомбровича. Его исторические романы, насыщенные тщательно собранным и органично встроенным в художественный текст фактическим
материалом, охватывают диапазон от Древнего Рима до XIX в.
Но в центре его внимания, вне всяких сомнений, находится Польша.
И это, повторю, совсем не случайное обстоятельство. Духовное родство
венгров и поляков было предпосылкой для того, чтобы все то, что писатель раскрывает, изображает на польском (чужом и одновременно как бы
родном) материале, звучало для венгерского читателя достаточно доходчиво — может быть, даже (и вряд ли это такой уж парадокс) доходчивее,
чем на материале своем, венгерском. Особенно это важно было в годы
так называемого «реального социализма»: тогда это был один из способов обойти бдящее идеологическое око коммунистической власти.
Роман «Иксы» («Az Ikszek», 1981) был посвящен великому польскому актеру, одному из создателей национального польского театра
Войцеху Богуславскому. Точнее, его борьбе против могущественного
«Общества Иксов» — странной тайной организации, напоминающей
масонскую ложу, но опирающейся на охранительные, реакционные
идеи, верноподданнические по отношению к русскому царю. (В общество входили очень влиятельные люди: например, министр внутренних
дел Мостовский, известный драматург Немцевич и др.) Богуславский
борется с ними тем оружием, которым лучше всего владеет, — оружием актерского мастерства. Своим сценическим поведением, актерскими находками он зажигает зрителей, городские массы. Ядро художественного конфликта книги — противопоставление разыгрываемой
во дворцах и правительственных канцеляриях политической комедии,
которая оказывается низким, подлым, губительным для народа фиглярством, — и профессионального высокого комедиантства, которое как
ничто другое способно выражать подлинные интересы народа.
Герой книги, актер Богуславский, одерживает убедительную
моральную победу над Иксами, над силами мракобесия, — но сам
гибнет в этой борьбе. (Интересно, что прототип героя Шпиро, реальный Войцех Богуславский, прожил на десять лет дольше, но писатель
предпочел не брать во внимание эти десять лет. Видимо, потому, что
это были десять лет сломленного, сдавшегося человека.)
�Традиции культурных взаимосвязей между Польшей и Венгрией... 149
В 1983 г. Шпиро опубликовал пьесу, героем которой стал тот же
Богуславский. Название пьесы — «Возмутитель спокойствия» («Az imposztor»). Написана она явно в ключе быстро входящего тогда в моду
постмодернизма: на сцене перед нами одновременно и пьеса, и работа над ее постановкой, Богуславский — и режиссер, и актер, который
играет, как это ни странно звучит, вопреки воле режиссера… Все эти
парадоксальные моменты весьма эффектны, свидетельствуют об изобретательности и мастерстве автора, однако — на мой взгляд — отвлекают внимание от основной, смертельно важной и для венгров, и для
поляков проблемы: проблемы взаимоотношений художника и власти, а
еще шире — разума и силы, или, если угодно, гармонии и хаоса.
Ко второй своей «польской» теме Шпиро сделал несколько подходов. Эта тема довольно объемна: польская эмиграция в Европе после разгрома восстания 1831 г., тяготы жизни на чужбине, надежды и
безнадежность, свары между лидерами. В этой атмосфере появляется
пророк, а может, мессия (он считает себя новым Христом), Анджей Товяньский, из литовских поляков. Он называет Польшу новой Святой
Землей, поляков — новым избранным народом и пророчит изнывающим от бессмысленного ожидания эмигрантам скорый триумф правого дела, победу над российским самодержавием. Одним из апостолов
мессии становится великий польский поэт-романтик Адам Мицкевич;
в орбиту движения втянут и Юлиуш Словацкий…
Шпиро публикует первый роман на эту тему под названием
«Пришелец» («Jövevény») еще в 1990 г.; а почти через два десятка лет,
в 2007 г., обработав огромное количество документов, издает новый
вариант романа уже под названием «Мессии» («Messiások»).
В романе этом, как и в «Иксах», тема, материал интересные и
важные — конечно, не только для венгров — и сами по себе служат
поводом для глубоких, мучительных, почти не имеющих решения
размышлений о природе и загадках феномена власти. Не столько о
власти государственной, политической, сколько о власти иллюзий, об
одержимости, которая, «овладевая массами», возводит свое воздействие в степень. Недаром «мессия» фигурирует здесь, уже в названии
романа, во множественном числе: ведь те, кто втягивается в орбиту
влияния Товяньского, становятся его апостолами, разнося вирус мессианства по градам и весям.
Важным представляется здесь то обстоятельство, что темой для
своего романа писатель избирает период безвременья: польские революционеры, вынужденные проводить годы, что называется, «в бездействии пустом», поневоле подвергаются деформирующему влиянию
фактора неудовлетворенных устремлений. Это касается и рядовых
�150 Юрий Гусев
солдат революции, таких как лейтенант Потрыковский, чей дневник
(вероятно, реально существующий) является одной из сюжетных опор,
на которых зиждется роман, и лидеров эмиграции вроде генерала Бема
(того самого, который спустя полтора десятка лет появится в Венгрии,
чтобы бороться за венгерскую свободу). Это касается и Адама Мицкевича, который изображен в романе несколько экзальтированным,
утратившим почву под ногами человеком, — да и каким он мог быть,
выпав из родной языковой среды, на чужбине, где иные называют его
«великим азиатским поэтом». Именно эпоха безвременья и создает питательную почву для появления «мессий», и неважно, шарлатаны это
или безумцы. Недаром в одной из критических статей3, посвященных
анализу романа «Мессии», появляется знакомое имя — Ставрогин. А
вместе с ним — такая родная для нас и такая страшная проблематика
«Бесов» — бесов, которых тут можно воспринимать и как (пускай отдаленную, но все же родственную) аналогию «мессий» (именно во множественном числе этого слова, может быть, и заключен его страшный
смысл). Ведь и у Достоевского бесы — порождение безвременья, когда
реальное действие подменяется псевдо-действием, идеалы — химерами, жизнь — прозябанием и, в конечном счете, самоуничтожением.
Таким образом, если в «Иксах» обращение к польской теме у Дёрдя Шпиро служило до определенной степени «эзоповым» приемом, то
в «Мессиях» — способом выйти на широкий, не ограниченный национальными или даже региональными рамками простор общечеловеческой проблематики. Но, разумеется, сам факт прямого контакта культур
не затеняет, а усиливает этот момент. Можно, видимо, утверждать, что
через такие взаимные переклички, контакты эти культуры усиливают,
укрепляют друг друга. Недаром роман «Мессии» в 2010 г. получил Центрально-европейскую литературную премию «Ангелус» (во Вроцлаве).
П ри м е ч а н и я
1
2
3
Мне интересно было узнать, что и это новейшее образование прорастает из очень давних корней. В ноябре 1335 г. венгерский король Роберт
Карой в своем дворце в Вишеграде держал совет с польским королем
Казимиром III и чешским королем Яношем Люксембургским.
Из огромной литературы на эту тему упомяну две венгерских книги: Tanulmányok a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Budapest, 1969; Csapláros I. Fejezetek a magyar-lengyel irodalmi kapcsolatok
történetéből. Budapest, 1983.
Horváth Cs. Egy újraírt regény. Spiró György: Messiások // Kritika. 2008, február.
�Дмитрий Ивинский
(Москва)
Из истории восприятия
трагедии «Борис Годунов»
в пушкинской
литературной среде
Ивинский Дмитрий Павлович — доктор филологических наук, профессор, Россия, Москва, Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова
Осенью 1826 г. «Борис Годунов» был с
энтузиазмом встречен московскими литераторами, некоторое время полагавшими, что пушкинская трагедия знаменует начало новой литературной эпохи1; первое издание трагедии2
было встречено более сдержанно, появились
отклики полемические и иронические. Здесь
ограничимся одним источником, впрочем,
весьма показательным. Вот выдержка из краткой рецензии Н. А. Полевого:
«Но, бывши русским, бывши современным, Пушкин принадлежит в то же время
векам и Европе. Вот второе отношение, в котором должно рассматривать “Бориса Годунова”. Здесь получает он, без сомнения, почетное место, но только как надежда на будущее,
более совершенное. Первый опыт Пушкина в
сем отношении не удовлетворяет нас; первый
шаг его смел, отважен, велик для русского
поэта, но не полон, не верен для поэта нашего века и Европы. Можем теперь видеть, что
в состоянии сделать впоследствии Пушкин,
этот ознаменованный небесным огнем истинной поэзии человек; но в “Борисе Годунове”
он еще не достиг пределов возможного для
его дарования. Язык русский доведен в “Борисе Годунове” до последней, по крайней мере в
наше время, степени совершенства; сущность
творения, напротив, запоздалая и близорукая:
и могла ли она не быть такою даже по исторической основе творения, когда Пушкин рабски
�152 Дмитрий Ивинский
влекся по следам Карамзина в обзоре событий и когда посвящением своего
творения Карамзину он невольно заставляет улыбнуться, в детском каком-то
раболепстве называя Карамзина Бог знает чем! Это делает честь памяти и
сердцу, но не философии поэта!»3 Сходным образом думал о пушкинской
трагедии Адам Мицкевич, не касавшийся, впрочем, темы зависимости «Бориса Годунова» от «Истории государства российского», к которой относился значительно менее прямолинейно, чем Полевой; в лекции, прочитанной в
Collège de France 4 апреля 1843 г. (курс третий, лекция XVI), польский поэт
так обобщил свои представления о несовершенствах пушкинской трагедии:
«Nous avons déja dit quelques mots du drame de Puszkin: c’est une imitation,
quant à la forme, des drames de Schiller et de Shakspeare. Mais Puszkin a eu tort
de circonscrire son drame sur la terre. Il nous fait pressentir l’action du monde
surnaturel dans son prologue; mais bientôt il l’oublie complétement, et, vers la fin,
la pièce n’est qu’une intrigue politique»4; ср. в более ранней некрологической
статье «Пушкин и литературное движение в России» («Pouchkine et mouvement littéraire en Russie», 1837): «Puszkin composa aussi un drame que les Russes
estiment beaucoup et qu’ils placent à côté de ceux de Shakespeare. Je ne suis pas de
leur avis; mais il serait long de motiver ici mon opinion. Il suffit de dire que Puszkin
était encore trop jeune pour créer des personnages historiques. Il ne fit qu’un essai
de drame, essai qui montre suffisamment ce dont il aurait été capable un jour: Et tu
Shakespeare eris, si fata sinant!»5.
Эти и некоторые другие подобные суждения не были просто частными
мнениями, основанными на индивидуальных вкусовых предпочтениях: за
ними стояли вполне серьезные идеологические конфликты, связанные как с
общими проблемами развития русской культуры имперского периода, в том
числе — с проблемой границ и возможностей ее «европеизма», так и с той
интерпретацией внутреннего смысла русской истории, которая была дана
Карамзиным в его «Истории государства российского».
В этом довольно специфическом пространстве литературно-идеологической борьбы эпохи особое место занимает концепция В. А. Жуковского,
увидевшего в трагедии «Борис Годунов» будущее русской литературы, а в
Пушкине — преемника Карамзина.
Эта концепция, в свою очередь, формировалась в непростом культурном контексте, отмеченном определенным воздействием (преимущественно
негативного плана) т. н. «декабристской» литературной критики. В частности, на размышления Жуковского о роли Пушкина в истории русской литературы оказало определенное влияние чтение статьи В. К. Кюхельбекера
«О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие»6. Эта статья, в которой говорилось об исчерпанности смысловых и стилистических возможностей элегии, канонизированной Жуковским, конечно,
не могла вызвать его сочувствия. В строгих приговорах Кюхельбекера он
�Из истории восприятия трагедии «Борис Годунов»... 153
должен был увидеть и поспешность критических суждений, и недостаток
эстетического чувства, а вместе с тем и неосновательность представлений о
русской литературной эволюции и роли в ней Пушкина.
Жуковский, избегавший открытой журнальной полемики, и в данном
случае не поступил иначе. Однако его несогласие с Кюхельбекером все же
самым непосредственным образом отразилось в одном, как минимум, тексте, пользующемся устойчивой репутацией «закрытого», — в «Конспекте
по истории русской литературы»7, созданном на рубеже 1826–1827 гг.8 и, как
считается, предназначенном «для пропаганды русской литературы во Франции»9; не решаемся исключить и иной контекст — педагогический: материалы «Конспекта» могли использоваться Жуковским в его педагогической
практике или обобщать ее.
Полемический подтекст «Конспекта» обычно ассоциируется с
А. С. Шишковым, история долгой борьбы которого с Н. М. Карамзиным приобретает в «Конспекте» характер анекдота, не требующего серьезного обсуждения: «Шишков обвинял Карамзина в том, что он исказил язык, введя в него
иностранные формы, особенно галлицизмы. Карамзин, напротив, необычайно
очистил язык. <…> Его обвинитель, <…> употребляя старые выражения или
плохо переведенные иностранные термины, которые обычай уже ввел в язык,
вопиял против галлицизмов фразами, которые были наполнены ими»10.
На наш взгляд, не менее, если не более, важен иной подтекст «Конспекта», прямо Жуковским не указанный, — только что названная статья
Кюхельбекера. Полемика, которую Жуковский ведет с этой статьей, уточняет и заостряет давно сложившиеся его представления об истории русской
литературы.
Основные аспекты этой полемики таковы.
Во-первых, по-разному характеризуется русская литература XVIII века:
Кюхельбекер просто перечисляет имена поэтов11, Жуковский стремится установить их иерархию; на первом плане у него оказываются Ломоносов и Петров, но на вершину российского Парнаса он возводит Державина12.
Во-вторых, предложенному Кюхельбекером описанию элегической поэзии как собрания банальностей13 Жуковский, не упоминая об элегии, противопоставляет образ современной литературы, опирающийся на представление о значимости индивидуального переживания, соотнесенного одновременно с литературной традицией и частными биографиями14.
В-третьих, в «Конспекте» отвергается тезис Кюхельбекера о первенстве
Жуковского в том роде поэзии, которую «выдают нам за романтическую»15:
себя он относит к школе Карамзина.
В-четвертых, если Кюхельбекер ставит Жуковского в один ряд с Пушкиным («Прочитав любую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского, знаешь все»16), то Жуковский видит в нем представителя нового литера-
�154 Дмитрий Ивинский
турного поколения и заявляет, что именно Пушкину суждено в ближайшем
будущем стать преемником Карамзина и возглавить новую литературную
эпоху: «Настоящий период еще в цветении. Уже есть писатель, который подает надежды сделаться его представителем. Это — молодой Пушкин, поэт,
который достиг уже высокой степени совершенства в смысле стиля, который
одарен оригинальным и творческим гением. Появление “Истории государства российского”, которая заканчивает предыдущий период, передает в то
же самое время свои характерные черты и тому периоду, который начинается. Это — золотые россыпи, которые открыты для национальной поэзии. До
сих пор для наших поэтов отечественные анналы были до известной степени
скрыты туманом летописей и историй еще хуже летописей — гений Карамзина осветил ярким светом минувшие времена! От его светильника поэзия
зажжет свой факел! И поэт, который способен на это, существует. Он может
создать свой собственный жанр. Его первые опыты — произведения мастера. Теперь он занимается трагедией, предмет которой заимствован из нашей
истории; он отвергнул жалкие образцы французов, которые до настоящего
времени оказывали давление на драматическую поэзию, и Россия может надеяться получить свою национальную трагедию»17.
Итак, трагедия Пушкина осмысляется Жуковским как смысловой аналог «Истории» Карамзина и вместе с тем как подлинное оправдание всей
литературной деятельности Пушкина, до сих пор ознаменовавшейся лишь
совершенством слога18.
Однако ожидания и надежды Жуковского оправдались не в полной
мере. Когда он смог ознакомиться с текстом пушкинской трагедии, он написал к А. И. Тургеневу: «Годунов превосходное творение; много глубокости и
знания человеческого сердца. Где он все это берет? Но боюсь, чтобы легкость
писать не обратилась в небрежность. Он часто позволяет себе быть слишком
прозаическим»19. И стал выправлять положение, т. е. править пушкинский
текст. Вмешательство Жуковского не было, вопреки мнению Г. О. Винокура, обусловлено только стремлением помочь Пушкину преодолеть цензурные препоны: в первую очередь Жуковский стремился придать тексту нашей
первой романтической трагедии вид, достойный выстроенной в «Конспекте» модели литературной преемственности — от Карамзина к Пушкину, от
«Истории государства российского» к первой национальной трагедии. Показательно, что Жуковский не был одинок в своем осуждении неоправданного
пушкинского тяготения к «прозаизму»: так же думали Мицкевич и Дельвиг,
настоятельно советовавшие Пушкину исключить из печатного текста сцену
«Ограда монастырская»20.
Характер правки Жуковского заслуживает отдельного обсуждения.
Здесь заметим лишь, что у нас нет оснований убирать ее из текста второй редакции «Бориса Годунова», как это сделал Г. О. Винокур («Что касается по-
�Из истории восприятия трагедии «Борис Годунов»... 155
правок в <…> подцензурных местах, то здесь вопрос решается проще всего.
Основной текст трагедии здесь может быть получен только путем устранения
всех поправок к первоначальному тексту, <…> кому бы эти поправки ни принадлежали — Жуковскому или Пушкину»21). Пушкин с этой правкой работал
весьма заинтересованно, часть вычеркнутого Жуковским материала восстановил, остальное принял, и мы не можем быть уверены в том, что он это сделал
под давлением «внешних» обстоятельств, а не по творческим соображениям.
Вместе с тем совершенно очевидно, что Пушкин оказался в исключительно сложной ситуации: борьба за публикацию трагедии с «внешними»
силами оказалась дополнена необходимостью борьбы с Жуковским, борьбы, ни разу не перешедшей в открытое противостояние, но от того не менее
принципиальной. Некоторые документальные свидетельства этой борьбы до
нас дошли.
Во втором наброске предисловия к «Борису Годунову» Пушкин, в частности, писал: «Приступаю к некоторым частным объяснениям. Стих, употребленный мною (пятистопный ямб), принят обыкновенно англичанами и
немцами. У нас первый пример оному находим мы, кажется, в Аргивянах;
А. Жандр в отрывке своей прекрасной трагедии, писанной стихами вольными, преимущественно употребля<ет> его. Я сохранил цезурку французского
пентаметра на второй стопе — и, кажется, в том ошибся, лишив добровольно
свой стих свойственного ему разнообразия. Есть шутки грубые, сцены простонародные. — Хорошо, если поэт может их избежать, – поэту не должно
быть площадным из доброй воли, — если же нет, то ему нет нужды стараться
заменять их чем-нибудь иным»22. Здесь показательно уже демонстративное
нежелание упоминать о Жуковском (Пушкин, конечно, очень хорошо помнит, что именно Жуковский в своей «Орлеанской Деве» присвоил пятистопному ямбу права гражданства в поэзии посткарамзинизма). Этого мало: вряд
ли мы ошибемся, если предположим, что в первую очередь именно к Жуковскому относится ответ Пушкина на упреки в «грубости» некоторых «простонародных» сцен.
Еще более любопытным представляется то место из письма Пушкина к
П. А. Плетневу от конца октября 1830 г., где говорится о посвящении трагедии: «Что моя трагедия?.. Я хотел ее посвятить Жуковскому, со следующими
словами: я хотел было посвятить мою трагедию Карамзину, но так как нет
уже его, то посвящаю ее Жуковскому. Дочери Карамзина сказали мне, чтоб
я посвятил любимый труд памяти отца»23. Перед нами скрытая эпиграмма,
которая, вероятно, не стала известна Жуковскому и, рискнем предположить,
не была понята Плетневым. Эпиграмма весьма острая: Жуковский готовится
объявить Пушкина преемником Карамзина, а Пушкин в игровом стиле возвращает Жуковскому его комплимент (тот умер, этот жив, ему и следует
посвящать трагедии: при такой постановке вопроса снимался всякий идео-
�156 Дмитрий Ивинский
логический и литературный подтекст, оставалась только игра с этикетом, не
имевшая особого значения).
Проект Жуковского завершился в 1837 г., когда после смерти Пушкина он обратился к Николаю I с письмом, в котором, в частности, говорилось: «Вы, Государь, уже даровали мне высочайшее счастие быть через Вас
успокоителем последних минут Карамзина. Мною же передано было от Вас
последнее радостное слово, услышанное Пушкиным на земле <…>. Итак,
позвольте мне, Государь, и в настоящем случае быть изъяснителем Вашей
монаршей воли и написать ту бумагу, которая должна будет ее выразить для
благодарного отечества и Европы»24. Государь все позволил, но счел необходимым объяснить Жуковскому, что между покойными была весьма существенная разница: «Ты видишь, что я делаю все, что можно для Пушкина и
для семейства его, и на все согласен, в одном только не могу согласиться с
тобою: это — в том, чтобы ты написал указы, как о Карамзине. Есть разница:
ты видишь, что мы насилу довели его до смерти христианской, а Карамзин
умирал, как ангел!»25
Так выяснилось, что опыт практического построения истории русской
литературы, предпринятый Жуковским, потерпел двойное фиаско: сначала
его разочаровал Пушкин грубыми сценами и, отчасти, языком своей трагедии, потом царь, не хотевший, чтобы имена Пушкина и Карамзина стояли
рядом хотя бы и в посмертных «указах».
Но вместе с тем этот опыт позволяет говорить о драматическом, даже
трагическом аспекте отношений Жуковского и Пушкина.
Жуковский, ближайший друг Пушкина, бескорыстно помогавший ему
на протяжении всей его авторской жизни, слишком часто оказывался между
ним и властью, а Пушкин — между властью и Жуковским. Так было в Михайловский период, когда Жуковский, руководствуясь дружескими чувствами, слал Пушкину наставительно-увещевательные письма, так было во время борьбы за издание «Бориса Годунова», так было и после смерти Пушкина,
когда Жуковский редактировал первое посмертное его собрание.
П ри м е ч а н и я
1
Важнейшим следствием этого энтузиазма оказался журнал «Московский Вестник». См.: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина в 4 т. / Сост. М. А. Цявловский, Н. А. Тархова. М., 1999. Т. 2. С. 193. О
первых чтениях трагедии см.: Там же. С. 171, 181, 183, 190–191; см. еще:
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников в 2 т. М., 1972. Т. 2. С.
9–10, 13, 27–30, 39–40 и др. См. также: Ивинский Д. П. Пушкин и Мицкевич: История литературных отношений. М., 2003. С. 341–342.
�Из истории восприятия трагедии «Борис Годунов»... 157
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Пушкин А. С. Борис Годунов. СПб., 1831.
Полевой Н. А. «Борис Годунов». Сочинение Александра Пушкина // Московский Телеграф. 1831. № 2. С. 244-246. См. еще: Полевой Н. А. «Борис
Годунов». Сочинение Александра Пушкина // Московский Телеграф.
1833. № 1. С. 117–147; Ibid. № 2. С. 289–327; Полевой Н. А. Очерки русской литературы. Т. 1–2. СПб., 1839. Т. 1. С. 145–210. См. также: Жданов И. Н. О драме А.С. Пушкина «Борис Годунов». СПб., 1892. С. 7.
Mickiewicz [Adam]. De la littérature slave. Paryż, 1845. S. 308.
Mélanges posthumes d’Adam Mickiewicz, publiés avec introduction, préface
et notes par Ladislas Mickiewicz. Paris, 1872. S. 302. Не обсуждаем здесь
сложную проблему русских источников лекций Мицкевича вообще и
«зависимости» отдельных их фрагментов от книги Полевого 1839 г.: это
предмет отдельной работы.
Впервые: Кюхельбекер В. <К.> О направлении нашей поэзии, особенно
лирической, в последнее десятилетие // Мнемозина. 1824. Ч. 2. С. 29–44.
См. также: Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи / Издание
подготовили Н. В. Королева, В. Д. Рак. Л., 1979. С. 453–459.
Жуковский В. А. Конспект по истории русской литературы / Подгот.
текста, предисловие и примеч. Л. Б. Модзалевского. М.; Л., 1948. С.
295–312. См. также: Жуковский В. А. Эстетика и критика / Вступительная статья Ф. З. Кануновой и А. С. Янушкевича; подгот. текста, сост. и
примеч. Ф. З. Кануновой, О. Б. Лебедевой и А. С. Янушкевича. М., 1985.
С. 317–326.
Жуковский В. А. Конспект… С. 284–286.
Жуковский В. А. Эстетика и критика. С. 414.
Там же. С. 325.
Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. С. 453.
Жуковский В. А. Эстетика и критика. С. 321.
Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. С. 456–457.
Жуковский В. А. Эстетика и критика. С. 323–324.
Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. С. 455.
Там же. С. 456.
Жуковский В. А. Эстетика и критика. С. 325–326.
Не исключено, что именно известиями о пушкинской трагедии и ожиданием ее объясняется отказ Жуковского от планов создания собственной трагедии о Годунове и Отрепьеве. См. о них: Лебедева О. Б. Перевод
В. А. Жуковским отрывка из трагедии З. Вернера «Двадцать четвертое
февраля» // Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. 1. Томск, 1978. С.
305–308.
Цит. по: Винокур Г. О. «Борис Годунов» // Пушкин <А. С.> Полн. собр.
соч. Т. 7. М.; Л., 1935. С. 420.
�158 Дмитрий Ивинский
20
21
22
23
24
25
См. об этом: Ивинский Д. П. Адам Мицкевич и «Борис Годунов» //
Пушкин и русская драматургия. М., 2000. С. 54–65; Он же. Пушкин
и Мицкевич. История литературных отношений. М., 2003. С. 209–215;
Он же. Сцена «Ограда монастырская»: Пушкин, Мицкевич, Дельвиг,
Розен // Пушкин. Москва. 1826. Альбом по материалам выставки в Государственном музее имени А. С. Пушкина. Август–декабрь 2006 / Сост.
Михайлова Н. И., Невская В. А., Панов С. А., Пономарева Е. А. М., 2009.
С. 248–253.
Винокур Г. О. Указ. соч. С. 429.
Пушкин <А. С.> Полн. собр. соч.: Т. 1–17. М.; Л., 1936–1959. Т. 11. С. 141.
Там же. Т. 14. С. 117.
Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: С приложением новых материалов из нидерландских архивов / Вступительная статья и примечания
Я. Л. Левкович. СПб., 1999. С. 205.
Там же. С. 199.
�Александр Илюшин
(Москва)
Кондратий
и
Кондратович
Илюшин Александр Анатольевич — доктор филологических наук, профессор,
Россия, Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Связи русской поэзии с польской словесностью давно уже стали предметом научного внимания литературоведов-славистов. Тому свидетельством явились многочисленные гуманитарные штудии, начавшиеся еще в XIX в. и продолжающиеся
по сей день: жива память о наших рыцарях
свободы и тружениках пера, об их житейских и творческих взаимосвязях с польскими друзьями. То, что интерес к этой
проблеме не иссяк и в XXI столетии, видно
на примере совсем недавно опубликованной работы видного российского полониста Виктора Александровича Хорева «Сибирь в поэзии русских и польских романтиков». Известный в первую очередь как
специалист по польской литературе XX в.,
исследователь занимался и Мицкевичем,
и Словацким, к тому же был благодарно
восприимчив к некоторым шедеврам старопольского стихотворства. Случалось,
выступал в роли веселого и остроумного
переводчика-импровизатора с польского
на свой родной, хотя сам не придавал этому сколько-нибудь серьезного значения. С
формами русского стиха обращался весьма легко и непринужденно. К декабристам
же, людям высокого гражданского пафоса
и в то же время незаурядного версификационного мастерства, В. А. Хорев питал
особого рода расположение.
�160
Александр Илюшин
Сразу откроем карты. «Кондратий» (в названии этого сочинения) — конечно же, Кондратий Федорович Рылеев: а кто же еще, если
не он? Этот славный антропоним подчас попадал в рискованные контексты, будучи оснащен своего рода рифмами-мифологемами: «Рылеев
восстал на злодеев», «Кондратий погиб за братий». Свое полоноязычное письмо, адресованное Немцевичу, Рылеев подписал именем Konrad
Rylejew. Словно вочеловечение в живую жизнь литературных персонажей-соименников, героев романтических поэм Байрона и Мицкевича.
А мог ли наш поэт-декабрист предчувствовать, что его земное инобытие продлится хотя бы настолько, чтобы дождаться своего польского
«соименника» — Людвига Кондратовича, более известного под псевдонимом Владислав Сырокомля! Какой выстраивается ряд: Конрад —
Кондрат — Кондратий — Кондратович. Что это: игра случая или парадоксы поэтической антропонимики? В этом ряду форм мужского имени
не нашлось места уменьшительной форме Атий, производной от Кондратий: так называли младенца, родившегося в Сибири, сына одного
из декабристов, нареченного Кондратием в память о покойном Рылееве
(отзвук-эхо: Кондратий — Атий). Что же касается Кондратовича-Сырокомли, то мы, скорее всего, не придали бы никакого значения созвучности-родственности этого антропонима, похожего на патроним (Кондрат
Кондратович), если бы не было реальных и бесспорных прикосновений
поэта Сырокомли к поэтическому миру Рылеева. Однако именно этому было суждено осуществиться, т. е. дело не ограничилось простым
совпадением. Вот она, мистика имен, намекающих на действительную
сплетенность их носителей, русского и польского.
В 1967 г. мне довелось впервые побывать в Польше, где состоялось знакомство с Богданом Гальстером, польским русистом, автором
ценных книг о творчестве Рылеева, Гоголя, и все — «на фоне течений эпохи». У Гальстера отличная коллекция фонозаписей польских
разбойничьих песен. Магнитофон включен, слушаем затаив дыхание
романтическую тюремную тоску. И вдруг слышится родное, близко
знакомое. Слова в том же духе, что и в других блатных песнях, а мелодия — «Когда я на почте служил ямщиком». Усилили звук, пошире
распахнули окно — и вылилась эта мелодия из городской квартиры,
поплыла над тишиной варшавских улиц. Примечательна ее предыстория и история. Может показаться: началось с того, что Кондратович-Сырокомля сочинил гавенду «Pocztylion. Gawęda gminna». Соотечественники его, кажется, не обратили на это особого внимания: в
Сырокомле они не склонны были видеть очень большого поэта. В России ему повезло больше. Эквиритмический перевод гавенды (Амф. 43,
43), осуществленный Л. Н. Трефолевым, лег в основу текста русской
�Кондратий и Кондратович 161
народной песни о ямщике и о его погибшей под снегом девушке. Мелодия этой песни понравилась в Польше, но там она закрепилась за
другим текстом. А почему бы нам, москалям, не спеть на голос, знаемый поляками, слова Сырокомли? И пели:
Od ranka do zmroku, od zmroku do ranka
Woziłem pakiety i pany.
Dostałem złotówkę — o, wtedy hulanka…
Кто-то из нас шутливо заметил, что, дескать, да-да, сначала нужно
развезти куда следует пакеты и только потом о панах позаботиться: как
же иначе, документ превыше человека. Грустно это сознавать, но ведь
надрывные разностопные амфибрахии гавенды повествуют и об этом.
В польской, преимущественно силлабической, поэзии амфибрахий — редкость, в русской встречается значительно чаще. Подсказан
Сумароковым, подхвачен многими поэтами ХIХ в., в их числе Трефолевым, который внес свой вклад в освоение данного размера поляками посредством народно-музыкальной интерпретации переведенной им сырокомлевской гавенды, мелодический рисунок которой
проник в польский тюремный фольклор. Итак, следующий маршрут:
польский поэт написал, русский удачно перевел написанное, россияне сочинили музыку сообразно ритмическому строю переведенного
текста, музыка эта одушевила полоноязычный стихотворный текст
на другую тему. С Запада на Восток и обратно на Запад. От гавенды
до песни. Это своеобразный пример польско-русского творческого
содружества, в котором мусикийское как бы неотторжимо от пиитического, а жанрам свойственно перевоплощаться: вместо первоначального диалога — монолог, вместо гавенды — лирическая народная песня, ставшая достоянием не только литературы, но и фольклора, включившего в свой репертуар аналогичные образцы, обычно
деформирующие литературный прототекст, такие как дума Рылеева
«Смерть Ермака», стихи Пушкина («Под вечер осенью ненастной»),
«Дубинушка» В. И. Богданова, «Гибель Варяга» Е. М. Студенской, а
также множество других примеров.
Пусть все это так, однако вопрос: причем тут Кондратий Рылеев,
лишь бегло и как-то необязательно упомянутый в предыдущем абзаце
данного сочинения, в то время как разговор о нем предполагался в
самой тесной связи с Кондратовичем-Сырокомлей? Здесь самое время
вспомнить о том, что Сырокомля был не просто читателем, но и переводчиком рылеевской поэмы «Войнаровский», хотя еще во второй
половине ХIХ — начале ХХ вв. считалось, что ее переводчик — ано-
�162
Александр Илюшин
ним. В ХХ в. сомнения в авторстве Сырокомли развеялись. В 1955 г.
во Вроцлаве вышла книга: Кonrad Rylejew. Wojnarowski. W przekładzie
Władysława Syrokomli (Kondratowicza). Во вступлении Леона Гомолицкого имя Конрад уточнено в скобках: Kondratij.
Еще одно сближение имен Конрада — Кондратия с Кондратовичем. Заглянул в эту чудесную книгу — да, все на своих местах. Никак не удавалось ее приобрести — выручил Б. Гальстер: видя мою
нескрываемую заинтересованность, подарил мне экземпляр из своей
домашней библиотеки, а у меня не хватило деликатности сказать, что
просто не смею принять столь драгоценный подарок. Радовало, между прочим, и то, что польские коллеги бережно и профессионально создали эту книгу, столь полезную для всех, кому небезразличны поэт
Рылеев и поэт Сырокомля. К солидному размеру рылеевской поэмы
(свыше тысячи стихотворных строк) добавляется около сотни стихов
в переводе В. Слободника из ранних редакций поэмы, не вошедших в
окончательный вариант текста, — среди них есть превосходные места. Плюс к этому — обширнейшее вступление, завершающееся очерком о переводе Сырокомли.
В этом очерке, в частности, указаны некоторые нескладности
перевода, от которых, по мнению составителей, не свободен переводческий труд Сырокомли. Но не со всеми критическими замечаниями
пришлось согласиться. Кое-что показалось несколько спорным. Так,
к числу не вполне удавшихся отнесены следующие строки: «Tak i my,
nasze skruszywszy okowy, / Jako nam każą nasze mężne wodze…». Однако ведь это в высокой степени точный перевод. Ср. с оригиналом:
Так мы, свои разрушив цепи,
На глас отчизны и вождей…
У переводчика та же инверсия в первой строке, те же «вожди» в
концовке второго стиха, та же изящная логика в порядке слов. Или: так
ли уж плохи следующие стихи, пусть не столь же точно передающие
букву оригинала: Мазепа мечтает «себе воздвигнуть трон» (Рылеев),
или «sobie tronu zbudować» (Сырокомля). А если уж искать высшую
точку взлета к вершинам благородного буквализма Кондратовича, то
вот, на наш взгляд, его прекрасный образец. В оригинале:
Уж было ясно и светло,
Мороз стрелял в глуши дубравы
По небу серому текло
Светило дня, как шар кровавый.
�Кондратий и Кондратович 163
И вот какой замечательный эквивалент найден полоноязычным
переводчиком:
Już było widno — po rozległym borze
Trzaskanie mrozu wystrzałem się zdawa.
Na szarym niebios sybirskich przestworze
Słońce się toczy jakby kula krwawa.
Сомнительное занятие — делить стихи на плохие и хорошие.
Другое дело — найти, посчитать, сколько раз стихотворец погрешил
против некоего общепринятого канона. От внимания составителей не
укрылось, что лишь в одной-единственной строке у Сырокомли не
хватает одного слога для соблюдения заданного стихотворного размера. Думаю, что здесь допущена ошибка или опечатка, которую нетрудно исправить, заменив недописанное слово «krzyż» на «krzyżek»:
все становится на свои места, поскольку это вариант, восстанавливающий требуемую 11-слоговость и женскую цезуру после пятого слога
(«A na niej krzyżek ku ziemi pochyły» — таково, по всей вероятности,
правильное чтение 11-й от конца строки в польском переводе поэмы).
За два года до «Wojnarowskiego» Сырокомля вдруг перестал быть
«Сырокомлей» и вновь сроднился с исконной своей фамилией. И в
Польше, и в России его чаще называли Кондратовичем после того, как
он отрекся от своего шляхетского герба, название которого ранее служило ему литературным псевдонимом. И дело тут, может быть, не в
том, что слово Сырокомля само по себе будто бы неудачное, «какое-то
не такое», а в том, что оно шляхетское, а следовательно, антинародное, что особенно выявилось в 1859 г. Отсюда — финишная прямая,
ведущая Кондратовича к Кондратию Рылееву, чьи инициалы и один
из псевдонимов, заметим попутно, — К. Р. В ряду наших поэтов был и
другой К. Р. (великий князь и весьма посредственный стихотворец) —
Константин Романов с теми же инициалами и псевдонимом. Заметил
ли он и радовался ли столь «странному сближению» с Рылеевым?
Сомнительно. В случае же с Кондратовичем-Сырокомлей все иначе.
Прикосновенность польского поэта к Рылееву и к поэме «Войнаровский» дает о себе знать не только на рубеже 50–60-х гг., но и значительно раньше, в 40-х, в начале его творческого пути.
Чувствуется, что Кондратовича-поэта особенно увлекал финальный фрагмент рылеевской поэмы, где впечатляет стих-тавтограмма —
«Тревожим тайною тоскою». Соблазн: как передать это в польском переводе? Сырокомля нашел два необходимых слова на букву «Т»: Тайная
Тревога. А что насчет третьего, чтобы соответствовать оригиналу? В
�164
Александр Илюшин
принципе, можно найти: уместная в этом контексте Тroska и в нужный
метр улеглaсь бы, и по смыслу подходит, и соблюдена искомая триада
начальных литер «Т». Таких задач еще не решали и не ставили перед
собой переводчики ХIХ в. Но были и у них озаренные стиховедческие
решения, были и затейливые кунштюки. Вот и Кондратович не отставал. У мертвого Войнаровского «как мрамор лоснится чело». Как мы
слышим, здесь слоговое созвучие «ЛО» — в окружении тех же звукосочетаний. В польском переводе — сходное: чело клонится на лоно и пр. К
тому же, эти «ЛО» могут быть и безударными, и ударными.
«Сценариум» же здесь такой: герой, томимый тревожным предчувствием, едет по снежной равнине и обнаруживает полузасыпанный снегом труп дорогого ему человека с застывшим взглядом недвижных глаз. В переводе то же самое, но ведь не только в переводе,
а и в упоминавшейся выше ранней гавенде «Почтальон». Между тем,
в некоторых ее русских народно-песенных вариантах, восходящих к
Трефолеву, исчезает жутковатый образ открытых глаз мертвеца:
Под снегом же, братцы, лежала она,
Закрылися карие очи…
Мотив гибельного замерзания как итога человеческой жизни звучит и в поэме Некрасова «Мороз, Красный нос», где стынет от холода
обездоленная героиня, и у Пушкина охотники «замерзают в снеговой
степи», и в песне на слова Сурикова «В степи» к строке «Умирал ямщик» имеется вариант «замерзал ямщик», и наши враги сгинули «под
снегом холодной России» (Лермонтов). Вымораживать из избы тараканов — или, как тараканов же, теплолюбивых иноземцев-агрессоров,
посягнувших на русский суверенитет, — святое дело чрезвычайной
важности. Гейне страною морозов и кнута называл наше любезное отечество и не хотел приехать в Россию, боясь стать очередной жертвой
переохлаждения. «Замру ль в метель среди оврага — не знаю» — из
поэмы Огарева «Странник», в тексте которой имеются, в свою очередь, реминисценции из «Войнаровского», чей автор, по признанию
самого Огарева, был ему «первым светом».
Приложение
Кое-что о рылеевских ямбах в ритмических интерпретациях Сырокомли-переводчика.
Поэмы Рылеева, за исключением четырех строк девятой главки
«Наливайко», выдержаны в стихотворном размере астрофического
�Кондратий и Кондратович 165
четырехстопного ямба с альтернансом мужских и женских строк,
наиболее распространенном в русской силлаботонике. В этом метре
написана вся поэма «Войнаровский» — от самого начала (посвящение Бестужеву) до конца, и это вполне обычное явление для русской
поэзии 20-х гг. XIX в. Польские мастера обращались к форме Я4 значительно реже. Она особенно трудна, если хочется рифмовать не только женские, но и мужские стихи, однако тогда приходится, согласно
законам польской просодии, рифмовать лишь односложные слова:
dum — szum, а их запас невелик. Русские же стихотворцы как раз избегают фигур Я4 со сплошь женскими клаузулами. Вот, впрочем, пример-подсказка со стороны Тютчева, из строк которого таки складывается интересующая нас ритмическая фигура: «Вдали от солнца и природы, / Вдали от света и искусства /… / Мелькнут твои младые годы, /
Былые помертвеют чувства, / И жизнь твоя пройдет незрима / В краю
безлюдном, безымянном, / Как исчезает облак дыма / На небе тусклом
и туманном» (из стихотворения «Русской женщине» с пропущенными
мужскими строками, отсутствие которых делает текст монотонным).
Стих Кондратовича, в отличие от рылеевского, допускает усеченные и вообще неточные рифмы (ducha — ufał, gdzie tam! — Poeta),
но они, как правило, изобретательны и этим располагают к себе. Анакрузы в его ямбических четырехстопниках таковы, что позволяется
употребление в начале строки двусложного слова с ударным первым
слогом (w stepach, pełen, nawet, trwając, gwiazda): такая переакцентуация в польском стихосложении отнюдь не считается запретной (в русской же версификации она, скорее, нежеланна).
Познакомившись с полоноязычным переводом авторского посвящения поэмы Бестужеву, читатель может ожидать, что и весь дальнейший текст «Войнаровского» переведен в размере Я4, в соответствии с оригиналом. Но оказывается, все остальное переведено силлабическим цезурованным 11-сложником, так что об эквиметрии тут не
приходится говорить, однако переводческое решение Кондратовича
представляется удачным. Ритмическая состоятельность 11-сложника
и его приложимость к разработке высоких жанров подтверждается
творческой практикой великих польских романтиков ХIХ в. Русские
поэты чаще всего переводили их в размере пятистопного ямба — Я5.
Но свою роль во всем этом сыграла наша отечественная силлабика,
чьи превосходные образцы явлены еще в эпоху барокко. Позже ставились опыты и переводческой силлабики, причем подопытным материалом становились не только польские стихи, но и (в первую очередь) романоязычные, особенно итальянские endecasillabi. К этому
делу руку приложил еще Шевырев, размышлявший о том, как следует
�166
Александр Илюшин
переводить терцины Данте и октавы Тассо. В ХХ в. интернациональный набор переводимых силлабикой памятников поэзии значительно
расширился, вобрав в себя новые материалы, пришедшие к нам как с
Запада, так и с Востока.
Если в переводческой практике безвозбранно допускается подмена русских ямбических 8- и 9-сложников более длинными польскими
стихами — 11-сложниками, — то вот вопрос: а можно ли «наоборот»?
То есть правомерно ли перелагать «длинные» польские стихи русскими строчками, которые «покороче» — хотя бы теми же Я4? По-видимому, это возможно, примеры имеются (самый впечатляющий — «Пан
Тадеуш» в переводе Бенедиктова размером Я4). Что касается одного
из героев этого очерка, Кондратия Рылеева, переведшего две баллады
Мицкевича, то он, хотя и облек одну из них в форму Я4, но при этом
не сузил, а, напротив, расширил стих: 7-сложники оригинала заменил
8- и 9-сложниками четырехстопного ямба. И получилось прекрасно.
Все-таки это удивительный поэт. Честь и хвала Кондратовичу, который это понял.
�Войцех Кайтох
(Краков)
Кайтох Войцех / Kajtoch
Wojciech — Dr. hab., Польша, Краков, Ягеллонский
университет
«Две головы птицы»
Владислава Терлецкого
Роман «Две головы птицы» создавался в 1967–1969 гг. Реконструируя историю замысла романа, «систему намерений» писателя, я буду опираться на его
публицистику и критические статьи. На
историческую романистику, несомненно,
оказала воздействие работа над произведениями психологического плана, посвященными ментальным последствиям
Второй мировой войны и позднейших
братоубийственных войн. Вот зрелая, относящаяся к началу 60-х гг. версия темы
современности: «Я верю в тесную связь
писательского труда с эпохой, в которой
писатель живет… Меня интересует в этой
эпохе умирание старого мира, его связь
с современностью, человек, создающий
эту эпоху и одновременно вовлеченный
в конфликты, которые уже уходят в прошлое… люди, которые, живя в современном мире, пытаются жить вопреки ему»1.
Генезис «Двух голов птицы» я связываю с участием Терлецкого в дискуссии рубежа 50–60-х гг. о нашем национальном характере и национально-освободительной борьбе. Его позиция не была
неизменной. В 1959 г. Терлецкий поддержал антиромантический и неопозитивистский манифест С. Гроховяка 2, а в 1963 г.
выступал защитником обоснованности
январского восстания 1863 г., доказывая,
�что лоялистски-позитивистская программа восстановления независимости была ошибочной.
В полемике Терлецкого с М. Ваньковичем (приблизительно
1960 г.) мы находим зачатки очень важных для писателя размышлений об исторической правде и ее художественном воплощении, о художнике как личности, которая либо открывает обществу историческую истину, либо участвует в создании мифов, упрощающих образ
истории и человека прошлого3. В 1962 г. он развивает эту мысль: «В
последнее время я читал протоколы следственной комиссии по делу
Национального правительства… Это чтение меня потрясло. Как
сильно художественная литература может запутаться в сетях лжи,
когда превращается… в дилетантскую дидактику! Сколько правды о
людях того времени… говорят… судебные протоколы. Что большего
может предложить литература нашего времени будущему и нынешнему читателю? Правду… — какую правду?»4
В статье с весьма значимым заглавием — «За золотой образец
современного патриотизма» — писатель обозначил самое существенное для него в восстании 1863 г. и важное с современной точки
зрения в полемике с нынешними апологетами политики соглашательства.
Ощущая необходимость «поиска истоков, определения того,
где берет начало современная судьба, что собственно скрывается за
фразеологическим оборотом “польская судьба”»5, писатель обратился к судебным протоколам, ощутил язык эпохи, увидел «психологическое родство» интеллигентов современности и прошлого, чья ментальность не так уж существенно различается — как и принципиальные вопросы, которые они ставили перед собой6. Одновременно
Терлецкий считает бесплодной дискуссию о «героизме» (особенно
по отношению к восстанию 1863 г.). Сопоставив фальшивый образ
«бедного шляхтича, с отцовской саблей в руке бросающегося на
пушки», и «темного мужика, убивающего повстанца», писатель,
убежденный, что «ошибки этого восстания являются… уроком, который позволяет сделать вовсе не утратившие актуальности выводы»7, напоминает весьма печальный факт: находящиеся перед лицом
внешней угрозы поляки боролись друг с другом — и обещает привести неизвестный пример, «мудрый и прекрасный одновременно»8.
Так родился «Заговор» (1966), создававшийся в 1962–1965 гг.
документальный роман о Стефане Боровском, руководителе варшавской повстанческой организации, первом главе города, который 12
апреля 1863 г. погиб от рук поляков на спровоцированной партией
«белых» дуэли. Роман должен был стать отрицанием романтической
�«Две головы птицы» Владислава Терлецкого 169
легенды, стереотипного взгляда на прошлое, мешающего пониманию современности9, и в то же время был призван показать личность
человека того времени настолько современно, насколько это позволяет нынешняя техника внутреннего монолога и построения персонального повествования10 «с точки зрения героя».
Замысел, однако, удался лишь наполовину11, а взгляды Терлецко
го претерпели дальнейшую эволюцию. Примерно в 1965 г., познакомившись с «Приключениями мыслящего человека» М. Домбровской,
он начал задумываться о реализме12.
К «Заговору» Терлецкий отнесся как к проходному эпизоду
творчества13, а к историческим сюжетам он в это время охладел под
влиянием субъективной теории правды: «В литературе исторический процесс обусловлен нашим видением современной действительности… берясь за историческую тему, мы обречены на мифотворчество, создание легенд»14. Он осознал, что ни у кого нет патента
на полную историческую правду и что и сам он, противодействуя
ложным общественным стереотипам, тоже может их создавать. «В
Польше, где отношение к своим истокам основано именно на литературном визионерстве, это связано со слишком большой ответственностью. Нет смысла рассказывать читателю о “подлинных” фактах,
поскольку не существует неизменного мифа… создавая такой миф
из самых благородных побуждений, противоречишь фактам, которые история уже открыла и откроет в будущем»15. Соответственно, и
реализм, до сих пор примитивно понимаемый как правда жизненной
детали16, стал для него условностью анахроничной и непригодной
для осмысления проблем современного мира. Итог размышлений,
позволивший и разрешить эту дилемму автора исторической прозы,
был таков: «В XIX в., — писал Терлецкий после завершения “Двух
голов птицы” (1970) и следующего романа о восстании 1863 г.17 —
от литературы ожидали больших, обобщающих картин мира. Она
должна была объяснять этот мир, постигать, оценивать… Мы уже
не можем объяснять мир… Я считаю, что вместо создания синтетических концепций, объясняющих современный нам мир, нам необходимо ставить перед обществом вопросы, на которые мы не всегда
можем найти удовлетворительные ответы. Тем не менее, смыслом
нашей деятельности и нравственным долгом является постановка
таких вопросов… основной задачей писателя является формирование нравственной, идейной и эстетической восприимчивости»18.
Также изменяются и задачи, стоящие перед автором исторических произведений. Вместо того чтобы искать «миф, не ставший еще
пережитком», следует предложить читателю критически взглянуть
�170 Войцех Кайтох
на прошлое, давая ему такие образы, которые заставят его стремиться к очищению своего мышления от распространенных стереотипов;
писать следует романы, которые создают неоднозначные картины
зарождения и протекания исторических процессов.
В конце 70-х гг. Терлецкий, все меньше заботясь о том, чтобы
избежать анахронизмов в изложении и все больше сосредотачивая
свое внимание на проблемах измены, сохранения верности идеям и
делу, а также соглашательства с врагом, так определял свою конкретную цель: «Все больше событий, происходящих в современном мире,
не зависит не только от нашей воли, но и от нашего сознания. И все
меньше мы знаем об исторических процессах… Здесь и намечаются
обязанности литературы. Я хочу, чтобы мы смотрели на современный
исторический процесс как на нечто чрезвычайно сложное»19.
Герой романа «Две головы птицы» — Александр Вашковский20
(1841 — 17 февраля 1865) — большую часть своей короткой жизни проводит в Варшаве, с 1862 г. принимает участие в деятельности
тайных обществ, в апреле 1863 г. уже занимает руководящий пост в
городской организации, а по политическим взглядам принадлежит к
правому крылу «красных».
В июне 1863 г. он захватывает казну Царства Польского
(3 600 000 рублей, из них 3 087 000 в закладных бумагах, которые
были вывезены в Англию). 17 октября 1863 г. Ромуальд Траугутт
был провозглашен повстанческими силами диктатором, 10 декабря
Вашковский занимает пост начальника города и становится одним из
самых преданных и активных сподвижников Траугутта. Он борется
до конца, даже после казни Траугутта (5 сентября 1864); с октября
он остается практически один. С горсткой подчиненных он создает
повстанческую организацию, а 19 декабря 1864 г. его арестовывают.
Эта дата — конец восстания, но лишь начало истинной трагедии
последнего начальника города (с этого момента начинается роман),
предстающего перед следственной комиссией, для которой «не менее важно, чем заставить узника признать свою вину и выдать своих
соратников, было морально сломить его, убедить в бессмысленности
борьбы, ради которой он готов был жертвовать жизнью»21. Поначалу
Вашковскому удается сохранить свою честь и достоинство, позднее
комиссия начинает свою игру: «Положение Вашковского было тяжелым… ничто не могло спасти его от смерти. Речь шла о ином… о
его моральной смерти»22. Комиссия проявляла якобы весьма любезное отношение к бывшему начальнику города, ее глава изображал из
себя человека чрезвычайно доброжелательного, выражал сожаление
по поводу положения настоящего патриота, подчеркнуто вежливое
�«Две головы птицы» Владислава Терлецкого 171
отношение к нему было предписано даже слугам, а Вашковскому это
«выражение неподдельного восхищения» льстило. Его сломил провал задуманного побега, после чего он пишет униженное письмо с
изложением «истории организации», раскрывает русским все ее тайны, и, будучи «опорой восстания», признает, что «дальнейшая деятельность повстанческой организации не только не ведет к желаемым
результатам, но даже приводит к ослаблению национальных сил»23.
Приняв при деятельном участии врагов новую истину, Вашковский
перечеркивает свое главное деяние и дает показания, позволяющие
вернуть упомянутые закладные бумаги России. Закончил он свою
жизнь на виселице.
Согласно Терлецкому, «Вашковский умирает сначала духовно,
потому что начинает верить в правду, внушенную ему врагами. И
только потом гибнет физически»24. События романа, представленные в хронологической последовательности, охватывают период от
момента ареста и до окончания следствия. Автор не показывает наиболее важные моменты жизни героя, лишь рассказывает о том, как
Вашковский попал в руки врага, поддался его манипуляциям и помог
ему вернуть более трех миллионов рублей. Объективного описания
исторических событий в книге вообще нет, потому что автором
была избрана личностная перспектива повествования, и нет никого,
кто мог бы подтвердить объективность изображаемого. Сфера вымысла — это и сфера гипотез: нечто могло быть в действительности, но не обязательно так было. Зная исторические факты, их легко
можно локализовать в книге — зато личностная перспектива повествования не позволяет исторически неподготовленному читателю
почерпнуть из книги новую, надежную информацию. Разумеется,
сцены допросов и бесед в романе содержат много информации, но
в них действуют люди осведомленные, не нуждающиеся в дополнительных объяснениях и деталях.
События, изображенные в романе, являются основными носителями проблематики, независимо от того, воспримет их читатель
как исторические или нет. Они важны сами по себе, и в результате
этого читатель не может ограничиться позитивным внеисторизмом,
но ничто и не мешает заключить с ним обычное в такого рода произведениях соглашение «за спиной героя», базирующееся не на общем знании фактов или их устоявшихся трактовок, а на общности
основных морально-этических принципов и национальной исторической символике, на ценностях универсального характера.
Прежде всего, такое соглашение должно обеспечить понимание действия романа, поскольку, хоть это и простая история, ее не
�172 Войцех Кайтох
так просто вычитать из книги: все представляется с точки зрения
Вашковского, не понимающего, что он подвергается «промыванию
мозгов». Эту перспективу представляет основной повествователь в
романе, который обладает знаниями Вашковского и только его мысли
передает читателю. Иногда повествование переходит к нейтральному
типу, когда рассказчик верно передает слова других персонажей, как
бы «выключая» на это время своего основного «подопечного».
Истинными же «авторами» (участниками) заключаемого соглашения с читателем являются второй рассказчик, весьма сдержанно
намечающий авторскую дистанцию, отстраненность (повествователь-режиссер)25, и третий рассказчик — сокамерник Вашковского.
Вмешательство «автора текста», позволяющее заключить соглашение, видно не только в введении трех рассказчиков, но и в искусном расположении эпизодов и проведении сходств и аналогий между
взглядами разных персонажей, ведущих в романе продолжительные
дискуссии. Такое построение произведения позволяет, с одной стороны, раскрыть взгляды автора, с другой — является инструментом,
при помощи которого автор управляет процессом восприятия текста. Общий принцип функционирования этого инструмента таков:
для оценки данного мнения следует постоянно учитывать, с какой
целью оно было высказано и с какими взглядами другого персонажа
сходно. Назовем эти сходства и аналогии опосредованными сигналами, поскольку существуют еще и содержательные высказывания,
направленные не только от одного персонажа к другому, но и от автора — к читателю.
Читатель становится свидетелем того, как Вашковскому прививается определенная система взглядов: некое временное обстоятельство — зависимость Польши от соседней державы — он должен
признать аксиомой, а свои мысли, поступки и систему ценностей
выстраивать в соответствии с этой аксиомой. Цель членов комиссии
состояла в том, чтобы склонить Вашковского к добровольной даче
показаний о захвате казны и к возможному дальнейшему сотрудничеству. Чтобы достичь этой цели, необходимо было убедить его, что
патриотическая деятельность (и ее философская база) была неверной, поскольку наносила вред Польше.
Начальник города понимает, какова цель его противников, но
все же поддается, поскольку не понимает методов. Мировоззрение
у него не слишком сложное и достаточно типичное. Он вел борьбу
с оккупантами во имя преемственности идеи, будучи убежден, что
существует дух народа, историческая справедливость, которая реализует мечту о независимости. Он считает, что эта борьба справед-
�«Две головы птицы» Владислава Терлецкого 173
лива и будет продолжаться, несмотря на то, что поражение следует
за поражением.
А вот что противопоставляют ему противники: «“Нет единой
для всех свободы”, она есть стремление к лучшей, более мудро устроенной жизни; дух народа — рискованное понятие, определяемое на
основании этнической принадлежности, а в большом государстве
сосуществуют разные народы, и доминирование, господство — элемент действительности, оно должно быть просвещенным, видящим
свою выгоду в процветании всех»; величие народа не имеет ничего
общего с моральной правотой, а его силу и право быть самим собой
не измеряют заслугами, которыми изобилует история; «когда одно
зло уничтожает другое, то оно становится добром, благом»26.
Вашковский сломлен и принимает эти мнения как свои, становясь сторонником тактики «органической работы», стремящимся не
допустить продолжения борьбы. Теперь он считает, что к участию в
восстании его и других подтолкнул неразумный фанатизм, ведущий
к общему несчастью, что это был порыв ради миража национального
освобождения 27, поэтому он решает во имя прекращения сопротивления лишить эмиграцию денег, сомневаясь, что обретение независимости имеет смысл.
Драма случилась. Читатель «посмотрел» всю историю до конца
и может вместе с героем поверить следственной комиссии, может
даже не понять, что Вашковский совершил предательство, наоборот — счесть (подобно некоторым рецензентам), что его убедили в
правильности пути органической работы, что он был близок к предательству (сотрудничество с охранкой), но вовремя сделал шаг назад.
Отмечалось, что «соглашение за спиной героя» состоит из сигналов двух типов, среди которых опосредованные призваны обеспечивать правильную оценку читателем убедительных аргументов
противника28. Среди персонажей есть сокамерник Вашковского, его
гид по тюремной жизни и глашатай патриотических идей («Это была
плохая идея. У нас был выбор — борьба или гибель»), устами которого Терлецкий выражает близкие ему самому взгляды. Хотя этот
персонаж — заблуждающийся, считающий, что восстание все еще
продолжается — не может стать авторитетом для читателя, он позволяет писателю расставлять нужные акценты в содержании произведения, сигнализировать о негативной оценке позитивистских
идей органического труда, поскольку философские основания последних провозглашаются недостойными лицами, совершающими
предательство (Шченсный, Потоцкий ).Соглашение заключено: читатель понял, что Вашковский поддался манипуляциям противника
�174 Войцех Кайтох
и предал (хотя полагал, что лишь изменяет позицию), автор обозначил свое отношение к лоялистски-позитивистским идеям XIX в. К
чему же относятся слова о постановке перед обществом вопросов, на
которые нельзя найти ответов?
Представляется, что Терлецкий хочет, чтобы читатель начал
думать по аналогии. Неслучайно философские основы принимаемой
Вашковским «правды врага» звучат весьма современно, а проблема
закрепляемых в ПНР стереотипов продолжает традиции «реальной
политики». Читателю на убедительном примере показано, что вредоносные взгляды могут внедряться не осознающим этого факта индивидам, чтобы он задумался, не могут ли подобные вещи происходить и сегодня, обрел критическое мышление.
Терлецкий реализовал в «Двух головах птицы» идею о том, что
имеет смысл лишь такой исторический роман, который не только
является литературным произведением исторического жанра, но и
говорит о механизмах истории.
«Две головы птицы» — это произведение высокого уровня, с
логичной и последовательно выстроенной композицией, затрагивающее серьезную проблематику. У романа только один «недостаток» — читатель может все это распознать только после выполнения
«условий договора» с писателем, после глубоких обобщений и самостоятельной интерпретации изображенных событий.
Рецензенты с этой задачей скорее не справились. Из десяти посвященных роману текстов, опубликованных в течение года после
его появления, только два свидетельствовали об адекватном прочтении произведения. З. Зентек писал: «“Две головы птицы” — это два
лика действительности, явный и тайный, видимых идей и скрытых
сил, использующих эти идеи в качестве инструмента воздействия…
Достойная сожаления трагедия Вашковского состоит в том, что его
мысль проникает только в один, поверхностный слой, поэтому он
и становится пешкой в руках тех сил, о существовании которых и
не подозревает… И трагедия его вызывает смешанные чувства, поскольку он становится предателем, думая, что меняет свои политические убеждения»29. Ему вторит Й. Лукасевич: «Существует ли момент, когда нельзя принимать ответственность за свои мысли, свое
понимание событий, потому что это может быть способ мышления,
который ловко и незаметно нам навязывает наш враг?»30
Остальные не заметили субъективной природы представления
в книге событий, смотрели на то, что им было представлено, с точки зрения реальности31, и в результате не поняли факта предательства Вашковского, не увидели проблемы манипуляции сознанием.
�«Две головы птицы» Владислава Терлецкого 175
Эти рецензенты не пришли к соглашению с писателем «за спиной
героя», а поскольку это соглашение Терлецкий основывал на общем
понимании базовых моральных понятий, такое восприятие можно
определить, воспользовавшись определением Ст. Хвина, как «релятивистское чтение»32.
В рецензиях высказывались мнения, что книгу «наполняет… великий дискурс, в рамках которого как будто проходит суд над польской историей… в котором нет окончательного приговора»33; «в деле
Вашковского Терлецкий увидел драму столкновения идей… испытание на прочность основных концепций отношения к собственной
истории, присущих прошлому веку. Автор ограничился собственно
сопоставлением этих позиций… аргументам и системам воззрений
придал одинаковый вес, значимость»34; «каждая точка зрения имеет
свое место в истории, если она не теряет связи с общими интересами… История… — это место верности самому себе, но также и верности направлению ее основного течения»35; «Вашковский идейно капитулировал, но не стал предателем. Он усомнился в целесообразности
дальнейшей борьбы, но… в то же время он хотел предотвратить страдания земляков»36; «в беседах с интеллигентным русским Вашковский
открывает для себя общественные механизмы, о которых он раньше
совсем не задумывался… он оказывается не двадцатилетним мальчиком, совсем напротив — он именно что перестает мальчиком быть»37.
Иными словами, признавалось, что: Терлецкий не имеет собственного мнения относительно целесообразности борьбы с захватчиками или соглашения с ними; по мнению Терлецкого, как позиция
капитуляции перед врагом, так и сопротивления ему были одинаково правильными; писатель позитивно оценивает обе позиции, если
их умело применять в зависимости от исторической конъюнктуры;
по Терлецкому, именно соглашательство было правильным выбором; офицер охранки рекомендовал полякам правильное поведение,
а Вашковский, послушав его, стал мудрее.
Таким образом, последовательное введение в исторический роман индивидуальной перспективы повествования привело к тому,
что каждый читатель прочитывал роман так, что выводы, которые
соответствовали его взглядам, он считал особо близкими и автору
произведения, хотя это вовсе не вытекало из текста38.
С того времени прошло более 40 лет. Автор скончался в 1999 г.39,
но произведения его живы — в том числе, и романы о восстании 1863 г.
Терлецкий продолжил интересоваться этим периодом польской истории: опубликовал роман «Возвращение из Царского Села»
(1973), сборник рассказов «Растет лес» (1977), роман «Плач» (1984),
�176 Войцех Кайтох
составившие вместе с «Заговором» и «Двумя головами птицы» переиздававшийся цикл «Лица 1863». Считалось, что эти произведения
анализируют темные страницы польской истории XIX в. — манипуляции сознанием людей, факты предательства — и этот анализ не
лишен отсылок к современности, но изображение исторически правдоподобно. Эти произведения — образец глубокого психологического и историософского анализа, не чуждый нравственных оценок.
«Две головы» обрели широкого читателя: в середине 80-x гг.
роман был внесен с список рекомендуемой учащимся лицеев дополнительной литературы40, и хотя до его анализа дело доходило редко,
он оставался в этом списке и в 90-е гг. Большую роль в популяризации романа сыграла его сценическая версия41, но более всего этому
способствовала специфика 80-х гг. С момента введения в стране военного положения (13.12.1981) вновь расцвела конспирация, термины манипуляция, провокация, служба безопасности и т. п. вошли в
политический словарь улицы.
Исторические произведения Терлецкого вызывают живой интерес литературоведов и критиков42. В анализе «Двух голов птицы», наряду с психологической, встречается моралистическая, идеологическая и историософская трактовки, причем историософию Терлецкого
связывают с неклассической историографией (Ф. Бродель), исторической антропологией (Ж. Ле Гофф, А. Гуревич), постмодернистским
историографическим дискурсом (Ф. Лиотар)43.
Традиция показа в историческом романе такой действительности, какой ее могли видеть люди того давнего времени, имеет в польской литературе прочные основы. Ее классики — Т. Парницкий44,
Я. Ивашкевич, Г. Малевская. С начала 60-х годов ее развитие связано с именами — наряду с Терлецким — Т. Лопалевского, Ю. Хена,
А. Стойовского, Э. Рыльского45.
(Перевод О. Лешковой)
Примечания
1
2
Terlecki W. L. Wypowiedź w ankiecie «Pisarz a współczesność» // Życie
Literackie. 1960. № 20.
Ср.: Grochowiak S. Karabela zostanie na strychu // Współczesność. 1959.
№ 1; Idem. Do mentorów najmilejszych // Współczesność. 1959. № 6 ;
Czajkowski J., Gołębiowski B., Kabatc E., Minkowski A., Siewierski J. Sztuka
wyboru // Współczesność. 1959. № 8; Terlecki W. L. Licytacja ambicji //
Ibid. , а также статьи, посвященные этой теме в следующих номерах.
Публицистические атаки рубежа 50–60-x гг. на польские военные и
�«Две головы птицы» Владислава Терлецкого 177
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
повстанческие традиции, исходившие из круга молодых католических
консерваторов (в защиту традиций, как ни странно, высказывались
марксисты, например, З. Залуский), автору данной статьи казались парадоксальными, пока один из участников спора не разъяснил ему, что,
осуждая якобы присущую полякам склонность бросаться «с саблей наголо в атаку на танки», они имели в виду не немецкие, а русские танки.
Таким образом, это должен был быть пристойный способ заявить —
что было весьма актуально после «польского октября», — что очередного восстания не будет.
Ср.: Tragiczny związek // Współczesność. 1959. № 13 (в частности,
рецензия на «Хубальчики» M. Ваньковича); Drugi bok sprawy //
Współczesność. 1960. № 16.
Terlecki W. L. Przemówienie do ściany // Współczesność. 1962. № 14.
Terlecki W. L. Ankieta // Współczesność. 1965. № 7–8.
Umarli są bardziej tolerancyjni. Wywiad K. Nastulanki z W. L. Terleckim
// Polityka. 1977. № 23.
Ср.: Terlecki W. L. Jeszcze wokół 1863 // Współczesność. 1963. № 4.
Ср.: Terlecki W. L. O złoty wzorzec współczesnego patriotyzmu //
Współczesność. 1963. № 22.
«В идейных позициях людей, живущих в прошлом, меня интересует
в первую очередь то, что их разделяет. Наша литературная традиция
создала легенду, которая эти различия стирает. А эта легенда ложная… она стирает также существующие в настоящее время различия и разногласия» (Po nas jest wszystko. Wywiad T. Krzemień z W. L.
Terleckim // Kultura. 1975. № 35, S. 3).
В анализе я опираюсь на теории Ф. Штанцеля и С. : Eile S. Światopogląd
powieści. Wroclaw, 1973; Stanzel F. Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły. Typowe formy powieści // Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia / Wyb., opr. i przekł. R. Handke. Kraków, 1980.
«Заговор» и связанную с ним проблематику существенных изменений
в концепции польского исторического романа я подробно рассматриваю в статье: Kajtoch W. Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu
styczniowym («Spisek», «Dwie głowy ptaka», «Powrót z Carskiego Sioła»)
// Rocznik Komisji Historyczno-literackiej XX. Kraków, 1983. S. 91–119.
(Там же приводится библиография).
См.: Terlecki W. L. Zwycięstwo i klęska // Współczesność. 1965. № 14;
Idem. Czyściec // Współczesność. 1966. № 10; Idem. Pochwała życia i kronika śmierci // Miesięcznik Literacki. 1967. № 5.
Возвращаясь к теме несоответствия идейных установок людей изменяющейся истории в ходе написания романа «Звезда Полынь» (1968),
завершающего это направление в творчестве писателя.
�178 Войцех Кайтох
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Terlecki W. L. Baśniotwórstwo i historia // Współczesność. 1966. № 13.
Ibidem.
Ср.: Terlecki W. L. Edynburskie zabawy (Kartki z Anglii II) //
Współczesność. 1962. № 19.
См. «Powrót z Carskiego Sioła» (1973). Этой теме он посвятил и сборник рассказов «Лес растет» («Rośnie las», 1977), и роман «Плач»
(«Lament»,1984).
Terlecki W. L. Proza nasza powszednia // Literatura. 1972. № 16.
O historii jasnej i ciemnej. Интервью Т. Соболевского с В. Л. Терлецким
// Film. 1977. № 37.
Биография на основе: Jabłoński H. Aleksander Waszkowski — ostatni
naczelnik miasta Warszawy w powstaniu 1863–1864. Wyd. 2. Warszawa,
1963.
Kieniewicz S. Powstanie styczniowe. Warszawa, 1972. S. 736.
Jabłoński H. Op. cit. S. 142.
Ibidem. S. 143, 147, 148.
Цит. по: Po nas jest wszystko. Wywiad T. Krzemień z W. Terleckim //
Kultura. 1975. № 35, S. 3
Выполняет три функции: 1) в начале каждого эпизода указывает на
его локализацию во времени и пространстве, усиливая прозрачность
действия; 2) изредка проявляется и шире, давая понять, что это ему, а
не Вашковскому, есть что сказать; 3) в конце книги передает описание
казни, что уже не входит в действие, но представляет собой основной
комментарий (не напрямую) изображенных событий.
Terlecki W. L.Twarze 1863. Spisek, Powrót z Carskiego Sioła, Dwie głowy
ptaka, Rośnie las.Warszawa, 1979. S. 353, 355, 415.
Ibid. S. 426.
Поскольку Вашковский, приняв их, стал сторонником идей «органического труда», я делаю вывод, что Терлецкий считает их соответствующими этой идеологии.
См.: Ziątek Z. Zdrada // Kultura. 1971. № 11. S. 9.
См.: Łukasiewicz J. Recenzja z omawianej powieści // Tygodnik
Powszechny. 1971. № 17.
Авториальное восприятие предполагает, что все длинные и убедительно
высказанные мнения героев являются выражением взглядов автора, если
только их прямо и однозначно не начнет отрицать авториальный повествователь или лицо, обычно высказывающее мнения, соответствующие
авторской точке зрения (положительный герой, герой-резонер).
Chwin S. Błogosławiona Ochrana? // Teksty Drugie. 1992. № 6. S. 25.
См.: Biernacki J. Specyfik ma kompleks narodowy // Tygodnik Kulturalny.
1971. № 31.
�«Две головы птицы» Владислава Терлецкого 179
34
35
36
37
38
39
40
41
42
См.: Mencwel A. Dwie głowy ptaka // Miesięcznik Literacki. 1971. № 11.
Ibidem.
См.: Macużanka Z. Terleckiego wycieczka w przeszłość // Nowe Książki.
1971. № 5.
Цит. по: Zaworska H. Owoce z drzewa klęski // Twórczość. 1971. № 3.
При этом большинство не разделяло позицию бунтовщиков XIX в.,
поскольку в Польше начала 70-х годов было не особенно много революционеров.
Под конец жизни он был известным писателем, автором 27 книг, лауреатом премий Фонда им. Костельских (1972), Совета министров II
степени (1979), Министерства культуры и искусства I степени (1989),
польского ПЕН-клуба (1995). Посмертно ему была присуждена Премия
Министра культуры и искусства в области литературы (1999). Это —
свидетельство того, что он пользовался уважением и был ценим как в
среде литераторов, так и властями ПНР и III Речи Посполитой.
Ср.: Kociołkowski M. «Dwie głowy ptaka»: dialektyka walki i ugody //
Lektury licealisty. Szkice / Red. W. Pykosz, L. Bugajski. Wrocław, 1986. В
соответствии с духом времени, «изменение взглядов» Вашковского в
тюрьме получало в этой работе позитивную оценку (S. 220).
Театральная премьера «Двух голов птицы» (постановка А. Лапицкого
в Драматическом театре в Варшаве, 1992) стала интереснейшим спектаклем сезона, важным событием как с художественной, так и с политической значимостью. Сценический костюм той эпохи был для
зрителей, переживших военное положение, лишь камуфляжем, за
которым скрывались современное острое содержание и болезненные
переживания [Электронный ресурс]. URL: http://filmpolski.pl/fp/index.
php/521573. 22.02.1993 г. спектакль был показан по телевидению.
Помимо процитированных выше, см.: Szajnert D., Izdebska A. Władysława
Terleckiego pentalogia o powstaniu styczniowym (między poetyką i historią) // Prace Polonistyczne. 1986. S. 42; Rusin J. Zrozumieć Wielopolskiego.
Kreacja margrabiego w prozie powieściowej W. Terleckiego // Rocznik
Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. 1990.
Z. 71. S. 277–299; Werner A. Rachunek sumienia // Historia i wyobraźnia. Studia ofiarowane Bronisławowi Baczce / Red. S. Amsterdamski i
inni. Warszawa, 1992. S. 211–220; Szalast M. «Święta» i «grzeszna» miłość ojczyzny w tetralogii powstańczej Władysława Terleckiego // Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae. Lublin,
1995. T. 12 / 13 (1994/1995). S. 237–247; Dobrowolska D. Proza beletrystyczna Władysława Terleckiego (1956–1992). Kielce, 1998; Lubelska M.
Cogito Władysława Terleckiego. Wokół powieści o powstaniu styczniowym // Lektury polonistyczne. Literatura współczesna. T. 2 / Red. R. Nycz.
�180 Войцех Кайтох
43
44
45
Kraków, 1999. S. 321–329; Dobrowolska D. Płomień rodzi się z iskry.
Twórczość Władysława Terleckiego. Kielce, 2002; Izdebska A. Forma, ciało
i brzemię imperium. O prozie Władysława L. Terleckiego. Łódź, 2010.
Chomiuk A. Powieść historyczna wobec zmian w historiografii // Ruch
Literacki. 2001. Z. 5. S. 622–635.
Szymutko S. Koniec porozumienia z odbiorcą (o odmianie powieści stworzonej przez Parnickiego) // Studia o przemianach gatunkowych w powieści
polskiej XX wieku / Red. T. Bujnicki. Katowice, 1987.
Łopalewski T. Kaduk czyli wielka niemoc (1962); Hen J. Crimen (1975);
Stojowski A. Carskie wrota (1975), Rylski E. Stankiewicz, Powrót (1984).
�Сергей Клементьев
(Москва)
Гротескный катастрофизм
Р. Яворского
(роман
«Свадьба графа Оргаза»)
Клементьев Сергей Василь
евич — доктор филологиче
ских наук, Россия, Москва,
Московский государственный
университет им. М. В. Ло
моносова
Тенденции, характерные для видоизменения европейской прозы ХХ в., серьезным образом повлияли на эволюцию
польского романа. Изменения коснулись
всех эстетических категорий этого жанра,
что было связано с переменами в художественном и философском сознании писателей. Потрясения, вызванные Первой мировой войной и революцией в России, были
политическим, психическим и интеллектуальным потрясением для всей Европы.
К этому добавлялось опасение, связанное
с перспективой угрозы человечеству неконтролируемым развитием техники и
практическим материализмом. Обостренное чувство заката определенного типа
культуры давало о себе знать по-разному.
Отказ от копирования действительности
в живописи, пошатнувшаяся вера в силу
разума, популярность идей А. Бергсона и
З. Фрейда, признающих главным в человеке то, что темно и не поддается рациональному, а также упадочнические концепции
А. Шопенгауэра и Ф. Ницше — все это обозначило новые философские горизонты. В
Польше настроения кризиса европейской
культуры, ее разрушенных ценностей нашли отражение в работах Ф. Знанецкого
(«Падение западной цивилизации», 1921) и
М. Здзеховского («Европа, Россия, Азия»,
1923), в которых тезис о неизбежности па-
�182 Сергей Клементьев
дения культуры связывался с настроениями недовольных масс народа, с конфликтом между наукой и религией.1
Европейские литературы, в том числе и польская, откликнулись
на возникшие перемены тем, что отказались от фиксирования внешнего мира по канонам искусства ХIХ в., не веря уже в иллюзии такой
литературы. В двадцатые годы прошлого столетия известный испанский философ Х. Ортега-и-Гассет отмечал дегуманизацию современного искусства, заключающуюся в том, что художник не хотел описывать жизнь в тех формах, в которых она существовала, а желал об
этом мире рассказать, исходя из собственного сознания, собственного
понимания мира. Художник деформировал действительность, пропускал ее через фильтр собственной личности, воображения, фантазии,
что приводило к расшатыванию системы иерархии и оценки явлений.
Творческая личность сосредоточилась на идеях, а не на реальности.2
Польская литература 1920-х гг., продолжая предпринятую еще
прозой «Молодой Польши» ревизию модели реалистического романа,
сформировала, наряду с обновленными, не похожими на прежние реалистическими и психологическими типами прозы, особую ее разновидность — гротескный роман. Гротеск привлекал художников слова
особым сопоставлением часто противоречивых мотивационных порядков, намеренным уклонением от единых принципов, управляющих
изображенным миром, особой экзотикой, деформацией составных элементов цивилизационного наследия, обыденного опыта мира. Ориентация на гротеск соединялась с сомнением в устоявшихся представлениях о мире и принятых в нем порядках, с недоверием к доминирующей
иерархии ценностей, критикой современных социальных процессов, в
результате которых усиливаются тоталитарные тенденции.
Гротескные тенденции в литературе нередко сопутствовали катастрофическим картинам конца цивилизации, ощущению гибели
традиционных духовных ценностей, сформировавшихся в кругу европейской культуры. В межвоенном двадцатилетии манифестацией катастрофических рефлексий, помимо произведений С. И. Виткевича, было
творчество во многом недооцененного прозаика Романа Яворского. Последний был одним из самых больших чудаков и эксцентриков начала
ХХ столетия. Он поддерживал дружеские отношения с С. И. Виткевичем, В. Войткевичем, Л. Хвистеком, К. Ижиковским; считается, что
он был предшественником гротескного, экспрессионистского течения,
присутствующего позднее в произведениях В. Гомбровича.
В 1925 г. Р. Яворский публикует главное свое произведение — роман «Свадьба графа Оргаза», — в котором в гротескной форме изображает распад европейской культуры, демонстрирует ее состояние накануне
�Гротескный катастрофизм Р. Яворского... 183
окончательного упадка3. События романа разворачиваются в испанском
Толедо в 1921 г. Культура находится в состоянии застоя, безвременья;
все ценности разрушены: религия превратилась в балаган, шутовство
стало предметом культа, человеческая личность оттеснена толпой на задний план социальной истории. Утопическая фабула повествует о споре
двух американских миллиардеров Иетмейера и Хэвмейера, которые жаждут преодолеть кризис европейской цивилизации, они от скуки готовы уничтожить мир, похоронить культуру, религию, искусство. Один из
них, Дэвид Иетмейер, предприимчивый скототорговец, приезжает в Толедо, чтобы открыть апокалиптический дансинг, в котором, по его мнению, должно произойти «искупление» человечества на манер евангельского искупления Христа. Уберечь человечество от деградации и заново
его сплотить, воскресить в людях «религию творческой мысли, создать
культуру при помощи насильного оживления обессиленной истории»
может «спасительная Мистификация», карнавальная, балетная мистерия, созданная по мотивам картины испанского живописца Эль Греко
— с той лишь разницей, что у последнего было изображено погребение графа Оргаза, а американский предприниматель желает изобразить
свадьбу испанского гранда. Реализаторами абсурдной идеи Иетмейера
должны стать богач, коллекционер произведений искусства Хэвмейер и
прекрасная девица Донна Эвариста, потомок рода, из которого происходила жена художника. Виталистическую хореографическую мистерию,
по мысли ее организатора, должен осуществить «дьявол танцевального
искусства» Игорь Францевич Подрыгалов, который с двенадцатью детьми сбежал из революционной России.
Оппонент Иетмейера Хэвмейер занимает иную философскую
позицию: он считает, что люди должны порвать с прошлым, разорвать все связующие с ним нити, ибо оно лишь представляет готовые примеры для подражания и тормозит оригинальное творчество.
Он хочет спасти цивилизованную Европу по-своему: на загадочном
Острове Забвения создает ледовое царство и собирает там всевозможные произведения искусства. Страсть к коллекционированию приводит Хэвмейера к попытке перехватить как можно большее количество
шедевров прошлых веков и, в случае необходимости, уничтожить их.
Таким образом он хочет возродить в погруженных в апатию людях…
страсть, импульс к творчеству. Этот коллекционер, не разрешая снимать копии, подражать великим мастерам, желает возбудить, стимулировать способности человека к созданию абсолютно новых произведений, обратиться к стихийному творчеству. Он намерен убрать
любые произведения искусства, чтобы люди поднялись на вершины
мастерства, искусства, либо окончательно исчезли.
�184 Сергей Клементьев
Танцевальная мистерия Иетмейера ни к чему не привела, поставленные цели не были выполнены. Гибель старой культуры неизбежна,
воскрешение культуры оказалось невозможным — ход истории изменить нельзя. Буффонада Р. Яворского — это выражение неверия в какие-либо ценности. Несостоявшийся спаситель человечества вместе с
группой своих сторонников бежит на Остров Забвения, в своеобразную первобытную среду, не зараженную цивилизацией.
«Свадьбу графа Оргаза» можно читать как гротескный эпос
о мире после потрясения, вызванного Первой мировой войной и ее
последствиями. В романном пространстве Р. Яворского господствует
всеобщее отрицание; в мире, нарисованном писателем, отсутствуют
прочные ценности, все подвергается иронии и насмешке.
Сюжет романа Р. Яворского второстепенен, действие развивается
последовательно, как в реалистическом произведении. Автор отказывается от интриги и события подчиняет проблемно-тематическим связям. Правда, в целом он обращается к известным романным схемам: к
схеме борьбы в защиту ценностей и схеме утраченных иллюзий, — но
вместе с тем, эти схемы подвергаются сомнению вследствие господствующего в произведении принципа парадокса. Парадокс и контраст,
а через них компрометация традиций, условностей и мотивов реалистического и психологического романа преобладают и в создании
персонажей. Внутренне противоречив, например, один из главных
героев — Иетмейер. Первоначально повествователь рисует его как типичного, знакомого по политическим карикатурам толстяка-миллионера: «Фигуру имел прозаического ядовитого гриба. Пузатый уродец
в полосатом зеленовато-фиолетовом костюме, с короткими штанишками и с огромной коричневой шапкой на крупной голове, лишенной
шеи. Тенистый фасад шапки и в роговую оправу оправленные очки
избавляли лицо от необходимости какого бы то ни было выражения»4.
В фигуре героя гротескная образность выражается в девальвирующей
его облик внешней деформации тела, в элементах вызывающего костюма. Принимая позу значительной персоны, Иетмейер выглядит,
как «смешное пугало», и окружающим его людям демонстрирует «фамильярное» отношение, представляясь «спасителем» гибнущей европейской культуры. Однако не только внешний портрет героя и его
поведение, но и присущий ему интеллектуальный горизонт скрывает
множество контрастных черт. Благодаря письму Иетмейера своему
идейному противнику Хэвмейеру, читатель знакомится с совершенно
другой стороной его натуры: этот чудак, безумец обеспокоен судьбами мировой культуры, ее будущим. Первоначальная характеристика
героя оказывается гротескным, стереотипным обобщением, создан-
�Гротескный катастрофизм Р. Яворского... 185
ным и разоблаченным писателем почти одновременно. Но и эта сторона облика Иетмейера ставится в романе Р. Яворского под сомнение:
апокалиптический дансинг, религиозный конгресс, организованные
героем, начинают приносить огромную прибыль, что является проявлением отнюдь не альтруистических намерений, а практической
сметки. Создавая свое пантомимное зрелище в «предсмертном дансинге», Иетмейер становится по существу последователем идеи, что
искусство может изменить мир. Серьезные и значимые начинания,
имеющие своей целью воскрешение религиозных чувств и обновление культуры, по мысли автора «Свадьбы графа Оргаза», можно реализовать только при посредстве эксцентрических и удивительных
замыслов.
Насмешкой над модным в первых десятилетиях ХХ в. психоанализом является ситуация с Эваристой, влюбленной в быка — победителя ее возлюбленного-торреадора Мануэля, и той ролью, которую
она должна сыграть в пантомиме, чтобы примирить в себе «добродетель с распутством». В VI главе романа Эвариста изображена в роли
танцовщицы, исполняющей «торреадорский танец» и совершающей в
это время как будто ритуальное убийство «быка-кошмара», который
ее преследовал. Это ритуальное убийство «должно быть одновременно духовным освобождением и психическим исцелением Эваристы,
охваченной мрачными воспоминаниями»5. Пародируя приемы фрейдовского психоанализа, писатель в данной сцене достигает гротескного эффекта. Гротескным объектом становятся и бутафорский бык
на колесиках, являющийся театральной имитацией быка реального,
и передвигающие его люди, и сама Эвариста — все они участники
гротескного действа.
Пародийные и гротескные тенденции скрывает и образ балетмейстера Подрыгалова. Жизнь этого героя состоит из эксцентрических, скандальных поступков. Автор романа наделяет данного персонажа демоническими чертами, характерными для постоянно пародируемых им героев романов Ст. Пшибышевского.
Нарочитая деформация изображаемого, стремление поразить абсурдностью фабульных ситуаций заставляют читателя произведения
Р. Яворского предполагать, что он имеет дело с фантастикой. Элементы фантастики выступают в «Свадьбе графа Оргаза» наравне с элементами реалистического вымысла без каких бы то ни было дополнительных обоснований и не вызывают нарушения гармонии романного
мира, не нарушают своей необыкновенностью его внутреннего порядка, являются интегральной частью созданной автором действительности. Фантастическим героем в романе является говорящий кот Омар,
�186 Сергей Клементьев
наделенный человеческим сознанием. У писателя он становится инструментом гротескно-игрового настроения, котом-философом и аристократом. Его смешные проделки и комментарии нарушают интимный характер любовного свидания Хэвмейера и Эваристы, по-своему
развенчивают, снижают на первый взгляд «романтическую» природу
отношений этой пары, а тем самым пародируют такого рода литературные и нравственные стереотипы.
«Свадьба графа Оргаза» серьезно отличается от классического
романа, который отражает предыдущий литературный опыт и традиции. Автор не удовлетворяется элементами, которые прежде всего
предопределяют композицию романа, а следовательно, связность повествования и сюжета. Он вводит в текст гротескные конструкции.
Гротеск в произведении Р. Яворского связан с пародией. Рассмотренная под определенным углом зрения, пародия является как бы стилистическим компонентом гротеска, потому что гротеск вне пародии в
романе Р. Яворского существовать не может. Жизнь, лишенная ценностных ориентиров, превращенная в карикатуру, подавленная рекламой и золотым тельцом, по мнению писателя, потеряла смысл. Примером метафорической картины абсурдной борьбы, разыгрывающейся в
современном мире, является в «Свадьбе графа Оргаза» «Международный великий боксерский матч… за обладание, почести и звание Всемирного чемпиона»6. Бой боксеров превратился под пером Р. Яворского в поединок на взглядах между Антихристом и Прохристом7.
Участники схватки представляют противоречащие друг другу идеи
и точки зрения. Внешний облик спортсменов столь же противоположен: Прохрист — это «статный», «стройный», «грациозный» мужчина, Антихрист же имел «безобразную фигуру»: «Куцый, хилый, с
торчащими тощими ногами. Лицо банальное, преждевременно состарившееся и закопченное <…> Борода рыжая, невообразимо спутанная
и обслюненная. Глазки маленькие и ядовитым жалом окрашенные»8.
Гротескному восприятию ситуации способствует и поведение
зрителей матча. Жаждущая развлечений и сильных эмоций, публика
ожидает решительной борьбы, обмена ударами противников, но парадокс состоит в том, что ничего этого не происходит, т. к. участники
схватки не намерены драться на кулаках, ибо регламент «спортивного» соревнования допускает только «удары взглядов»9. Картина боя и
связанные с его характером жесты и движения соревнующихся создают атмосферу гротескного комизма. Абсурден и предполагаемый
результат поединка: победителя ожидает необычная, угрожающая
существованию всей планеты награда — «Неограниченное и наследственное право использования “Пантанатоса”, всесильного и совер-
�Гротескный катастрофизм Р. Яворского... 187
шенно неизвестного еще средства для уничтожения любого живого
существа»10.
Не менее интересна с точки зрения демонстрации абсурда сцена
похорон няньки Пракседы и убитых ею двенадцати детей Подрыгалова (гл. 9). Р. Яворский рисует экзотическую похоронную процессию,
состоящую из представителей разных народов и рас, среди которых
находятся даже людоеды из «приграничной зоны Конго», не выказывающие агрессивных намерений. Гробы усопших помещены на
специальные самолеты, принимающие участие в нелепом конкурсе,
суть которого — максимально замедлить скорость полета, «безукоризненно выдерживая во время путешествия погребальный ритм»11.
Полицейские, призванные охранять общественный порядок во время
этого торжественного события, ведут себя необычно: «Стягивают или
расширяют дамам изощренные декольте, соответственно предусмотренному законом размеру. Мужчинам галстучки постоянно поправляют или запихивают на соответствующее место, а детям под носом
влагу вытирают служебным платком»12. Однако вскоре печальное мероприятие превращается в «уличный скандал», повлекший за собой
трагические последствия, т. к. стражи порядка применили оружие.
Абсурдный юмор, к которому тяготеет Р. Яворский, ведет к компрометации понимания окружающего мира. В указанной сцене элементы
абсурдного комизма соотнесены с повседневными, обыденными реалиями, а также подкреплены точными наблюдениями над странностями современной европейской жизни.
Хаос представленной картины мира Р. Яворского нашел выражение в сумбурной, фрагментарной композиции романа. Каждый из
элементов формы получил здесь соответствующий эквивалент в содержании — и наоборот. Диалоги, монологи, размышления и описания выполняют в романе двойную функцию. Во-первых, помогают
реализовать собственно креативную деятельность, во-вторых, выявляют, экспонируют замысел и мировоззрение. Благодаря таким сознательным композиционным усилиям они создают магию кажущегося
хаоса и фрагментарности романа. Писатель намеренно усложнял свое
произведение, прибегал к содержательной и формальной алогичности, приводящей к возникновению гротескных ситуаций. Трагическую картину мчащегося к катастрофе мира смягчает и нивелирует
абсурд, ибо бессмысленность должна пробуждать смех и иронию.
Присущие гротеску контрастное сопоставление, дисгармония, деформирование изображенной действительности и ослабление логических
связей между ее составляющими проявляются на всех уровнях романа Р. Яворского.
�188 Сергей Клементьев
В романе «Свадьба графа Оргаза» много литературных аллюзий. Известно, что аллюзия в литературе может наводить на мысль о
различных межтекстовых связях, от серьезного обращения к некоторым элементам произведения до шуточного вызова, в которых другой
текст трактуется как предмет потенциальной пародии. Р. Яворский
пародирует не только отдельные ситуации в известных польских произведениях, но и целые литературные направления и их идеологию.
Объектом насмешки писателя стали принципы, образ мыслей
некоторых представителей «Молодой Польши». Теоретики модернизма рассматривали художника как исключительную, стоящую над толпой личность, которая свое творчество питает собственной жизнью,
стремится превратить ее в творческий акт. В романе «Свадьба графа
Оргаза» модернистский мотив апологии искусства, возвеличивания
художника нашел свой гротескный эквивалент в образе балетмейстера Игоря Подрыгалова, положившего на алтарь искусства четырех
жен, влюбленную в него няньку Пракседу и дюжину своих детей.
Шутовское использование диалектизмов в романе Р. Яворского иногда напоминает язык, на котором говорят герои крестьянской эпопеи
В. Реймонта «Мужики».
Провокационной насмешкой над ролью освобождения Европы,
предназначенной Польше романтическим мессианизмом, является
сцена заседания религиозного конгресса, когда «спаситель человечества» Иетмейер призывает совершить паломничество в Польшу, ибо
«польская мудрость» может спасти народы мира и указать им «метафизическое предназначение». Однако паломничество не состоялось,
т. к. опасающийся протестов мировых империй Комиссар Лиги Наций
в качестве профилактики прививает участникам конгресса зародыши
«дурной болезни» — «летаргической спячки».
Некоторые образы произведения Р. Яворского являются ироническим откликом на известный роман Г. Сенкевича «Камо грядеши». Героиня «Камо грядеши» Лигия, привязанная во время казни к рогам выбегающего на арену римского цирка мощного тура, напоминает образ,
открывающий пантомиму, названную «Примирение добродетели с распутством»: «На быке — добродетель, или Эвариста. Выезжает потеряв
сознание. Наполовину переброшена на спину быка. Парализованные
ноги, окоченевшие руки. Дамастовая виднеется нагота среди муслинов. Дрожат женские груди»13. В романе Р. Яворского можно заметить
аллюзии, связанные с «Дон Кихотом» Сервантеса14. Иетмейер — своеобразный Дон Кихот своего времени. Точно так же, как и персонаж
испанского прозаика, он стремится к уравниванию в правах мечты и
поэтической конструкции, терпит поражение в борьбе с грубой обыден-
�Гротескный катастрофизм Р. Яворского... 189
ной реальностью. В трагикомичном донкихотстве героя Р. Яворского
посрамлен системный идеализм. Нет места на личное, возрождающее
деяние, когда вера навязывается или слепо принимается. В тексте романа введение чужих формул достаточно значимо. В свое произведение
писатель вводит элементы литературных дискурсов, известных и легко распознаваемых. Все цитаты, намеки, пародии являются составной
частью и проявлением определенного метода литературного действия.
Благодаря литературным аллюзиям Р. Яворский разоблачает различные
банальности, заблуждения и стереотипы извращенного коллективного
сознания, выработанные подчас с помощью отечественной литературы.
Автор «Свадьбы графа Оргаза» строит свой гротескный мир из
элементов реальности, процесс ее деформации проявляется не столько в плоскости реалий, сколько в плоскости языковой. Писатель с
недоверием относится к языку, сформированному предыдущей литературной эпохой — модернизмом. Пародирование им младопольской
витиеватости, манерности, связанное с введением в текст произведения варваризмов и жаргона, преследовало достижение комического
эффекта, возникающего из смешения возвышенного с тривиальным (в
романе это особенно заметно в окарикатуривании стиля бульварной
прессы). Читатель имеет дело с необыкновенной языковой изобретательностью. Лингвистический гротеск заметен в каламбурах или
бранных словах (chwalidupa — «хвастун»; ty prekursorze wyfranczonych
zbirów — «ты предтеча одетых во фрак бандитов»; pierdzigryczka z
londynskiej giełdy — «гречкопёр с лондонской биржи»; ty rozkoszny
giełdowy rekinie, kłubowy ladaco, lowelasie stęchły, kolekcjonisto w swej
nudzie zawzięty — «ты прелестная биржевая акула, клубный шалопай,
затхлый ловелас, коллекционер в скуке ожесточенный»). Сюда же относятся оксюмороны, сочетания противоположных по смыслу определений и понятий, типа: «безнадежная творческая радость», «честный обман», «ужасно хорошая наука». К этой же группе принадлежат
столь частые в романе парадоксальные утверждения: «Кто не имеет
товара, продает, у кого нет денег, покупает». Языковой шутке, а вместе с тем и выделению, подчеркиванию парадокса служат неожиданные гномические выражения: «разные существуют стили воздушных
замков, отсюда и архитектура идиотизмов разная», «содействовать
бессмыслице — это значит то же, что взращивать смысл».
Игра словом в романе Р. Яворского нашла свое выражение и в выдумывании неологизмов (например, trzeszczaki — широко открытые
глаза, draznięta — женские груди, ścigacz — мужчина, волочащийся
за женщинами, szudrak — оборванец, brandziucha — комическая контаминация английского слова brandy со словом сивуха, zagwazdra-
�190 Сергей Клементьев
ny — загрязненный и др.). Столь же остроумно писатель создает «говорящие» фамилии. Балетмейстер танцевальной пантомимы носит
фамилию Подрыгалов; официанта, а затем директора дансинга зовут
Хасинто де Гоуздрала Гоуздрес (от польск. guzdrać się — медлить, делать что-то лениво); историка религии, профессора Парижского университета, а вместе с тем потомка дикого племени — Бай-ой-ей-бай.
Существует в произведении и польский «галицийский граф» Пёсь
Майхерек. Уменьшительная форма Пёсь от Пётра указывает на низкое, плебейское происхождение героя (автор романа намекает, что
свой графский титул данный человек, по всей видимости, купил у
австрийского императора, а не получил за заслуги). Р. Яворский постоянно эпатирует читателя высказываниями назойливо неправильными, несвязными, подчас противоречащими правилам синтаксиса,
стремится разбить устоявшиеся штампы и клише, выводит из равновесия, провоцирует, а вместе с тем обращает внимание на полифоничность языка. Всеми возможными средствами писатель стремится выразить в «Свадьбе графа Оргаза» бессмысленную реальность.
Роман «Свадьба графа Оргаза» сложен и труден в восприятии.
Чтобы его осмыслить без предубеждений, следует признать право писателя творить, создавать «новые миры», новую действительность и
для нее искать адекватные формы. Благодаря критическому взгляду
на окружающую действительность Р. Яворский выявил банкротство
существующих идеологических и социальных доктрин, реальные
конфликты современности, парадоксы жизни, мимо которых не мог
пройти равнодушно и тем более, с ними согласиться.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
См.: Znaniecki F. Upadek cywilizacji zachodniej. Poznań, 1921; Zdziechowski M. Europa, Rosja, Azja. Szkice polityczno-literackie. Wilno, 1923; Knysz-Rudzka D. Teorie zagłady cywilizacji zachodniej 1913–1939 // Kultura i
Społeczeństwo. 1964. №4 ;Kołakowski A. Spengler. Warszawa, 1981.
См.: Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Idem. Восстание
масс. М., 2001. С. 209–268.
Р. Яворский не был плодовитым писателем. Помимо несерьезных дебютантских стихов, он опубликовал сборник гротескно-фантастических
рассказов «Истории маньяков» (1910). В 1911–1921 гг. работал над драмой «Гамлет второй, принц польский».
Jaworski R. Wesele hrabiego Orgaza. Powieść z pogranicza dwóch rzeczywistości. Warszawa, 2006. S. 19. Здесь и далее перевод мой. — С. К.
�Гротескный катастрофизм Р. Яворского... 191
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ibid. S. 157.
Ibid. S. 87.
Р. Яворский предвосхищает известную сюжетную идею из романа
В. Гомбровича «Фердыдурке», где был изображен поединок на минах
между Сифоном и Ментусом.
Jaworski R. Op. cit. S. 90–91.
Ibid. S. 87.
Ibid. S. 88.
Ibid. S. 289.
Ibidem.
Ibid. S. 182–183.
Не случайно Предсмертный дансинг, организованный Иетмейером, расположен на старинном постоялом дворе, где когда-то жил Сервантес и
где он написал свой знаменитый роман.
�Князь П. А. Вяземский
в Варшаве
Князь Петр Вяземский был направлен
в 1818 г. из России в Варшаву по поручению Бороздина для поступления на службу в канцелярию Н. Н. Новосильцева1. Он
провел в столице Польши три года, начиная с марта 1818 г. Сегодня в работах польских историков о нем редко упоминается,
ибо за столь короткий срок он мало что
успел сделать. А ведь князь был человеком
выдающимся — и по своему происхождению, и по своей политической позиции, и
просто как нетипичный русский, который
заслуживает нашей памяти о нем. Хотя бы
потому, что он действительно был вовлечен в дела поляков и заплатил за это царской опалой: он был отозван из Варшавы
в августе 1821 г. с бессрочным запретом
на возвращение. Причины этих событий
и истоки его кардинально изменившегося
мнения о национальном польском характере и о польско-российских отношениях
следует искать в недалеком прошлом.
Поражение Наполеона и поспешное
отступление Великой армии из-под Москвы
означали конец существования Княжества
Варшавского. Правда, формально оно просуществовало еще более двух лет, но в
январе 1813 г. Варшаву покинули австрийские войска, а в феврале в город уже вошли
русские, опустошая его. Будущее страны
выглядело неопределенным, усиливались
Алина
Ковальчикова
(Варшава)
Ковальчикова Алина / Kowal
czykowa Alina — Dr. hab.,
профессор, Польша, Варшава, Институт литературных
исследований ПАН
�193
общая растерянность и хаос. Поэтому когда в мае 1815 г. на Венском
конгрессе было создано Королевство Польское, то, как пишет историк,
это «было воспринято с удовлетворением и с чувством облегчения от
того, что завершилась эпоха оккупационной неуверенности. После падения наполеоновской системы это решение стало для польского народа самым лучшим из всех возможных. Важнейшее значение имели сам
факт отдельного существования территории Королевства, его конституционное устройство, а также сохраняющиеся надежды на присоединение к Королевству значительной части Польши, которая находилась
в составе Российской империи»2.
Либеральный дух, которым была проникнута принятая в ноябре
того же года конституция, вселял надежду на то, что возможно получение дополнительных свобод. Но эти надежды имели двойственные последствия. С одной стороны, дарованная конституция гарантировала полякам некий правовой порядок, успокаивала настроения,
открывала возможности для восстановления опустошенной войнами
страны. Но с другой, все это склоняло поляков к конформистскому
поведению, нежеланию лишний раз раздражать царские власти. Эта
двойственность означала, что допущение определенной свободы требует взамен признания русского царя польским монархом. И результат этой двойственности нашел отражение в тогдашних варшавских
газетах. Сохранявшие прежде приподнятый пронаполеоновский тон,
они в период русской оккупации, с 1813 г., вдруг меняли свой настрой.
Происходило это иногда неожиданно, буквально из номера в номер,
что свидетельствовало о дезориентации редакторов. Наполеон из
спасителя превращался в жестокого преступника, а то, что прежде
преподносилось как его победы, теперь — с новой точки зрения —
называлось поражениями. Дезориентация и лицемерие проявлялись
повсеместно. Ведь менялись не взгляды редакторов, а официальная,
публиковавшаяся в газетах оценка событий.
Ситуация определилась в 1815 г. Поляки, как и русские, оказались полностью подчинены царской власти. Литва по-прежнему
оставалась западной губернией Российской империи, здесь царю не
нужно было заботиться о сохранении видимости либерализма. Но в
Королевстве Польском ситуация была неоднозначной. В предыдущие
годы постоянно происходило изменение политической ситуации в
Европе, менялись союзы и коалиции, кто-то с кем-то договаривался о
новом разделении континента — все это вносило в умы хаос и неуверенность: как в это полное потрясений время решать польский вопрос.
Политические сомнения князя Адама Ежи Чарторыского, который с
юности дружил с Александром I и был его советником в вопросах,
�194
касавшихся Польши, являются здесь прекрасным примером. Когда
русская армия в 1813 г. заняла Княжество Варшавское, когда нужно
было выбирать, на чью сторону — России или Австрии —становиться, человек с таким положением, как у Чарторыского, должен был сделать выбор. Выбрать, — как он писал матери, — дружбу или честь3.
То есть — чтобы сохранить честь, надо оставить иллюзии, связанные
с Александром I, отказаться от многолетней (и увенчавшейся рождением дочери) любви к его жене, императрице Елизавете Алексеевне,
перейти в оппозицию.
Во время Венского конгресса 1815 г. на карте Европы появилось
Королевство Польское. Да, оно было польским, но его королем был
русский царь. Царь, имевший особый титул: король Польши. Эта
двусмысленность ситуации порождала иллюзорные надежды, которые становились все ощутимее в связи с первыми шагами нового монарха, Александра I; он стремился продемонстрировать Западу лицо
мудрого и справедливого властителя.
Весьма важное значение (как для поляков, так и для Запада) имело, с точки зрения пропаганды, сохранение польских институтов,
которые функционировали, на первый взгляд, как прежде. Итак, на
бумаге по-прежнему существовала польская армия (но она была подчинена Великому князю Константину), по-прежнему существовал
польский сейм, действовало Общество друзей наук, а в 1816 году по
повелению царя был даже открыт Варшавский университет, в котором появился отдельный факультет изящных искусств.
Научная мысль находила пристанище в издании «Pamiętnik
Warszawski, czyli dziennik nauk i umiejętności» (существовал с 1815 г.).
В те же годы в Варшаве выходили две газеты: консервативная, лояльная и очень скучная «Gazeta Warszawska» и «Gazeta Korespondenta
Warszawskiego i Zagranicznego», в которой был более обширный раздел
информации и печатались знаменитые театральные рецензии, подписанные общим псевдонимом «Икс» (в это «общество иксов» входили
такие известные в то время личности, как Юлиан Урсын Немцевич,
Станислав Костка Потоцкий, Адам Ежи Чарторыский).
Начал работать монетный двор. Развивалась промышленность —
и город. И если даже уже в самом начале возникло беспокойство в
польской армии (привыкшей к демократическим, по сути, наполеоновским уставам), то никаких четких сигналов по этому поводу общественное мнение не получало (имела место целая серия самоубийств
среди молодых офицеров; уже после приезда Вяземского покончил с
собой Миллер, адъютант Новосильцева) и никто не собирался придавать этим событиям статус особо опасных.
�195
Первым диссонансом в польско-российских отношениях стал
тогда вопрос о том, кому выпадет роль наместника, который будет
осуществлять власть в Королевстве. Ожидалось, что царь доверит
эту функцию Адаму Ежи Чарторыскому, пользовавшемуся всеобщим уважением и много лет бывшему советником Александра I, а
также главным автором только что принятой конституции. Но этого
не произошло. Первым свидетельством того, сколь наивными были
мечты поляков, стали назначение на пост наместника генерала Юзефа
Зайончека, конформиста, не имевшего особого влияния в обществе,
а также превращение польской армии в автономное военное формирование внутри русской армии. Надежды рушились. Однако явных
признаков нарушения положений конституции не наблюдалось, шло
быстрое экономическое развитие страны, да и закрепленная в конституции свобода слова по-прежнему соблюдалась — все это заставляло
верить в скорое наступление лучшего будущего.
Официально была отменена цензура; казалось, что гарантирована свобода печати. Поскольку в первые годы на этом поле не возникало видимых недоразумений, общественное мнение испытывало
чувство удовлетворения и не обращало внимания на тот факт, что
свобода печати была мнимой: уже сам текст конституции одновременно запрещал публиковать любые материалы, которые можно было
истолковать как оскорбление для религии, нравственности, государственных властей и чьего-либо личного достоинства. Смысл и рамки этих понятий интерпретировались произвольно. Это было легко
заметить и прежде — например, при просмотре номеров издания
«Gazeta Korespondenta» за 1812–1815 гг. видно, что оценка одних и тех
же лиц и событий носила диаметрально противоположный характер.
Характерное изменение произошло, как уже говорилось, после известия о падении Наполеона: победа превращалась в поражение, а герой
представлялся злодеем.
Для того чтобы сохранить газету, тексты приспосабливали к
официальной точке зрения на события; такого рода вмешательство в
текст владельцы газет практиковали с самого начала российской оккупации. Либеральные положения конституции как бы закрепляли
обычай, когда публикуемые высказывания добровольно приводились
в соответствие с политикой правительства. Но еще до заседаний сейма 1818 г., то есть до приезда в Варшаву князя Вяземского, в газетах
иногда появлялись статьи, содержание которых отличалось от официальной точки зрения. Например, в «Gazecie Korespondenta» много писали о Наполеоне; еще в 1817 г. в ней был опубликован состоящий из
двух частей очерк «Автопортрет Наполеона», написанный, как пред-
�196
полагалось, на основе записок Бонапарта, со ссылками на (неизвестную мне) книгу Лобажевского4. Упоминания о Наполеоне по-прежнему появлялись — хотя делать это было все сложнее, — пусть и в виде
любопытных курьезов и придворных сплетен. А потом упоминания о
нем совершенно исчезли.
В последующие годы вопрос свободы прессы имел основополагающее значение, любые политические конфликты вокруг нее становились узловыми. Конституция гарантировала свободу печатного слова,
но при существовании превентивной цензуры это была свобода, исключающая распространение нежелательных мнений. Новосильцев, который приписывал прессе всю полноту ответственности за распространение вредных взглядов, требовал обуздать свободу слова — а либералы
утверждали, что пресса является выразителем общественного мнения,
что она лишь отражает настроения в обществе, но не формирует их.
Вот в такую Варшаву направлялся и именно с такой Варшавой
познакомился в первые месяцы своего пребывания в ней Петр
Вяземский. Он был внимательным наблюдателем жизни города, и погружение в эту жизнь ему облегчал тот факт, что еще до приезда в
Польшу он немного знал польский язык. За полгода до приезда, 26
сентября 1817 г., он писал Александру Тургеневу из Остафьева: «У
тебя архив всякой дряни: нет ли каких-нибудь учебных польских книг
и вообще относящихся к истории польской и Польше? Я стал учиться
польскому языку, но ни у меня, ни в Москве нет ничего польского…
Сделай милость, дай мне руку помощи»5. Этот неожиданный энтузиазм и желание расширить знания о Польше были продиктованы тем,
что князь ожидал приказа отправиться в польские земли. Назначение
его в канцелярию Новосильцева в Варшаве в марте 1818 г., как раз в
то время, когда там начинались заседания сейма, не могло быть следствием неожиданного решения, наоборот, это мероприятие выглядело
тщательно подготовленным.
К этому времени Вяземский уже составил свое мнение о поляках;
формировалось оно на основании русских и французских книг, а также распространенного в России популярного стереотипа: поляк — это
пьяница, скандалист, для которого главное — деструктивный идеал
шляхетской вольности, когда частные интересы ставятся выше общих.
Естественно, этот образ не имел отношения к высшим слоям общества, к тем людям, с которыми Вяземский поддерживал отношения в
свете и на которых он ссылался в своих записках и письмах. Это была
особая каста, членов которой, кроме всего прочего, объединяли также
связи супружеские. Наталия Филатова, обращаясь к этому вопросу в
прекрасной работе «Русские и поляки в Королевстве Польском: неу-
�197
давшийся опыт сближения»6, подчеркивает, что со времен конституционного Королевства Польского в этих сферах сохранялись дружеские
отношения между поляками и русскими, и эту атмосферу взаимного
приятия было тем легче сохранять, что в располагавшейся в Варшаве
царской армии оказалось много офицеров, имевших французские или
немецкие корни, и они легко ассимилировались. В течение первых лет
существования Королевства Польского это могло напоминать скорее
некий космополитический тигель, нежели жизнь под надзором вражеской армии. Подобными оказались впечатления и у самого князя
Вяземского в 1818 г. Самые первые его оценки строились на основе
его прежних, сформировавшихся еще в России, предубеждений. Он
корректировал свои взгляды, опираясь на мнения польских друзей: «Один поляк мне говорил» (письмо А. Тургеневу от 3 сентября
1820 г.); Лубеньский — «самый рассудительный из поляков, либерал
по сердцу, но умеренный по рассудку»; «Плятер мне это рассказал»
и т. д. (из «Записных книжек» 1813–1848 гг.). Однако негативный образ поляка основывался на глубоко укоренившемся убеждении, что
эту нацию отличает низкий уровень нравственности, что авантюризм
ее представителей, их скандальность, пьянство и приоритет личных
интересов привели их родину к краху. Сам Александр I на этом фоне
выглядел спасителем, который, став правителем в деморализованной
стране, навел порядок во власти (вернул сейм), распространяет науку
и культуру, делает все для свободы слова (когда Вяземский прибыл в
Варшаву, публикации не подлежали контролю цензуры).
Князь Вяземский оказался в Варшаве в момент кульминации
этих относительно благоприятных настроений: в 1818 г. давление царской власти, при пока еще соблюдавшихся положениях либеральной
конституции, не казалось особенно угрожающим; в обществе витали
надежды на возможное присоединение к Королевству Польскому части земель, принадлежавших Речи Посполитой до разделов и находившихся теперь в составе Российской империи. Смутные надежды
возлагались также на предстоящий сейм, многие полагали, что, возможно, удастся добиться лучшего взаимопонимания с Александром I.
Вяземский в первые месяцы своего пребывания в Варшаве увидел именно такую картину: с одной стороны, перед ним был стереотипный образ поляка — лентяя, скандалиста и пьяницы, а с другой —
добрый и мудрый Александр I, стремящийся исправить нравы жителей «этой земли», улучшить их культуру и материальный быт.
Итак: Вяземский приехал с готовым негативным мнением о
поляках, сформировавшимся в соответствии со стереотипом. Через
призму того же стереотипа он наблюдал за жизнью города, искал —
�198
и находил — подтверждение этим оценкам. Грязь, пьяные выходки,
скандалы. И отвратительное, недостойное пресмыкательство перед
царскими чиновниками. О поляках в целом он писал с издевкой:
«Они так дорожат честию слыть благородными и доблестными, что
от одних слов о доблести, мужестве полезут на стену <…> Они всегда променяют солнце на маяки». Колкие свои замечания он записывал в блокноте второпях, позднее кардинально их меняя. Например,
он высмеивал овации, которыми в театре встречали «всякое пышное
изречение, похожее на героическое чувство»7. Сначала он воспринимал эти овации лишь как чересчур шумное выражение эмоций
примитивной толпы. Однако вскоре Вяземский понял, что таким
образом происходит выражение совместно переживаемых патриотических чувств, и превратился в поклонника варшавского театра, а
также сформировал высокое мнение об игре актеров.
По случаю открытия заседаний сейма в Варшаву начали съезжаться в массовом порядке, как отмечали газеты, представители уважаемых фамилий, город сделался шумным, необычайное оживление
в нем царило целый месяц: сессия, начавшаяся 28 марта, закрылась 27
апреля. Это свидетельствовало о том, насколько велики были ожидания позитивных перемен. Выступление Александра I, открывавшее
заседание, несколько пригасило эти надежды: «Александр, что было
ему свойственно, стремился предстать великодушным переустроителем Европы, благожелательным обновителем Польши, и при этом не
дать хоть сколько-нибудь ущемить свою власть», — писал Марцелий
Хандельсман8.
Первым публичным протестом против злоупотреблений властей
стало получившее широкую огласку выступление князя Адама Ежи
Чарторыского, прозвучавшее на заседании сейма9.
Чарторыский, который в юности дружил с Александром I, стал
впоследствии выдающимся политиком, пользовавшимся доверием поляков, был советником царя, к которому тот все менее охотно прислушивался. Именно Чарторыский, как уже говорилось, стал одним из авторов польской конституции 1815 г. Однако он решительно отказался
от сотрудничества с Александром, как только убедился, что из текста
этой конституции были вычеркнуты перед публикацией формулировки, долженствовавшие подчеркнуть национальный характер создающегося государства, что вместо этого акцентировались те пункты, которые закрепляли почти абсолютную власть монарха, что обманным
путем скрывались настоящие намерения Александра.
Подобно Чарторыскому, Петр Вяземский сначала тоже оказался
в плену иллюзий, размышляя о намерениях императора. Он непра-
�199
вильно оценивал политику Александра I, проводимую в Королевстве
Польском, ожидал, что результаты начинаний царских властей окажутся благоприятными для поляков. Характерно, что во всех упущениях и злоупотреблениях он обвинял только бездарную, не имеющую
соответствующей квалификации правительственную администрацию. Он считал также, что царь был недостаточно информирован.
Вяземский был убежден, что его беседы и беседы знаменитых поляков с Александром I изменят такое положение вещей10.
Непосредственно после закрытия сессии сейма Вяземский посетил знаменитые Пулавы Чарторыских11.
Неизвестно, был ли Вяземский в Варшаве в начале июня 1818 г.,
видел ли толпы на похоронах генерала Яна Хенрика Домбровского12.
(Это была чуть ли не первая оппозиционная патриотическая манифестация, направленная против властей; позднее такие манифестации стали обычными в эпоху романтизма, а также в двадцатом веке.
В частности, перед падением коммунистической власти состоялись
огромные манифестации на похоронах замученных жертв — ксендза Ежи Попелушко и ученика гимназии Гжегожа Пшемыка.) Тогда
еще — и до осени, по крайней мере, князь Вяземский Варшавы не любил — он не понимал ее.
Однако князь был убежден, что создание Королевства Поль
ского — это большое благодеяние для поляков, он не сомневался в самых лучших намерениях императора и требовал от поляков не только
благодарности, но и беспрекословного повиновения. Ибо «Я Польши
не люблю, потому что нет в ней ничего любезного <…> Теперь <…>
все выровнено посредственностью»13. Поначалу любые признаки нарушения поляками навязанной им дисциплины он считал проявлениями глупости и отстаивания своих личных интересов. Но одновременно он с презрением относился к их преувеличенно покорному
поведению, усматривая в этом свидетельство упадка национального
духа. Вернувшись из Кракова, в письме Александру Тургеневу от 24
августа 1818 г. он писал: «Я немножко стряхнул с сердца варшавскую
пыль. Видел прекрасные места и добрых людей, чего здесь не вижу
<…> Самый город Краков во многом похож на Москву, а особенно
же по благодушному гостеприимству жителей <…> Большую часть
оказанных мне ласк приписываю любви и признательности жителей
к нашему государю и ненависти их справедливой к пруссакам и австрийцам <…> Жители говорят, что из трех покровителей один только наш их не гнетет»14.
Он восхищался Краковом и его окрестностями, достойным поведением людей, достойным отношением к крестьянам, дружелюбной
�200
атмосферой. В этом он проявлял большую наивность — в Варшаве он
не сумел распознать возвышенных чувств, бушевавших под личиной
покорной благовоспитанности жителей, а за чистую монету принимал
благожелательное отношение жителей Кракова к России — не задумываясь над тем, что это может быть следствием того, что царь был
далеко и его начинания их не затрагивали.
Вернувшись в Варшаву, он писал, скорее, пожалуй, иронически,
чем язвительно: «Сегодня вечером в первый раз с приезда своего в
Варшаву кормлю пятьдесят сарматских штук и надеюсь — в последний» — а под утро дописал: «сейчас напоил и накормил сарматов: как
каторжные прыгали за рюмку водки»15.
Из наиболее важных событий той варшавской осени можно отметить событие, имевшее для польской прессы того времени переломное
значение: это было рождение издания «Gazeta Codzienna Narodowa i
Obca», которое с 1 октября 1818 г. выходило 6 раз в неделю (другие газеты — лишь 2 раза) и которое возглавлял Бруно Кичиньский, либерал
и смелый патриот. В программной статье было сказано, что главными
темами, которые будут здесь затрагиваться, станут политические размышления и политическая информация. Вероятно, следствием независимого тона этого издания стало дальнейшее усиление цензуры: в
ноябре типографии получили распоряжение, запрещающее публиковать тексты, если их автор неизвестен, а книжные магазины — запрет
распространять анонимные тексты.
Если судить по разным высказываниям Вяземского в тот период, то его отношение быстро менялось в пользу поляков; он выражал
сожаление, что ввиду слабого знания польского языка не понимает
спектаклей, а если даже и записывал неприязненные замечания о поляках, то скорее в тоне обычного размышления, только с добавлением
ироничной язвительности — еще 15 ноября он отмечал: «…у меня есть
что-то такое в физическом сложении, которое не ладит с поляком»16.
Впрочем, как представляется, грань между характерной для него
иронией и серьезным тоном нередко вводит читателя в заблуждение,
можно даже предположить, что за такой изменчивостью настроений
скрывается неуверенность самого князя после полугодового пребывания его в Варшаве.
14 декабря 1818 г. Вяземский на некоторое время уехал в Москву.
К оценке поляков и их поведения он вновь возвращается в мае 1819 г.,
правда, совершенно иным становится тон. Тогда был найден предлог
для закрытия издания «Gazeta Codzienna». Таким предлогом стал скандал в театре: одна из актрис, протеже великого князя Константина,
позволила себе, находясь на сцене, сосать леденец, что вызвало воз-
�201
мущение публики; ее освистали и заставили покинуть театр, скандал
получился громким, в этот инцидент вмешались редакторы «Gazety
Codziennej», в результате газету закрыли. Это вызвало бурные протесты, которые переросли в острый конфликт с властями.
О том, что позиция Вяземского совершенно изменилась, мы можем судить по его письму от 10 мая 1819 г., в котором он высказывается в защиту «Gazety Codziennej». Он как будто осознал, что все то, что
до сих пор представлялось ему административными недостатками, на
самом деле было действительно вещами принципиальными и «немногие о них догадывались, что они важны»; то есть он всерьез только
сейчас понял, что поляки — это не какое-то сборище глупцов, а люди,
скрывающие свои взгляды. И он порицал способ управления, принятый властями России: «Здесь всякий день наносят важные оскорбления конституции, но именно поэтому все молчали…» Он прибегает
к таким определениям: «нелепая мера самовластья»; «а я бешусь, как
будто польская кровь течет в моих жилах…» А вот замечания об образцовой семье Чарторыских и о Пулавах: «князь Адам на точке замерзания в обществе, но в домашнем быту, говорят, очень весел»17.
5 сентября 1819 г., после этого скандала, после закрытия «Gazety
Codziennej» и после вновь усилившихся цензурных репрессий,
Вяземский в письме другу открывает совершенно иное лицо. Он признается: «Я здесь учусь ненавидеть самовластье: поляков не люблю,
но каждый удар самовластный, на них падающий, глубоко отзывается
в душе моей. Я не рожден для великих действий, но одно совершенно
надобно»18.
Накануне того дня, когда Вяземский писал эти горькие строки,
4 августа 1819 г., он записал в своем блокноте прекрасные слова, размышляя о поляках — и о мрачной красоте парка Лазенки: «Я вчера
ехал один из шумной Багатели через уединенную, сумрачную рощу
Лазенки: сей одинокий, неосвещенный замок, сие опустение явили
мне судьбу сей разжалованной земли, сего разжалованного народа.
Я часто размышлял о участи Польши, но злополучия ее всегда говорили уму моему языком политической необходимости: тут в первый
раз Польша сказалась мне голосом поэзии. Я ужаснулся! и готов был
воскликнуть: Государь, восставь Польшу!»19
Он должен был совершить «великое действие» — и он решился на это. На протяжении двух последующих лет он прочно врастал
в варшавскую среду, вмешивался (безрезультатно) в важные для поляков вопросы, становился их заступником. В высших патриотических кругах он снискал себе искренних друзей. Когда в августе 1821 г.
Вяземский был вызван в Петербург и отозван из Варшавы, он был «об-
�202
винен в “либерализме”, в “польских симпатиях”, в “несоответствии
его взглядов точке зрения правительства”. Вяземский отказывается от
должности и придворного звания, что было в то время актом необычайной смелости, и поселяется в своем имении Остафьево, оставаясь
под надзором полиции», — сообщает Самуэль Фишман20.
В Варшаве Вяземского провожали с большим сожалением.
Юлиан Урсын Немцевич писал Вяземскому: «Чего, однако, я никогда
не забуду, так это счастливых моментов, проведенных в Вашем обществе… Итак, прощай, мой дорогой князь, будь так счастлив, как ты
этого заслуживаешь, желаю тебе этого от всего сердца»21.
Таким образом, Вяземский дорого заплатил за свои польские
связи: попал в царскую опалу, был освобожден от всех официальных
должностей. Но дружеские чувства к полякам сохранились: он встречался с ними в России (в частности, с Адамом Мицкевичем), с эмигрантами в Италии, в Париже… Эти контакты резко прервались после
того как началось Ноябрьское восстание: Вяземский мог не любить
царя, но он был русским, он не мог понять чувств поляков. Хотя это
уже другая история.
Судьба Вяземского (так же, как и А. Е. Чарторыского) представляется весьма любопытным дополнительным материалом для рассмотрения проблемы нравственных дилемм, возникавших в польских (и,
как видим, иногда и в русских) интеллектуальных кругах в условиях
тогдашней исторической ситуации.
(Перевод Е. Шиманской)
Примечания
1
2
3
4
Там он занимался главным образом составлением служебных документов и переводами с французского на русский язык текстов, с которыми
выступали или которые писали император и Н. Н. Новосильцев.
Zdrada J. Historia Polski 1795–1914. Warszawa, 2005. S. 96.
Об этих дилеммах Чарторыского подробно писал Марцелий Хан
дельсман в монографии: Handelsman M. Adam Czartoryski. Warszawa,
1948. T. 1.
И. Л. Лобажевский был автором опубликованных в последующие годы
в Петербурге книг, пропагандирующих консервативные политические
принципы, а также благотворность российского влияния в Польше (его
работы не лишены были, однако, патриотизма и содержали апологию
польской истории). См.: Łobarzewski I. Ł. Respect dû à la tête couronnée
ou exposé historique, politique et moral des grands événements relatifs à la
Pologne. Petersburg, 1818; Idem. Observations chrétiennement politiques sur
�203
5
6
7
8
9
10
le système subversive de l’autel et du trône. Petersburg, 1819; Idem. L’autel et
le trône ou opposition légale, morale et politique à l’esprit novateur du siècle.
Petersburg, 1823 (Прим. ред.).
Цит. по: Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. Переписка князя
П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым (1812–1819). СПб., 1899. С. 88.
Очерк является частью коллективной монографии: Польша и Россия
в первой трети XIX века. Из истории автономного Королевства
Польского. 1815–1830 / Отв. ред. С. М. Фалькович. М., 2010. С. 494–518.
Вывод о новаторском характере работы Н. М. Филатовой можно сделать на основании, в частности, того факта, что взаимные отношения
и формирование стереотипов — поляка в глазах русского и русского
в глазах поляка — представлены параллельно, благодаря чему можно
проследить процесс эволюции во взаимных мнениях о «врагах». И, пожалуй, наиболее важно то, что можно пересмотреть некоторые распространенные суждения, касающиеся отношений в светском обществе
того времени между обеими нациями: явная враждебность, демонстрируемая после Ноябрьского восстания, часто переносилась на события
более раннего времени; Н. М. Филатова показала, что около 1820 г. такая враждебность вовсе не была нормой. В литературных текстах более
позднего времени это приводило к анахронизмам — например, в сцене
бала в третьей части «Дзядов» Мицкевич подчеркивает гордое поведение польской барышни, которая смело, без страха перед последствиями своего поступка, отвергает ухаживания русского сановника. Такое
поведение могло подходить к ситуации 1832 г., когда поэт опубликовал
свою драму. Но по отношению к 1824 г., когда происходит действие драмы, это было анахронизмом.
Вяземский П. А. Записные книжки (1813–1848) / Сост. В. С. Нечаева. М.,
1963. С. 29.
Handelsman M. Op. cit. T. 1. S. 124.
Текст выступления А. Е. Чарторыского см. в: Dyaryusz Seymu Królestwa
Polskiego 1818. T. 3. Sesja 15 (23.IV.1818).
Стоит отдельно обратить внимание на работу Владимира Спасовича,
в которой впервые была довольно глубоко проанализирована позиция
Вяземского в отношении поляков: Спасович В. Д. Князь Вяземский П. А.
и его польские отношения и знакомства // Спасович В. А. Соч. Т. 8. СПб,
1896. С. 279–325. Очерк Владимира Спасовича начинается с желчных
замечаний о том, что деятельность Вяземского имела небольшое значение, с развенчания его поэтического творчества и с напоминания о довольно пренебрежительном отношении Вяземского к польскому народу. Вместе с тем, в завершении очерка Спасович пишет, что на протяжении всей своей жизни князь Вяземский утверждал: надо взять польский
�204
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
вопрос в руки и решить его самым удобным и самым выгодным для
поляков образом. Письма Вяземского, — считает Спасович, — решительно свидетельствуют о том, что в России даже в условиях обострения национализма звучали голоса трезвые и разумные (С. 325). Весь
этот пространный очерк полон противоречивых мнений, словно автор
сознательно выделял крайние черты характера Вяземского.
После очередного визита к Чарторыским он писал: «Я провел несколько весьма приятных дней в Пулавах: редкое, великолепное место!»
(Письмо А. И. Тургеневу от 10 мая 1819 г. // Остафьевский архив князей
Вяземских. Т. 1. С. 230).
Это событие не могло остаться незамеченным Вяземским. 1 июня
1818 г. он писал, явно отдавая — пусть и в свойственной ему иронической манере — дань уважения старшему поколению героических представителей польской нации: «Домбровский генерал умер. Мало-помалу
редеют ряды прежних Поляков… Домбровский велел похоронить себя
в свинцовом гробе, давно уже заготовленном, и положить в гроб три
сабли, полученные им в достопамятные случаи, и три пули, пробившие его в разных сражениях, и между прочим, одну, ранившую его под
Смоленском; одеть себя велел он в парадное платье. Эти Поляки имеют
какую-то рыцарскую блажь. Жене своей в завещании своем запретил он
брать пенсию. Этого у нас нескоро переймут». Цит. по: Вяземский П. А.
Письма А. Я. Булгакову. 1818–1820 гг. // Русский Архив. 1879. № 4. С. 508
(Прим. ред.).
Письмо А. Я. Булгакову от 28.06.1818 г. См.: Вяземский П. А. Письма
А. Я. Булгакову. 1818–1820 гг. С. 510.
Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. С. 114–115.
Письмо А. И. Тургеневу от 25 августа 1818 г. // Там же. С. 124–125.
Письмо А. И. Тургеневу от 15 ноября 1818 г. // Там же. С. 147.
Письмо А. И. Тургеневу от 10 мая 1819 г. // Там же. С. 230–231.
Письмо А. И. Тургеневу от 5 сентября 1819 г. // Там же. С. 306.
Вяземский П. А. Записные книжки. С. 45.
Цит. по: Fiszman S. Piotr Wiaziemski w Warszawie // Fiszman S. Archiwalia
Mickiewiczowskie. Wrocław, 1962. S. 42.
Письмо от 6 августа 1821 г. // Ibidem. S. 52.
�Юрий Лабынцев
(Москва)
Польская агитационная
«hutarka» 1863 г.
и ее оценка
Я. И. Н. Бодуэном де Куртенэ
Лабынцев Юрий Андреевич — доктор филологических наук, Россия, Москва,
Институт славяноведения
РАН
Около полувека назад академик
В. В. Виноградов написал: «Есть имена
ученых, входящих в историю отечественной науки разных стран… Уже сама по
себе оценка деятельности таких ученых с
разных национально-исторических точек
зрения, в аспекте истории разных национальных культур и разных национальных
путей развития той или иной сферы научного знания представляет большой исторический и теоретический интерес. Такой
подход не только допустим и законен, но
он уже и осуществляется по отношению к
Бодуэну де Куртенэ в русской и польской
историографии»1.
В самом деле, трудно сказать, где,
в Польше или России, более популярен
Я. И. Н. Бодуэн де Куртенэ и его труды.
Правда, в СССР и нынешней России о нем
писали и пишут почти исключительно как
об ученом-лингвисте, а в Польше за последние годы заметно увеличился интерес
к нему и как к публицисту и политику2.
Впрочем, больших обобщающих работ
о Бодуэне де Куртенэ пока не появилось,
некоторым исключением по-прежнему
служит монография немецкого слависта
Й. Мугдана3.
Летом 1921 г. в Варшаве Бодуэн де
Куртенэ, оценивая свой жизненный путь,
запишет: «Я растрачивал время на соби-
�206 Юрий Лабынцев
рание и накапливание неисчислимого количества материалов всякого
рода и из самых разнообразных областей. Мог бы обработать самое
большее сотую их часть. Но и этого не в состоянии сделать. Ибо материалы эти, вместе со всеми рукописями и униками остались в Петербурге и вероятно пошли или на растопку в печах, или на папиросы для
красноармейцев, или еще на что худшее»4.
Среди «уников» в богатейшем собрании Бодуэна де Куртенэ
была и небольшая литографированная брошюрка5, подаренная ему
известным польским общественным деятелем и публицистом В. Йодко-Наркевичем6. Она содержит латинографичный белорусскоязычный
стихотворный текст агитационной «hutarki»7, относимой нами к особому литературному жанру, развившемуся в начале 1860-х гг. и ставшему частью польской повстанческой литературы, обращенной преимущественно к крестьянству.
В целом, литература эта, за исключением «Myżyckaj praudy», до
сих пор мало изучена. В значительной степени тому способствовала
анонимность ее произведений, хотя, вслед за академиком Е. Ф. Карским, можно сказать, что их творцы «происхождения <…> несомненно, польского и католического»8. В нашем случае автор, хотя бы
предположительно, известен. Им был Франтишек Пчычкий, малоизвестное лицо, писавшее панегирические стихи на польском и русском
языках9.
В свое время такой видный деятель польского восстания 1863 г.,
как О. Авейде, констатировал: «причиной постепенного упадка революции было равнодушие крестьян», «при равнодушии крестьян гибель восстания была неминуема»10. Прекрасно понимая это, его организаторы попытались напрямую обратиться к простому народу, в
том числе и говорившему не на польском языке. По большому счету,
обращения «не оказали своего действия», в том числе и «на белорусов,
даже католиков»11.
Дошедшие до нас произведения польской повстанческой литературы, адресованные крестьянству, — прекрасный материал для
изучения многих аспектов общественной жизни тех лет, в том числе
и социально-культурной и литературно-языковой границы, разделявшей активную часть восставших и абсолютно преобладавшее мирное
население. Граница эта хорошо заметна, очень своеобразно ее отображают и такие литературные пассажи:
Niechaj Polszcza budzie znowa!
Bo jak stanem Polakami,
Budziem rounyje z Panami!12
�Польская агитационная «hutarka» 1863 г. ... 207
Современник восстания 1863 г. Бодуэн де Куртенэ позднее хорошо разглядел эту многовековую границу и весьма резко и иронично отозвался о подобных замысловатых агитационных нелепостях на
примере своего «уника», озаглавленного «Kryǔda i Praǔda». На обложке этой брошюрки он оставил запись со знаком восклицания: «Głupstwo kapitalne!», а в самом конце ее текста еще одну свою оценочную
запись с тем же знаком, сделанную по-русски: «Ерунда, белиберда,
сапоги всмятку!».
Kryǔda i Praǔda.
Bratcy, duża nam ni ładna!
Za Maskalom żyć ni-składna.
Nia-to, szto za Polszczy matki,
Tahdy to byli poradki!
Uwusim miеli wyhodu,
I Pan Boh dawaǔ urodu:
Jak lеs bywała pszanica,
Kołas żyta sirabrycca,
Jaczmiеń, hrecka i awios,
I haroch jak ścina ros,
Aharodaǔ ni prybrać,
Szumić trawoj sinażać;
Karoǔ, swinniеj i awеc
Powin bywała chlawiеc.
A koniki ż to jakija?
Hniеdźki, warancy, siwyja;
Pczołki u wulach hudziеli,
Miod d‘atwału pili, jеli,
Hnuliś pad fruchtam sady —
To-to bywali łady!
Za praklatym Maskalom
Niеtu szczaścia ni-uczom;
Boh urody ni dajеć,
Maskal paslеdki hrabiеć,
Nia-to, szto za Polszczy matki
Skazać, to byli paradki!
Nikudy nas ni-haniali,
Padatkaǔ ni nakładali,
Ni-było nijakaj płatni;
Ciapiеr hrabuć hrosz astatni.
Daǔniеj i piwa waryli,
�208 Юрий Лабынцев
Wolnicaj brażku kuryli,
Susim niakrutstwa ni-znali,
Na wajnu nas ni-haniali,
Szlachta za nas zastupała,
Sama za nas waiwała;
Aj-da szlachta małajcy!
Pany byli jak ajcy,
Tak nam baćki hawaryli,
Szto wot jak szczasliwy byli!
A ciapiеr na atwarot,
Chud i biеdzin nasz narod:
Sztob u niеkruty nas brać,
Sztob padatki wydzirać,
Sztoby dzirzać u niawoli
I rabić pa swajеj woli,
Maskal trebuić z panoǔ,
Spauniać ciazki ustanoǔ.
Maskali jak grugany1),
Nia to szto naszy pany;
Jaduć nas, pijuć naszu kroǔ,
To nadaż ich hnać dałoǔ
Ad naszaj ziamli radnoj;
Prahonim, budzić pakoj.
Jany i wiеru swiatuju
Zwiali-u syzmu praklatuju;
Zadawali nam i muki,
Prywadzia nas da razłuki
Ad naszaha z predkaǔ Boha,
Szto-to była za trywoha!
Na nas dla hetych razłuk,
Ni adzin ssiеkli łazy puk, —
I u łancuhi kawali,
I u turmy zasazali.
Nawadzili i sałdat, —
A sałdat-to nia-swoj brat!
Kurej, swinniеj i karoǔ
Jeli, — pili naszu kroǔ
Prancyb ich samich pajеli!
Tak nam jany nadajеli!
Woś-za ad lutaha hada,
Bratcy, baranicca nada!
�Польская агитационная «hutarka» 1863 г. ... 209
Z Panam Boham! — i Boh z nami!
Pany z nami! my z panami!
Z siarpoǔ, swiardłoǔ, limiaszoǔ,
Narobim my pałaszoǔ, —
I kasami na szastach,
Razaniom pa Maskalach!
Wić-jak ciapiеr tak nia-być
Nadaż ich pacirabić!
Jon słabodaj tolki ckuić,
Skolki wycirpim prabuić;
U Polszczy niawoli niеt,
Ad panoǔ ni-znajuć biеd;
Wot nazad dziеsić hadoǔ, —
I ad naszych-to panoǔ
Wyszła, sztoby dać słabodu,
Tak jak polskamu narodu
Da ni-papuściǔ Maskal,
Taki razbojnik chabal!
Ciapiеr z Wilna, z Koǔna, z Hrodna
Wyszła sztob było słobodna,
A Maskal i znoǔ dziarzyć;
Niaużoż tak hetamu być?
Kab nam i sztany zastawić,
Nada na swoim postawić,
Sztoby Polszczu waracić,
Dosić hedak swiеt kapcić.
Tolkiż wot, bratcy mai,
Pany stajać na krai
Mizy szlachty, — mizy nas.
Usiaki na hroszy łas,
Padnuszczaić widna biеs,
Znać tolki swoj anteres;
Widna szto z naszych panoǔ,
Nimała jość durakoǔ;
Szto ni-znajuć jak rabić,
Sztoby Polszczu waracić.
Biеdnaju szlachtu dziaruć, —
I u prihon jaszczo hnuć;
Tak wot szlachta, jak czuwać,
Ni-zachoczyć waiwać;
A biz szlachty jak tut być?
�210 Юрий Лабынцев
Jak nam ajczyznu dabyć?
Każuć, staryja pany,
Razumny byli jany,
U ich szlachcic byǔ Pan brat,
To i dziеła szło na ład.
Chto za ich klamku dziarżaǔ, —
I tot sam panam zastaǔ;
Znaczyć ni-łupili szlacht,
Cirabili k szczasciu tracht,
Zatoż za szlachty placzom,
Ni-tużyli ni-abczom
I ciapiеr za szlachtaj my,
Maskaloǔ razhonim cmy.
Wot-za jednaść musić miеć,
Chto ajczyznu dastajеć.
Dajża Boża wum panam
Jednasć, miłasć, zwahu nam,
Dadaj i swajеj pamocy,
Sztob wyjsci z maskoǔskaj mocy!
Bo użoż nadajеła nam
Paddawacca Maskolam!
Wykazać biеd niеtu słoǔ:
Maskal zrabiǔ mnoha udoǔ,
Narabiǔ mnoha sirot,
Nahaciǔ mnoha bałot,
Naszym bratam i dziaćmi, —
Pirałom ich pałami!
Ach! Bożuchna nam praści!
Szto tak musim ich klaści;
Bo nia-moznaz uciarpiеć,
Wum i serca ni-zniasiеć
Taho niszczascia i biеd,
Jakich i liku-użo niеt.
Maskal heta zwodca swiata
I kat nad zodnaha kata.
Jon jak nipryjaciеl duszny; —
I czortu widna pasłuszny;
Prociǔ sołnca sam idziеć,
Prociǔ Boha nas wiadziеć;
I choczyć uhawaryć,
Sztob nas ad swaich adbić, —
�Польская агитационная «hutarka» 1863 г. ... 211
I Ajczyznu naszu mać
Umaryć i zakapać.
Sam nam chormy padajеć,
Uich sam za nas iłżec,
Szto nia-choczym Palaka,
A jaho syzmatyka.
Ach besta! wialiki zdrajca!
I dusz naszych zapradajca!
Aszukanic jon balszy,
Da my kołkija jarszy,
Ni pałkniеć-ża zyǔcom nas,
Choć pazyrać wiеlma łas.
Jon jak łowiuczy kania,
Z łubkaj padchodzić mania,
Choczyć zławić, asiadłać,
I na złom szyi pamczać.
Lеpij-za słuchać swaich,
Swoj dli swaich, nia jość lich.
Maskal roǔna szto miadźwiеdź,
Jak wozmić moc zadziareć,
U niеkruty staniec brać,
Roznaj płatniaj uciskać,
Budzić i za sol łupić,
Tahdy soli ni kupić;
I nia budzić zyccia nam,
Paddajsia-tka Maskalam.
Żon ad muzou adabjеć,
Daczok za kust pawiadziеć,
Wajnoj narobić sirot,
Iznoǔ nahacić bałot,
Naszym bratam i dziaćmi.
Pirałom ich pałami!
O! lеpsza matka swaja,
Polszcza matka rodnaja,
Jaji słuchać, jеj służyć,
I na-wiеk u szczasci być
Heta powinność dziaciеj,
Tak Boh wialеǔ. Maskal zmiеj,
A sa zmiajom nam nia zyć,
Bo zmiеj możyć ukusić.
Jon biazwiеrny syzmatyk
�212 Юрий Лабынцев
I uwiеś swiеt padniaǔ kryk,
Tukaja jak na waǔka,
Szto jon kryǔdzić Palaka;
Zdziеkawaccaż nad nami
Niabudzić bolsz, my sami
Skiniеm jaho z naszych plеcz,
I kasami staniеm siеcz.
Nia budzić bolsz panawać,
Jak odzyła Polszcza mać.
I nam usim wialеła,
Nia miеć z Maskalom dziеła,
Bo moc swaju uziała
I paradki zawiła.
Niеt użo maskoǔskich praǔ,
Ahłasiła swoj ustaǔ.
Niеt użo ciapiеr panoǔ,
Niеtu szlachty, muzykoǔ,
Usiе roǔny jak adzin;
Bo z nas każdn polski syn.
Iusim ziamlu daduć,
I na siеjmy powiaduć,
I u wiеru wiеrnuć nas;
Daj Boh skarej hetat czas;
I daj-za za Polszczu mać,
Tabiе cześć, chwału pijać.
Aman.
1)
Kruki.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
Виноградов В. В. И. А. Бодуэн де Куртенэ // Бодуэн де Куртенэ И. А.
Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963. Т. 1. С. 6.
См., например: Baudouin de Courtenay J. Miejcie odwagę myślenia: Wybór
pism publicystycznych z lat 1898–1917. Kraków, 2007.
Mugdan J. Jan Baudouin de Courtenay (1845–1929): Leben und Werk.
München, 1984.
Skarżyński M. Jan Baudouin de Courtenay and Henryk Ułaszyn in light
of their correspondence // Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae
Cracoviensis. 2010. № 127. Р. 97.
�Польская агитационная «hutarka» 1863 г. ... 213
5
6
7
8
9
10
11
12
Pczycki F. Kryŭda i Praŭda: Hutarka Biłaruskaja. 1863 (см.: Библиотека
Российской академии наук. Славянский фонд. XXV*/ б53).
Об этом свидетельствует подпись самого Я. И. Н. Бодуэна де Куртенэ
на обложке брошюрки: «Od Witolda Narkiewicza-Jodki».
В конце своей небольшой статьи мы полностью воспроизводим текст
этой редчайшей белорусскоязычной брошюрки.
Карский Е. Ф. Белоруссы. Вильна, 1904. Т. 1. С. 443.
См., например: Pczycki F. W dzień imienin Ludwika Korzeniowskiego.
Kiew, 1870.
Авейде О. Показания и Записки о польском восстании 1863 года.
М., 1961. С. 619‑620 и др.
Карский Е. Ф. Указ. соч. С. 443.
См.: Hutаrka staroha dzieda. Poznań, 1861. S. 12.
�Гендерные особенности
польского этнического
Мария Лескинен
(Москва)
типа в российских
народоописаниях
второй половины XIX в.
Включение в путевые заметки и научные этнографические очерки описаний
внешнего облика женщин можно считать
универсальной особенностью народоописательных текстов, что связано с общими
принципами конструирования этнического типа. Авторы и составители — в большинстве своем мужчины — оперировали
оценочными определениями: как, например, красивая / некрасивая, обаятельная / необаятельная, страстная / холодная,
живая / вялая, при этом редко поясняя
не только природу этой привлекательности / непривлекательности, но и критерии
собственных суждений. В 1880-е гг. научно-этнографический интерес к облику
женщин объясняется, во-первых, изучением идей эмансипации в историческом
ракурсе и, во-вторых, новой концепцией
этнической типичности.
Обращаясь к изображению женщин в
русских этнографических народоописаниях, отметим, что они: а) всегда встроены
в общую схему этнических характеристик
народов Российской империи, б) соотносятся с традицией этнических самоописаний в национальных историографиях и с
русскими гетеростереотипами, однако не
теми, которые бытовали в народной картине мира, а со сложившимися в образованных слоях общества — в первую очередь
Лескинен Мария Войттовна — доктор исторических
наук, Россия, Москва, Институт славяноведения РАН
�Гендерные особенности польского этнического типа...
215
под влиянием художественной и научной литературы1. Самостоятельным и почти непременным пунктом путевых записок, историко-этнографических и географических очерков гендерные характеристики
этносов стали, начиная с 1840-х гг.2, по двум причинам: во-первых,
положение женщин и детей в социуме оказалось важным критерием уровня культурного развития общества в целом и крестьянства
в частности, показателем цивилизованности народа, и, во-вторых, в
антропологической науке все большее признание завоевывала концепция, согласно которой именно женский этнический («расовый»)
тип в наибольшей степени сохраняет в себе характерные этнические
физические и нравственные свойства3. Немаловажную роль сыграли
и модернизационные процессы в России, поставившие так называемый «женский вопрос»4, далеко не ограничивавшийся женской эмансипацией5, в центр общественно-политических дискуссий. Наконец,
довольно резкое изменение традиционных и просветительско-романтических представлений о гендерных моделях и идеалах вызвало интерес к историческому опыту других народов. В этом контексте показательным примером может служить содержание статьи «Женщина»
в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, которая освещает положение
женщины в культуре народов мира. Главный акцент в ней сделан на
процессе постепенной эмансипации женщин в гендерном, сословном
и культурном аспектах6, хотя собственно «эмансипации» посвящена
отдельная статья энциклопедии.
Наиболее очевидной особенностью любых этнографических
описаний женщин является их гендерно-субъективный характер,
ведь подавляющее большинство авторов были мужчинами, причем
принадлежавшими к высшему и среднему сословиям. Не затрагивая
хорошо изученные ныне универсальные особенности мужского нарратива и вопрос о своеобразии мужского письма «дофеминистской»
эпохи, отметим лишь несколько наиболее существенных черт изображения женщин в «мужских» этнографических текстах. Это, во-первых, архаическое стремление дать не нейтрально-антропологическую, но оценочную характеристику внешней привлекательности наряду с нравственными добродетелями. Во-вторых, четкая сословная
дифференциация в отношении к объектам описания, проявляющаяся
в разных требованиях к «хорошему» поведению и достоинствам женщин-крестьянок (как социально «чуждых» в культурном отношении)
и женщин условно «высшего» сословия (дворянок, горожанок, но почти никогда — аристократок и представительниц «высшего света»),
некоей социальной «ровни» повествователю. Это важная социальная
подоплека, поскольку суждения принадлежали представителям иной
�216 Мария Лескинен
гендерной и общественной группы — внешним наблюдателям (т. е. и
социальным, и этническим Другим).
Значимым критерием позитивной оценки женщин становится
степень их приверженности обычаям и нормам традиционного общества, патриархальным ценностям и национальным идеалам. Любые проявления следствий модернизации или эмансипации в этом
отношении оцениваются, как правило, негативно. Однако последнее
можно объяснить и тем, что задачей описателей было изображение
«этнического типа», призванного воплощать именно «вечные», константные черты культуры народа, не подверженные сиюминутным
трансформациям или моде. Особенно отчетливо эти особенности заметны в сравнении с текстами этнографических описаний, вышедшими из-под женского пера.
Мы обратимся к детальному анализу характеристик польских
женщин в российских народоописаниях славян второй половины
XIX в. на примере этнографических очерков. Начать следует с упоминания некоторых важных установок наблюдателей. Их отличала
общность принципов описания, обусловленная идеями о типичных
качествах земледельческих и христианских народов, согласно просветительским и романтическим представлениям принадлежавших к
категории «молодых» европейских этносов. Поэтому все славянские
народы наделялись добродетелями трудолюбия, гостеприимства, патриархальной честности, мужества и т. п. При этом, как подтверждает сравнительный анализ перечня этноспецифических качеств нрава
(характера) славян в европейской и русской славистике XVIII–XIX вв.,
разработанного еще немецкими философами (главным образом Гердером), сравнение германских и славянских племен как типологически
противоположных друг другу, как выразителей двух оппозиционных
«стихий» европейской этноплеменной и цивилизационной истории
оставалось неизменным на протяжении полутора веков, лишь детализируясь и дополняясь7. Принципиально важной чертой эволюции национальных характерологий стало то, что славянам приписывались душевность, мягкость, сердечность и «детскость» в противоположность
рациональному, жестокому, холодному, «зрелому» началу германцев.
Перечень этнонациональных особенностей славян в российских
научных и популярных народоописаниях был универсален — гендерных «подтипов» в нем почти не наблюдалось. Наибольшие вариации
заметны прежде всего в изображении антропологического облика и
нравственных качеств. Одним из главных методов этнографического
исследования родственных в этническом отношении народов был метод сравнения. Он применялся двояко — для научного сопоставления
�Гендерные особенности польского этнического типа...
217
этносов по известной программе-вопроснику и для констатации субъективных, нерефлексируемых компаративистских суждений, присущих всякому дискурсу о Другом — когда наблюдатель или повествователь воспринимает и изначально фиксирует действительность
в категориях «свой / чужой», подчиняясь закономерности каузальной
атрибуции.
Все это оказало значительное влияние не только на стиль и способы описания и типизации женских образов в текстах европейской
культуры XIX в., но и обусловило длительное бытование определенных этнических стереотипов. В научно-популярных этнографических описаниях женщин и в записках о путешествиях этого периода
отчетливо выражен принцип изоморфизма (соответствия внешности
характеру и темпераменту), «прочитываемый» в соответствии с основными категориями и оппозициями романтизма. Это определенные
«стандарты» в изображении так называемых «экзотических» и роковых женщин, стереотипные характеристики «северных», «южных»
(или «восточных») обитательниц Европы8. Для произведений русского
романтизма характерна весьма примечательная гендерная двойственность в использовании стереотипа страстной («горячей»), роковой,
морально раскрепощенной и зрелой (опытной) красавицы «южного
типа», противопоставляемой сдержанной («холодной»), добродетельной и зачастую целомудренной «северянке»9. Эта оппозиция могла
выражаться в различных дихотомиях этнического и регионального
(петербурженка, «северянка» / провинциалка, «южанка» (цыганка,
малороссиянка, гречанка и т. п.), великороссиянка / малороссиянка)
или сословного характера (великосветская дама / провинциальная барышня) и т. п. Довольно отчетливым, как показывают исследования,
было отождествление голубоглазой блондинки с «севером», холодностью и добродетельностью и черноглазой брюнетки с «югом», пылкостью и свободолюбием10. «Женская красота, — указывает Буле, —
виделась романтиками либо как северный, либо как южный тип, каждый из которых символизировал свои темпераментные парадигмы»11.
Следует упомянуть еще одну важную тенденцию — так называемую «этнизацию феминного» (термин О. Рябова), когда женские образы трактовались как воплощение этнического, находящегося в оппозиции к государственно-национальному. Женские образы и символы
ассоциировались с традиционно-бытовыми крестьянскими формами
культуры, в то время как мужские — с миром «города», эпохой прогресса, модернизации, что оказало влияние на формы вербальной12 и
визуальной13 репрезентации народов Европы в период конструирования наций.
�218 Мария Лескинен
Описание полек в русском гендерно-этнографическом дискурсе
можно считать наиболее противоречивым. Эта неоднозначность была
порождена методологической сложностью в выявлении польского этнического типа: согласно теории этничности того времени, «тип» выявлялся через крестьянское сословие, в то время как и в польских научных
и исторических самоописаниях, и в русской культуре предшествующего периода доминировал образ польки-дворянки, гармонично «встроенный» в романтический идеал истинной патриотки. Польская крестьянка
долгое время оставалась «неизвестна» и польской, и русской литературе, так что даже обыденные представления, бесспорно оказывавшие
влияние на восприятие этнического Другого, никак не могли сформировать необходимую почву. Напротив, сложившаяся традиция изображения «прекрасной и гордой» польки в поэзии и беллетристике русского
романтизма14 предоставляла готовые клише, сложившиеся в сознании
образованной элиты «естественным путем». Красота, грация, гордость,
ум, несравненное обаяние — все эти особенности, по признанию многих
наблюдателей, оказывают чарующее воздействие на мужчин, теряющих
голову, подтверждая еще одно романтическое предубеждение об опасности и коварстве полек, которые делают их своеобразным «орудием»
в патриотической борьбе поляков (представление о том, что именно
женщина в условиях суровой политической борьбы является носителем польского патриотизма и готова жертвовать собой, сформировалось
сначала в польском национальном автостереотипе)15. Довольно распространено было и мнение о том, что польская женщина способна оказать
на русского мужчину как цивилизующее, смягчающее влияние (как,
например, княгиня Лович на великого князя Константина Павловича),
так и, напротив, погубить, сделав его поклонником всего польского или
католического, — т. е. вылепить из него полонофила. К. А. Скальковский с нескрываемой иронией так писал об источнике появления данного стереотипного суждения: «Офицеры, стоявшие в Царстве Польском,
разносили по России слухи о польских Цирцеях, совращавших своим
кокетством храброе русское воинство с пути истинного… Неудивительно, что о красоте этих женщин сложилась легенда. Как все легенды, и
эта теряет силу в наш критический век»16. Словосочетание «прекрасная
и коварная» в отношении польки можно расценивать как устойчивое
языковое и литературное клише, бытующее и по сей день. Следует согласиться с исследователями-литературоведами в том, что на подобные
представления оказал весьма сильное влияние образ «гордой полячки»
в русской литературе, причем не только романтической17.
Красота полек воспевалась как в польской художественной литературе и поэзии, так и в заметках иностранных путешественников.
�Гендерные особенности польского этнического типа...
219
«Польки причисляются к идеально красивым европейским женщинам»18, — констатирует Г. Плосс. Приведем довольно типичное мнение о польках А. фон Швейгер-Лерхенфельда, заключенное на основании сравнения с западноевропейским (романским) и русским (восточнославянским) типом, так как заметки эти сделаны автором во время
его путешествия по Российской империи: «В них действительно есть
нечто ослепительное, в особенности в их спокойных, почти классических чертах лица. Полька гораздо грациознее русской женщины, и изящество ее служит доказательством, что у нее больше вкуса, нежели у
последней. В общем, она более нежного сложения, цвет лица прозрачнее и мягче, темные глаза выражают много живости, но в них нет выражения той чувственности, которую мы наблюдаем в голубых глазах
северной русской женщины. Польская дама может служить образцом
выдающейся расовой красоты, к которой присоединяется природная
грация, вообще встречающаяся только у романских женщин»19.
Наиболее характерный перечень черт полек включает фиксацию
их красоты и качеств, важных для коммуникации в определенных
слоях общества. В русских описаниях обращает на себя внимание
частотность упоминания «веселости» полек, которая является отражением этнографического стереотипа поляка в научном дискурсе эпохи20: «Польские женщины известны с древних времен своею
миловидностью, нередко замечательной красотою. Они отличаются
многими высокими качествами: остроумны, любезны, всегда веселы,
находчивы, решительны, умеют ободрить мужей, они хорошие жены
и матери, пользуются большим уважением, почетом и обыкновенно
заправляют всеми делами в доме»21. К. А. Скальковский относит к достоинствам полек их «твердый характер, деловитость и домовитость.
Полька со средствами вдвое меньше против нашей русской женщины
лучше будет вести свое хозяйство и лучше воспитывает своих детей
<…> Легко командует своими мужьями»22. В последнем утверждении
нашло отражение бытующее в русской литературе второй половины XIX в. представление о том, что славянским женщинам присуща
склонность к «управлению» мужьями, которая, впрочем, не является
врожденной, а вызвана слабохарактерностью и безответственностью
супругов.
Достоинства и пороки народа, согласно господствовавшим представлениям, в равной степени находят выражение во всех группах —
возрастных, социальных, гендерных. Поэтому, кроме веселости, в
описаниях полек фигурируют и все другие стереотипные определения поляков — такие как «господство сердца над разумом», пылкость,
эмоциональность, глубокая религиозность и «горячая любовь к роди-
�220 Мария Лескинен
не»23. «Поляки — народ храбрый, умный, легко воспламеняющийся,
великодушный, красивый»24, — такое общее описание содержится у
К. Кюна, в целом резко негативно оценивающего «бунтарскую» деятельность польских патриотов. Восхищение грацией и миловидностью польских женщин в этом контексте, скорее всего, естественно
продолжает трактовку характерных особенностей польского национального характера в целом — открытости и эмоциональности25.
Любезность, остроумие, решительность интерпретировались как
результат врожденных качеств (темперамента) и традиций рыцарской
дворянской культуры. Поэтому подобные черты приписывались, как
правило, дворянкам26. Многие авторы, чтобы избежать возможных
упреков, сознательно разделяли описания представителей разных сословий: «Польское дворянство резко отличается от массы народа. У
дворян выразительные физиономии, волосы и глаза темные и часто орлиный нос. У женщин высших классов красивые и интересные лица;
они высоки ростом, стройны, волосы у них очень темные, цвет лица
нежный; вся их наружность и осанка дышат благородной гордостью»27.
В связи с этим можно отметить одну закономерность: описания
польки-некрестьянки в этнографических очерках содержатся чаще
всего в главах и разделах, касающихся Варшавы и ее жителей. Таким
локальным ограничением авторы, во-первых, стремятся нивелировать социальное противоречие, очевидное с точки зрения жанровой
чистоты этнографического научного дискурса, и, во-вторых, имеют
возможность выразить личные впечатления от польской столицы, жители которой чаще всего оказываются в сфере первоначального знакомства «среднестатистического» русского путешественника с краем.
Так, в географической хрестоматии 1860-х гг. Д. Д. Семенова говорится, что в Варшаве: «…можно встретить много красивых женщин, которыми очень славится Варшава, но резкие черты лица и излишняя
полнота часто портят польку. В обращении мужчин и женщин проглядывает врожденное благородство и уважение…»28.
Фактически отождествляет варшавянок с польками (правда,
«образованными») К. А. Скальковский, хотя его критический взгляд
фиксирует скорее негативные, нежели позитивные изменения типичного образа: «Польские женщины <…> в смысле типа варшавянки вырождаются. Польки по-прежнему отличаются умом и практической
деловитостью <…> но в наружном отношении <…> красота польских
или варшавских женщин понижается»29. Не разделяет его мнения
В. О. Михневич. Описывая варшавских актрис, он пишет: «Более очаровательного Олимпа по красоте богинь мне прежде не приходилось
видеть <…> По справке все “богини” оказались польками <…> Все
�Гендерные особенности польского этнического типа...
221
они были довольно плохие актрисы и еще худшие певицы, но одна
другой красивее и грациознее»30.
Своеобразным развитием мотива польского темперамента —
этот мотив просматривается как в утверждениях о возбудимости поляков и их неумении владеть своими эмоциями (вплоть до экзальтированности — «не мешало бы польке немного меньше нервности»31),
так и в упоминаниях их горячности, способности увлекаться — является оценка женской сексуальности. Авторы-мужчины интерпретируют ее в совершенно очевидных для читателя категориях чувственности и страстности, в зависимости от позиции автора оцениваемых
негативно или позитивно. Тот же К. А. Скальковский утверждает, что
«польки менее всего сентиментальны; они, напротив, экзальтированны, строптивы и лукавы. Они холодны <…> недостаток полек — жеманство и аффектация»32. Приписывание полякам вообще склонности
к внешним эффектам и некоей показной экзальтированности находит
выражение в обвинении полек в постоянном желании производить
внешнее впечатление («В их характере проявляется много стремления
к блеску»33; «Польские дамы очень любят в своем наряде что-нибудь
оригинальное, бросающееся в глаза»34), что зачастую, по мнению авторов, приводит к моральному падению: «Склонности полек к кокетству и желание их блистать и играть роль <…> делают то, что эти
гордые и неприступные с виду пани только и мечтают, как бы попасть
“на утшимание” ( т. е. “на содержание”. — М. Л.)»35.
Еще одной вариацией темы польской эмоциональности является восходящий к XVII в. мотив сопоставления поляков с французами. Поляков издавна именовали «французами» Восточной Европы
или «северными французами». Это сравнение активно используется
в разного рода европейских характеристиках французов и поляков
(француженок и полек в том числе36). В подобном ключе рассуждает
и Михневич: «интеллигентная полька <…> ближе всего напоминает
парижанку… В ней та же французская живость, та же кокетливая грация и то же женственное изящество»37. Некоторые российские авторы,
склонные к полонофобии (например, В. В. Макушев38), в 1860–80-е гг.
неоднократно обращались к рассуждениям о взаимосвязи этой «французской» живости нрава (горячего и одновременно легкомысленного)
с наклонностью к антироссийским «бунтам».
Однако исследования показывают, что перед нами скорее всего
польский автостереотип, подтверждающийся некоторыми характеристиками польского национального характера, которые содержатся в
заметках самих поляков, служивших, в частности, в Петербурге и не
«запятнавших» своей репутации среди соотечественников-патриотов
�222 Мария Лескинен
подозрениями в русофильстве. Так, О. А. Пржецлавский39, рассуждая о «стихиях народного характера поляков», писал: «он есть смесь
противоположных элементов: славянской беспечности, природной
храбрости с французскою способностью (выделено мной. — М. Л.)
увлекаться первыми впечатлениями»40. При этом автор считает поразительное сходство французского и польского темпераментов вовсе не
лестным для славян41, несмотря на то, что «легкомысленные сарматы»
«делали все, чтобы удержаться на этой параллели. От своего образца
они перенимали не только язык свободы, нравы, но и все умственное
и политическое направление… Сходство с французами распространяется в Польше даже на низшие слои общества. Общественная жизнь в
Варшаве, Вильне и других больших городах <…> есть сколок с жизни
Парижа. Та же страсть к рассеянной уличной жизни, к публичным
сборищам на открытом воздухе, ко всяким шумных увеселениям»42.
В этом же ключе следует рассматривать рассуждения о сходстве польского и французского национальных характеров русского по происхождению католика-эмигранта В. С. Печерина43, которого нельзя отнести к типичным носителям русских этнокультурных стереотипов.
Можно отметить также довольно явную взаимосвязь мотива
польской — в том числе и женской — «веселости» с любовью именно
варшавян к праздничному времяпрепровождению. Подобная «веселость» зачастую оценивается в мужском письме как позитивное качество полек и отличительная особенность досуга в варшавском дамском обществе. Умение варшавян отдыхать и развлекаться «удостоено» неоднократных упоминаний в записках русских путешественников XVIII–XIX вв. и стало устойчивым стереотипом44. В. Дедлов,
как и другие, связывает эту «приятную» для общения особенность
с «женственностью» истинной польки: «Она стройна и красива, она
нравится и хочет нравиться. Она, пока молода, имеет такой вид, точно
задача ее существования — веселье во что бы то ни стало <…> Полька
<…> развеселит любого; она не знает скучных собраний: где она, там
шутки и смех»45.
Для сравнения обратимся к еще одному описанию, содержащемуся в географическом труде Э. Реклю (который использовал как западноевропейские, так и польские и российские источники): «Если
первобытный тип сохранятся лучше всего у женщин, как это утверждают антропологи, то польки, развитые и образованные, ясно показывают своими качествами высокое достоинство расы, к которой они
принадлежат: они не только отличаются изяществом манер, умом,
постоянной веселостью, даром слова, но обладают также силой самоутверждения, мужеством, быстрой решимостью и живостью мысли;
�Гендерные особенности польского этнического типа...
223
они хранят во всей чистоте и благородстве идеал нации»46. Отметим
корректное уточнение автором объекта описания — «развитые и образованные» польки, что, вероятно, и побудило редакторов русского
перевода к обширному комментарию, касающемуся «типичности»
данного социального варианта этнического образа: «Эти стороны
характера польской женщины и ее большее, чем где-либо, влияние
на общественную жизнь и нравственность встречаются не только в
среде образованных классов общества, но и простом народе; <…> в
сословии сельских крестьян <…> явно обнаруживалось преобладание
бойкой и живой инициативы женского ума»47 — и далее в качестве
аргумента приведено мнение Н. В. Милютина.
Как видим, оценки Э. Реклю, хотя и позитивные, выдержаны в
несколько более нейтральном тоне. Можно рассмотреть в связи с этим
цитату из описания путешествия В. Дедлова, фрагменты которого
очень часто включались в этнографические популярные издания «для
детей» и «для народа»48. Дедлов цитирует характеристику Реклю, но
по ходу несколько видоизменяет ее: «Вероятно, поляки привлекательны для женщин в такой же мере, как польки для нашего брата мужчин, но полька благородней. Вот что говорит о польках Реклю в своей
знаменитой географии: если антропологи правы, что первоначальный
тип полнее сохраняется в женщине, тогда развитая и образованная
полька своими редкими качествами обнаруживает высокое достоинство родной расы: она не только любезна, остроумна, всегда весела и
разговорчива, но и преданна, мужественна, решительна и здравомысляща. К сожалению, таким идеалом является полька развитая и образованная, великая редкость в стране»49.При этом он дважды повторяет
уточнение «развитая и образованная», подчеркивая тем самым социальную ограниченность позитивных черт женского образа.
Вернемся к описанию В.О. Михневичем варшавянок. Несмотря
на избранный автором жанр путевых заметок и живописные экскурсы, очерки выполнены с явной опорой на известные научно-этнографические описания и антропологические классификации. Его попытка выявить гендерные антропологические подтипы свидетельствует о
знакомстве с современной научной литературой: «Мне бросилось тогда же в глаза подтвержденное потом другими наблюдениями разнообразие типов варшавянки, которые <…> можно разгруппировать на
два расовых. Один тип — чисто сарматский, несколько аналогичный
кавказским — восточным: черные волнистые волосы, большие черные, огненные глаза, продолговатый овал лица, тонкие черты, тонкий
небольшой орлиный нос и стройное, сухощавое тело. Другой тип —
контраст первому — тип чисто славянский: русые волосы, голубые
�224 Мария Лескинен
или серые глаза с “соболиными бровями” и чудесными ресницами,
нежный цвет лица не совсем правильного, с шаловливым, чуть вздернутым носом, прекрасно развитый торс и ослепительная белизна
кожи. <…> В эти два генерические типа, без сомнения, укладывается
множество разновидностей»50. Таким образом, противопоставляя кавказский расовый тип славянскому, Михневич одновременно выделяет
два субэтнических антропологических подтипа, заметных только в
женской ипостаси. Такой «научный» подход также предоставляет ему
основания для объяснения причин польской женской притягательности: «не в этом ли <…> — восклицает автор, — смешении противоречащих качеств и недостатков, делающих самую убогую в нравственном и умственном отношении польку чем-то загадочным — не в этом
ли объяснение “Польши”, воспетой Мицкевичем?»51
Гендерные вариации славянских типов, представленные в российских научных этнических репрезентациях второй половины
XIX в., нельзя трактовать как прямое отражение особенностей русского восприятия. Они выстраивались в соответствии с европейскими традициями изображения этнической специфики, что проявилось
в некоторых европоцентристских оценках, в усвоенной просвещенческо-романтической дихотомии славянской и германской стихий и
классификации этнокультурных типов в категориях севера / юга, запада / востока, культуры / природы, цивилизации / дикости и т. д., а
также в общих установках мужского этнографического нарратива. Но
в российских этнографических описаниях славянских народов находит выражение и собственно национальная специфика восприятия и
описания Других. Она проявлялась и ранее, например, в воздействии
женских образов и типов художественной литературы вообще и литературы так называемого «этнографизма» в частности на бытование
русских этнокультурных стереотипов.
При этом авторы активно использовали общеевропейские установки в изображении польского женского антропологического типа
как европейского. Трудно судить о «расовой» (в современном смысле слова) предубежденности российских наблюдателей, так как мы
рассматривали только восприятие ими западных славян. Конкретные «параметры» описания внешности и нравственных качеств демонстрируют присущие «дофеминистской эпохе» гендерные предубеждения авторов с одновременным признанием взаимосвязи облика
женщины и ее положения в социуме. Кроме того, очевидно, что они
содержат в себе многие архаические черты русских этностереотипных визуальных и вербальных репрезентаций, выполненных в жанре
�Гендерные особенности польского этнического типа...
225
сравнительных народоописаний: условность изображения, влияние
романтических клише, акцент на отличительные признаки, выявляемые сравнением, лаконичность формул и др.
Польки в русских описаниях наделены позитивными характеристиками — прежде всего как представительницы западноевропейской
культуры. Но они — самые далекие на шкале оппозиции «свой / чужой». Неслучайно им приписываются коварство и неискренность.
Вместе с тем на восприятие и описание русскими авторами этнических типов в их женском воплощении оказали влияние не декларируемые, но явственные сословные различия: полька в сословно-культурном и образовательном отношении всегда ближе, нежели крестьянка-малороссиянка.
Характеристики полек в научных народоописаниях демонстрируют хорошо изученные особенности «мужского» письма: они, как и
этнографические тексты в целом, балансируют на пересечении жанров, включают в себя элементы туристического справочника, этнографического комментария (внешность, экзотизмы и «обыкновения»
Других), а также оценочные суждения носителей Знания и Культуры
(с позиций которых осуществляется сравнение «своих» и «чужих»
гендерных типов). Отличительные женские свойства в этом контексте призваны не только маркировать область различения, комплекс
этнодифференцирующих признаков, но и служить дополнительным
аргументом, подтверждающим или опровергающим «нравственные
качества» других народов, оцениваемых по шкале универсальных
добродетелей.
Примечания
1
2
Подробнее об этом см.: Лескинен М. В. Поляки и финны в российской
науке второй половины XIX в.: «Другой» сквозь призму идентичности.
М., 2010. Гл. 8.
Cм., например: Григорович Д. В. Нравы и обычаи разных народов. СПб.,
1860; Природа и люди. Курс географии, содержащей описание частей
света в физическом, этнографическом и политическом отношениях /
Сост. и изд. А. Павловский. В 2 вып. СПб., 1868–1869; Реклю Э. Земля и
люди. Всеобщая география. В 19 т. и 10 кн. СПб., 1898–1900; Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / Под. общей ред. П.П. Семенова. В 12-ти тт. (19 кн.). СПб.,–М., 1881–1901; Народы России. Этнографические очерки // Природа и люди. 1878 и др.. Подтверждением может
�226 Мария Лескинен
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
служить также коллекция вырезок журнальных и газетных статей, в
которой теме «Женщина у древних и новых народов» посвящены три
объемных тома (Государственная публичная историческая библиотека,
Ф. М. Д. Хмырова. № 106). О месте и роли истории женщин см., в частности: Пушкарева Н. Л. Русская женщина: история и современность.
М., 2002. С. 11–23.
Реклю Э. Земля и люди. Всеобщая география. В 19 т. Т. 5. Вып. 2. Европейская Россия. СПб., 1883. Стлб. 105.
Пиетров-Эннкер Б. «Новые люди» России. Развитие женского движения от истоков до Октябрьской революции. М., 2005. С. 47–75.
Михайловский Н. К. Борьба за индивидуальность (1876) // Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. В 6 т. Т. 1. СПб., 1911. С. 421–593.
Женщина // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. Е. Ефрона.
В XLI т. (82 п/т) / Под ред. Е. И. Андреевского. Т. 22 (п/т XI а). СПб., 1894.
С. 873–888. Подробная и наиболее полная библиография «женского вопроса» во второй половине столетия приведена в: Пушкарева Н. Л. Указ. соч.
Лескинен М. В. Теории племенной и национальной характерологии в
русской славистике XIX в. // Славистика в центральноевропейском контексте. М., РГГУ. В печати.
Об этом, в частности: Зенкин С. Н. Французский романтизм и идея
культуры. Аспекты проблемы. М., 2001; Шёнле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий.
1790–1840. СПб., 2004; Мочалова В. В. Миф Европы у польских романтиков // Миф Европы в литературе и культуре Польши и России. М.,
2004. С. 129–146; Лескинен М. В. Миф Европы и Польша в «Записках»
В. С. Печерина // Там же. С. 161–181. Как верно отмечает В. Мильчина, объяснение особенностей образа жизни разных (чужих для описателя) народов и племен осуществлялось при помощи классификации
черт «южан» и «северян» и во многих подобных сочинениях заменяло
категорию национальности (Мильчина В. Сентиментальный национализм и многообразная русификация (Круглый стол «Национализм в
имперской России: идеологические модели и дискурсивные практики»,
2002 г.) // Ab Imperio. 2002. № 2. С. 537–539).
Andrew J. Women in Russian Literature. 1780–1863. NY, 1988.
Буле О. Заметки о споре между la brune et la blonde в эпоху романтизма //
Концепция и смысл. Сборник статей в честь 60-летия проф. В. М. Марковича. СПб., 1996. С. 28–47.
Там же. С. 30.
Mosse G. L. Nationalism and Sexuality. Middle Class Morality and Sexual
Norms in Modern Europe. L., 1985; Lewis R. Gendering Orientalism: race,
feminity and representation. Routledge, 1996.
�Гендерные особенности польского этнического типа...
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
227
См., в частности, статьи раздела «Island of the Sea of Others» в сборнике:
Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe /
Ed. by D. Demski and K. Baraniecka-Olszewska. Warsaw, 2010.
Хорев В. А. Стереотип Польши и поляков в русской литературе накануне и после национально-освободительного восстания 1830 г. // Он же.
Польша и поляки глазами русских литераторов. Имагологические очерки. М., 2005. С. 35–59.
Kukoіowicz T. Szacunek dla kobiety i starszego czіowieka, umiіowanie dziecka // Wartoњжi w kulturze polskiej. Lublin, 1993. S. 223–227; Prokop J. Kobieta Polka // Sіownik literatury polskiej XIX wieku / Pod. red. J. Bachуrza i
A. Kowalczykowej. Wrocіaw. 2002.
Скальковский К. А. О женщинах: мысли старые и новые. СПб., 1886.
С. 266–267.
Об этом писали: Duszenko K. Polak i Polka w oczach Rosjan // Narody i stereotypy. Krakуw, 1995. S. 158–164; Левкиевская Е. Е. Стереотип русско-польской любви в русской литературе XIX–XX вв. // Россия — Польша. Образы
и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002. С. 192–200; Мочалова В. В.
Образ Марины Мнишек в историографии и литературе // Studia polonica. К
70-летию В. А. Хорева. М., 2002. С. 372–397; Сараскина Л. «Гордая полячка» в русской истории // Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie wspуіczesne / Pod
red. A. de Lazari. Јуdџ, 2003. S. 140–149; Лескинен М.В. Прекрасная полька
в русском воплощении: эволюция этногендерных стереотипов в образах
и нарративах второй половины XIX в. // Россия — Польша: два аспекта
европейской культуры. Царское село, 2012. С. 334–346.
Плосс Г. Женщина в естествоведении и народоведении. В 3-х тт. Сыктывкар — Киров, 1995.
Цит. по: Плосс Г. Указ. соч. Т. 1. С. 103–104. Интересно отметить, что
в русском переводе немецкоязычного оригинала сочинения А. фон
Швейгер-Лерхенфельда 1882 г. в данном фрагменте сравнение с «северной русской женщиной» снято — скорее всего, издателем российского
издания (ср.: Швейгер-Лерхенфельд А. фон Женщина. Ее жизнь, нравы
и общественное положение у всех народов земного шара. Пер. с нем.
М. И. Мерцаловой. М., 1998. С. 636.)
Лескинен М. В. Поляки и финны… Гл. 6 (2).
Пуцыкович Ф. Ф. Поляки. СПб., 1899. С. 11.
Скальковский К. А. Несколько дней в Варшаве // Скальковский К. А. Новые путевые впечатления. СПб., 1889. С. 61–132, 84.
Лескинен М. В. Поляки и финны… Гл. 6 (1).
Кюн К. Народы России. СПб., 1888. С. 54.
Западный край // Отечествоведение. Россия по рассказам путешественников и ученым исследованиям. Учебное пособие для учащихся. В 6 т. /
�228 Мария Лескинен
Сост. Д. Д. Семенов. СПб., 1866–1870. Т. 4. Сибирь и Западный край.
Варшава. СПб., 1867. С. 193; Пуцыкович Ф. Ф. Указ. соч. С. 11; Сно Е. Э.
На западных окраинах. Поляки и литовцы. (Серия «Рассказы о родной
стране и ее обитателях»). СПб., 1904. С. 10; Водовозова Е. Н. Поляки //
Водовозова Е. Н. Как люди на белом свете живут. Чехи — поляки — русины. СПб., 1905. С. 126–127.
26 Поляки (Народы России. Этнографические очерки) // Природа и люди.
1878. № 4. С. 1.
27 Поляки // Народы России. Живописный альбом. В 2 вып. Вып. 1. СПб.,
1877. С. 58.
28 Западный край. С. 193–194.
29 Скальковский К. А. Указ. соч. С. 84–85.
30 Михневич В. О. Варшава и варшавяне. Наблюдения и заметки. СПб.,
1881. С. 50.
31 Дедлов В. (Кигн В. Л.) У поляков // Дедлов В. Вокруг России. Польша —
Бессарабия — Крым — Урал — Финляндия — Нижний. Портреты и
пейзажи. СПб., 1895. С. 20.
32 Скальковский К. А. Несколько дней в Варшаве. С. 84, 86.
33 Западный край. С. 193.
34 Поляки // Народы России. С. 60.
35 Скальковский К. А. Несколько дней в Варшаве. С. 87.
36 Швейгер-Лерхенфельд А. фон Указ. соч. С. 537–539, 636.
37 Михневич В. О. Указ. соч. С. 51.
38 Макушев В. Поляки в России // Голос. 1873, 11 июня / 23 июня. № 160. С. 2.
39 Пржецлавский О. А. Калейдоскоп воспоминаний // Поляки в Петербурге в первой половине XIX века / Сост., предисл., подготовка текста
и коммент. А. И. Федуты; пер. воспоминаний С. Моравского, Т. Бобровского и А.-Г. Киркора, с польского Ю. В. Чайникова. М., 2010. С. 29–168.
На русском языке фрагменты этих воспоминаний публиковались в
1872, 1874, 1876 и 1783 гг. на страницах «Русского архива» и «Русской
старины», а потому Макушев вполне имел возможность ознакомиться с
самыми ранними заметками еще до сотрудничества с «Голосом».
40 Там же. С. 35.
41 Там же. С. 140.
42 Там же. С. 140–141.
43 Лескинен М. В. Миф Европы и Польша… С. 161–181.
44 Свирида И. И. О гедонистической ипостаси топоса Варшавы // Studia
Polonica. К 70-летию В. А. Хорева. М., 2002. С. 398–408.
45 Дедлов В. Указ. соч. С. 19, 20.
46 Реклю Э. Европейская Россия // Реклю Э. Земля и люди. Всеобщая география. В 19 т. и 10 книгах. 2-е изд. Ч. 3. Т. 5. СПб., 1898. Стлб. 710.
�Гендерные особенности польского этнического типа...
47
48
49
50
51
229
Там же.
Подробный разбор описания путешествия В. Дедлова по Польше см. в:
Хорев В. А. «Польский вопрос» в России после восстания 1863 г. // Он
же. Польша и поляки глазами русских литераторов. С. 78-101.
Дедлов В. Указ. соч. С. 19.
Михневич В. О. Указ. соч. С. 50.
Там же. С. 51.
�С. Жеромский:
имагологический аспект
Леонид Мальцев
(Калининград)
(роман «Краса жизни»)
Имагология — перспективная отрасль гуманитарного знания, ставящая перед собой цель описания «образов “другого” в текстах культуры», «“образов”, “картин” чужого мира»1. Имагологические
исследования в современной полонистике
невозможно представить без работ Виктора Александровича Хорева, который,
не отрицая необходимости дальнейшего
развития контактологической компаративистики (изучения «влияний, заимствований, реминисценций, филиаций») и исследования типологических сближений,
утверждал, что новый взгляд на российско-польскую культурную проблематику
немыслим без систематических исследований образов «другого» — образов
Польши и поляков в русской литературе и,
соответственно, образов России и русских
в польской литературе. Исходя из особой
своей сущности, литературное творчество
расшатывает и разрушает стереотипы,
являющиеся симптомами ограниченности горизонтов мышления, скованного
определенными социально-историческими факторами. Но литература может и законсервировать эти стереотипы, придавая
им художественно-образную выпуклость
и привлекательность с одной стороны, и
идейно-философическое обоснование — с
другой.
Мальцев Леонид Алексеевич — доктор филологических наук, Россия, Калининград,
Балтийский
федеральный университет
им. И. Канта
�С. Жеромский: имагологический аспект... 231
Современные контактологические исследования также не могут не принимать во внимание имагологический фактор: доминирующие настроения в национальной культуре, укоренившиеся образы
представителей других народов в русле традиций собственной национальной культуры определяют характер восприятия литературного
творчества других народов — при этом может иметь место принятие
стереотипа либо, наоборот, отталкивание от него, но практически невозможно полное игнорирование освященных традицией клише.
Феномен Стефана Жеромского нельзя понять без России и русской культуры: идейно-эстетическая «русскость» писателя сквозь
призму польского литературного сознания отличалась в XIX и XX вв.
крайней противоречивостью, отразив историю польско-русских противоречий. Эта двойственность свидетельствует о крайней остроте
«русского вопроса» в сознании Жеромского и его соотечественников.
Жеромский — один из самых актуальных классиков польской
литературы именно с «имагологической» точки зрения. Традиции
русской литературы и культуры были восприняты будущим писателем в рамках обязательной образовательной программы: великая
русская культура, хотя и воспринималась Жеромским и его соотечественниками как навязанное наследие одной из стран-поработительниц, привнесла много ценного в духовно-творческий багаж начинающего писателя.
Вопрос о «русском» Жеромском имеет достаточно богатую
историю изучения. Это, прежде всего, работы по контактным связям
творчества Жеромского с русской литературой А. И. Баранова2. Среди новейших исследований, посвященных имагологическому ракурсу
темы «Жеромский и Россия», показательна статья польского исследователя Р. Хандке «Стефан Жеромский и москали», выходящая за рамки внутрилитературной проблематики, определяющая круг историко-идеологических и психологических вопросов, связанных с видением России у Жеромского. Автор обоснованно полагает, что причиной
закрепления негативного стереотипа России был «травматический
национальный опыт», все еще «близкая и живая трагедия январского восстания», последующий период русификации «Привислинского
края» и связанный с этим «московский комплекс» Жеромского3. Но
русская тема Жеромского имеет, по мнению исследователя, и обратную сторону: «Художественная сила произведений русской литературы оказывала влияние на молодежь, через навязанный силой язык она
обращалась к… сокровищнице человеческих знаний и духа в мировом
масштабе»4. Р. Хандке акцентирует и одну из самых перспективных
тем в творчестве писателя — тему польско-русской любви, абсолютно
�232 Леонид Мальцев
верно называя ее «фактором преодоления барьеров между поляками и
“москалями”» и «сюжетно привлекательной сферой вовлечения героев в драму польско-русских отношений»5.
«Русская» тема, начиная с юношеских «Дневников», занимает
особое место в творчестве Жеромского. В произведениях «Могильный холм», «Сизифов труд», «Верная река», «Краса жизни», «Дума
о гетмане», «Pavoncello» писатель создал художественно весомые образы русских людей. В сборнике рассказов «Расклюет нас воронье»
Жеромский одним из первых в польской литературе поднял тему-табу — тему январского восстания 1863 г. — кровоточащей раны польского патриотического сознания, затронув болезненные проблемы
польско-русских отношений. В романе «Канун весны» и публицистическом очерке «Снобизм и прогресс» Жеромский выразил сложное, до
сих пор являющееся предметом дискуссий отношение к Октябрьской
революции в России, оказавшей громадное влияние на судьбы всего
мира, в том числе Польши.
Жеромский в России никогда не был, контакты его с русскими
можно назвать скорее спорадическими. Но «присутствие России» в
языковом, политическом, культурном плане является неопровержимым фактом биографии и психологии писателя. Пример Жеромского,
на наш взгляд, демонстрирует то, что, хотя умножение знаний об истории, культуре, психологии другого народа, как правило, способствует преодолению стереотипов, на практике это происходит не всегда.
Так, Жеромский не выходит за границы польского канона-стереотипа
восприятия России и русских: «героизм несвободы» — «bohaterstwo
niewoli» Мицкевича. В статье-рецензии «Судья-обруситель» на роман
Покровского «Бледнов» дано негативное определение русского характера: «…этот первородный грех северного альтруизма: подсознательное примирение с неволей»6. Равнозначная мысль, но только другими
словами, выражена при характеристике подпоручика Весницына в
повести «Верная река»: он «знал, что ничто в нем не устоит… “повиновению”, которое веками внедряли в русскую душу на плахе, под
топором палача»7.
На наш взгляд, можно говорить не только о консервации, но даже
об усилении стереотипного мышления у Жеромского. Начиная с Мицкевича, складывается характерно польская традиция разделения и
противопоставления двух образов России: демократическо-республиканской и деспотическо-монархической. Автор единственной в России
монографии о Жеромском В. В. Витт характеризует видение писателем
России в русле этого «дуализма»: как «очень характерную для Жеромского способность отделять передовую Россию от царизма, от нена-
�С. Жеромский: имагологический аспект... 233
вистных насильников-“обрусителей”»8. Однако есть основания вновь
поставить вопрос, имеет ли место это разделение у Жеромского: исторически, по Жеромскому, в душу русского человека внедрено «подсознательное примирение с неволей», что Жеромский иллюстрирует, например, образами Ячменева («Сизифов труд»), Вилкина («Могильный
холм»), Весницына («Верная река»). В очерке «Снобизм и прогресс»
Жеромский утверждает, что латентной основой русской культуры является мессианизм, который, в отличие от польского, является мессианизмом огосударствленным: русским писателям, по его мнению, свойственно «полное энтузиазма слепое принятие государства российского
и всех его дел»9 — для дореволюционной литературы таким кумиром
было царское самодержавие, для послереволюционной (Блок, Есенин,
Маяковский) — большевистская «диктатура пролетариата».
Эти размышления хотелось бы проиллюстрировать одним примером — скрытым присутствием онегинского текста в романе Жеромского «Краса жизни». Оно подсказывает возможность пограничного
исследования между литературоведческой имагологией как теорией и
практикой изучения «картин чужого мира» в художественном тексте
и принципами интертекстуального анализа, исследующего разные
формы — явные и скрытые — присутствия «чужого слова» внутри
слова автора и — на конкретном примере — присутствия инонационального текста в тексте национальной литературы.
Для поиска цитатно-аллюзийно-реминисцентных созвучий и
диссонансов романа в стихах «Евгений Онегин» и первой части романа «Краса жизни» отправной точкой является само имя героини —
Татьяна, — святое для Пушкина («Впервые именем таким / Страницы нежные романа / Мы своевольно освятим»): носительница этого
имени — возвышенный женский образ, олицетворение нравственного
идеала в русской литературе и вместе с тем «русская душою».
Совпадение имен Татьяна Ларина — Татьяна Поленова может
быть вполне осознанным интертекстуальным приемом Жеромского,
о чем дополнительно свидетельствует онегинская цитата в романе
«Краса жизни», впрочем, не связанная ни с образом онегинской Татьяны, ни с образом Татьяны у Жеромского и к тому же намеренно
приведенная в пародийно-сниженной ситуации — сильно выпившими русскими офицерами в польском ресторане: «Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне» — «Okrągła,
głupia jak ten głupi księżyc na tym głupim nieboskłonie»10.
Пушкинская Татьяна олицетворяет «тип русской женщины» (по
Белинскому), тогда как смешанное происхождение Татьяны Поленовой, ее русско-грузинская кровь не позволяют безоговорочно отнести
�234 Леонид Мальцев
героиню к указанному «типу», хотя «национальность» для Жеромского в этом романе — не столько генетический код, сколько определенная система воспитания и образования, а также приобретенная
приверженность определенной национально-культурной традиции.
Текстуальные переклички с отдельными эпизодами «Евгения
Онегина» имеют сквозной характер: они указывают на частичное
сходство внешних ситуаций, в которых оказываются обе Татьяны, и
на их противоположное смысловое наполнение, а следовательно — на
коренное различие концепций двух женских образов.
Во-первых, бросается в глаза буквальное сходство характеристик онегинской Татьяны, принявшей все «приемы утеснительного
сана», в последней, восьмой, главе и Татьяны Жеромского в момент
ее первой встречи с Петром Розлуцким: сдержанность, безупречное
чувство меры, аристократизм. Например:
Пушкин
Жеромский
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgаr.
Но в этой барышне не было никакой
приобретенной сентиментальности,
никакой настроенности на известный и модный мотив, никакого снобизма. Она всегда была собой…
Кто б смел искать девчонки нежной
В сей величавой, в сей небрежной
Законодательнице зал?11
Во всем ее поведении была какая-то
частица пренебрежения, превосходства (над собеседником. — Л. М.),
скуки под маской вежливости, душой и красотой своей она бесконечно возвышалась над окружающим
(С. 48).
Во-вторых, обе героини проявляют инициативу завязки особых
отношений с героем, причем делают это сходным образом — отправляют письмо. Но если у Пушкина мы находим развернутый комментарий по поводу литературных достоинств письма и богатства оттенков
внутреннего мира отправительницы, то в соответствующем эпизоде
романа Жеромского удержана только внешняя, фактическая сторона,
в связи с литературным аспектом мы находим только отрицательную
констатацию: «Письмо было написано сухим стилем, близким к деловому, но так решительно и определенно, как будто это был один из
этапов давней и привычной корреспонденции» (С. 74).
Это один из диссонансов Жеромского по отношению к онегин-
�С. Жеромский: имагологический аспект... 235
скому тексту: образ его Татьяны складывается из двух компонентов —
ослепительная «античная» красота и пустота души, тогда как пушкинская Татьяна, напротив, при неброской красоте отличается умом
и богатством душевной жизни. Так у Жеромского по-новому срабатывает польский стереотип восприятия русского человека: «Глядишь
на них издали — ярки и чудны, / А в глубь их заглянешь — пусты и
безлюдны» (Мицкевич, «Дорога в Россию»).
В-третьих, и та, и другая Татьяна, желая разгадать загадку странного характера человека, в которого она влюблена, заглядывает в его
книги, только Татьяна Ларина делает это заочно, без ведома уехавшего из дома хозяина, а Татьяна Поленова — в присутствии Розлуцкого.
Но если Татьяна Ларина, вчитавшись в поэмы Байрона с пометками
Онегина12, наконец разгадывает эту загадку: Онегин — пародия, то
реакция Татьяны Поленовой, прочитавшей стихотворение Мицкевича, — злоба, агрессия, нетерпимость — в онегинском контексте абсолютно неожиданна и даже невероятна: «Она разорвала эту книгу поэзии и стала выдирать, комкать листы, плевать трижды, четырежды,
пятикратно в одно и то же место, в одни и те же стихи» (С. 174).
Отсутствие взаимопонимания и вызванный этим разрыв Татьяны
и Петра обусловлены именно национальным вопросом, русско-польской распрей: Татьяна Поленова не любит поляков, ненавидит их —
антипатия, совершенно неприложимая к пушкинской героине: трудно
представить Татьяну Ларину, испытывающую сильную неприязнь,
тем более ненависть к кому-то. Сознательно гиперболизируя эту Татьянину ненависть, Жеромский отходит от реалистического правдоподобия: Татьяна исповедуется в этой антипольской фобии перед
Петром Розлуцким, рассказывает об одном его соотечественнике —
презренном предателе, шпионе, доносчике, которого она… убила собственными руками. Здесь, как и в примере с поручиком Весницыным,
проявилась психологическая проблема Жеромского, неразрешимая
при конструировании полноценного образа русского героя, руки которого запятнаны польской кровью. Но если в «Верной реке», рассказывающей о подавлении восстания 1863 г., такой сюжетный ход вполне
оправдан и реалистически мотивирован, то в романе «Краса жизни»
он сам по себе эксцентричен, т. к. лишает образ героини некоего личностного «центра», делает ее неуравновешенной, неадекватной и даже
патологически опасной для общества.
В-четвертых, следствием скрытого присутствия онегинского
текста в тексте Жеромского являются расставание героя и героини
(при разных обстоятельствах — более драматических в «Красе жизни») и новые отношения героини с другим человеком: замужество в
�236 Леонид Мальцев
«Евгении Онегине» и помолвка с Рошовым в «Красе жизни». В произведении польского автора, построенном как система перекличек и
разногласий с «Евгением Онегиным», не отразился смысл отповеди
Татьяны Онегину, весьма полно выражаемый кантовским категорическим императивом. В пушкинском замысле образа Татьяны эта
отповедь, выслушав которую Онегин был «как громом поражен»,
играет роль принципиальную в создании противовеса байроновской конструкции женского образа, например, образа Юлии в «Дон
Жуане», которая выражается афоризмом: «В судьбе мужчин любовь
не основное, / Для женщины любовь и жизнь одно»13. Пушкинская
Татьяна представляет полемический ответ Байрону, тогда как образ
Татьяны у Жеромского воспроизводит смысл байроновского афоризма без остатка. Об этом свидетельствует последнее эксцентрическое
слово Жеромского в конструировании образа анти-Татьяны: прострелив себе живот, беременная героиня уходит из жизни.
Образ Татьяны Поленовой Жеромский создает не в конгениальном состязании с Пушкиным: не на высоте собственно пушкинского
замысла, а, видимо, исходя из известной посылки Белинского: «Но у
нас как-то все это клеится вместе: поэзия — и жизнь, любовь — и брак
по расчету, жизнь сердцем — и строгое исполнение внешних обязанностей, внутренне ежечасно нарушаемых… Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена в жизни сердца; любить — значит для нее
жить, а жертвовать — значит любить. Для этой роли создала природа
Татьяну; но общество пересоздало ее»14. Образ Татьяны Поленовой у
Жеромского, в целом, совпадает с толкованием образа пушкинской
Татьяны у Белинского: например, польский автор акцентирует момент
«испорченности» Татьяны ее «окружением» (С. 167).
«Но я другому отдана, / Я буду век ему верна» как знак этической
высоты Татьяны, с одной точки зрения, и проявление конформизма —
с другой, воспринимается Жеромским лишь с отрицательной стороны и, соотносясь с проблемой «типа русской женщины», упирается в
польский стереотип русского характера («подсознательное примирение с неволей»), но только взятый уже не в историко-политическом, а
психолого-бытовом ракурсе.
Образ Татьяны в романе «Краса жизни» ставит под вопрос устоявшееся представление о реализме Жеромского: так, Жеромский придерживается антимиметического принципа конструирования образа
Татьяны, не «отражая жизнь в формах жизни», а последовательно
воплощая польский романтический стереотип России и русских и
именно с этой целью привлекая систему онегинских цитат, аллюзий
и реминисценций.
�С. Жеромский: имагологический аспект... 237
Татьяна Жеромского — это не реалистический образ, не «тип
русской женщины», а символическое и в какой-то мере наднациональное воплощение «роковой любви» — наваждения Петра Розлуцкого, являющейся камнем преткновения на пути выполнения патриотического долга: следуя валленродистской этике, Петр «не находит
счастья в доме, потому что его не было в отечестве». Впрочем, и сам
Петр с его этикой патриотического самоотречения является камнем
(Петр — «камень», др.-греч.) — камнем преткновения для Татьяны,
подобно тому как несчастная любовь в «Верной реке» стала символическим камнем преткновения для Саломеи Брыницкой, которая
погибла внезапной смертью, действительно споткнувшись о камень.
Имагологическая проблематика польско-русских отношений,
рассмотренная на примере творчества Жеромского и, в частности, в
интертекстуальных аспектах романа «Краса жизни», емко выражается в поэтической формуле Георгия Иванова: «Друг друга отражают
зеркала, взаимно искажая отраженье». Эту универсальную формулу
В. А. Хорев распространил на всю историю представлений народов
друг о друге — адекватных и искривленных, многогранных и односторонних, глубоких и поверхностных. Что же касается Жеромского, то необходимость его нового прочтения обусловлена тем, что это
один из самых крупных польских писателей XIX — начала ХХ в., в
творчестве которого отразились разные грани и оттенки польского
восприятия России, русской культуры, русского человека.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
6
Хорев В. А. Польша и поляки глазами русских литераторов: Имагологические очерки. М., 2005. С. 8.
См.: Баранов А. И. Русская литература в «Дневниках» Стефана Жеромского // Советское славяноведение. 1986. № 2; Он же. Стефан Жеромский и Ф. М. Достоевский // Литературные связи славянских народов.
Л., 1988; Он же. Проблема польско-русских отношений в романе С. Жеромского «Сизифов труд» // На рубеже веков. М., 1989; Он же. Психологизм С. Жеромского (Жеромский и Л. Толстой) // Вестник Московского
университета. Сер. 9. Филология. 1990. № 3.
Handke R. Stefan Żeromski i Moskale // Światy Stefana Żeromskiego. Warszawa, 2005. S. 287, 290.
Ibid. S. 292.
Ibid. S. 294.
M. E. [Żeromski S.] Sędzia-«obrusitiel» // Nowa Reforma. 1892. № 88. R. 11. S. 2.
�238 Леонид Мальцев
7
8
9
10
11
12
13
14
Жеромский С. Верная река. М., 1963. С. 133.
Витт В. В. Стефан Жеромский. М., 1961. С. 12.
Żeromski S. Snobizm i postęp [Электронный ресурс]. URL: http://literat.
ug.edu.pl/snobizm/0003.htm.
Żeromski S. Pisma zebrane. 14. Uroda Życia. Warszawa, 1963. S. 143. Далее
цитируется по настоящему изданию с указанием страниц в круглых
скобках в тексте.
Пушкин А. С. Соч. В 3 т. М., 1986. Т. 2. С. 320, 325.
Кстати, имя Байрона появляется и в романе «Краса жизни» — тоже в
связи с загадкой личности главного героя. Гипотезу о байроническом
происхождении странного поведения Розлуцкого высказывает генерал
Поленов в разговоре с ним, однако последний отвечает почти по-лермонтовски: «нет, я не Байрон». Ср.: «Г-н генерал, Вы постоянно бросаете в меня слово “герой” как какое-то ругательство. Ну и пусть, да, я
герой. — Байроновский, или какой-то другой? — Какой-то другой… —
сказал Петр, глядя ему прямо в глаза» (С. 161).
Байрон Д. Г. Избр. произв. В 2 т. М., 1987. Т. 2. С. 325.
Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. М., 1984. С. 79–80.
�Ольга
Медведева-Нату
(Ванкувер)
О чем молчала Ивонна?
(Драма
Витольда Гомбровича
«Ивонна, принцесса
Бургунда»)
Введение
Витольд Гомбрович слывет трудным
автором. Своими текстами, интерпретация
которых нередко становится головоломной
задачей, он словно бросает вызов исследователю. Не является исключением и его первое
драматическое произведение «Ивонна, принцесса Бургунда». Необходимо отметить, что
оно подвергалось анализу значительно реже,
чем другие пьесы Гомбровича. Одни критики, следуя за сюжетом: монаршая семья и
придворные восстают против бедной — и
безмолвной — девушки, которую наследный
принц объявляет своей невестой, — прочитывали ее едва ли не как социальную драму (хотя и отраженную в «кривом зеркале»
гротеска) и находили относительно простой.
Других, вероятно, отпугивала пресловутая
сложность Гомбровича и «неудобоваримость» его произведения.
Однако «пристальное чтение» этой пьесы, ее «демонтаж» на составляющие «части и
частички» слов дает любопытные результаты.
Медведева-Нату Ольга Рах
миловна — кандидат филологических наук, Канада,
Ванкувер, независимый ис
следователь
Параллельность создания
«Ивонны, принцесса Бургунда»
и «Фердыдурке»
Для наших рассуждений значимым
является тот факт, что Гомбрович работал
�240 Ольга Медведева-Нату
над пьесой в 1934–1936 гг. (опубликована в 1938 г.), т. е. она создавалась
практически одновременно с самым известным произведением писателя — повестью «Фердыдурке» (опубликована в 1938 г.), в которой обрела имя — и весьма неконвенциональное — пара основных понятий его
философии: Форма и Незрелость. С известной долей упрощения можно
сказать, что Форма — это роли, навязанные человеку обществом, образ, в котором человек предстает перед другим человеком; Незрелость,
напротив, есть от природы свободная, спонтанная человеческая материя — сама по себе, до ее корректировки общественными нормами и
вне отражения в другом человеке. Эти не существующие по отдельности, находящиеся в непрерывном взаимодействии категории, соотносимые с интеракцией Я и Ты, и являются, по Гомбровичу, пространством человеческого существования, которое возведено им в категорию
Межчеловеческого. И хотя в «Ивонне», в отличие от «Фердыдурке», эти
важнейшие в авторской картине мира категории безымянны, они в ней
«слышны». По-видимому, мысль о Межчеловеческом, которая впоследствии станет неотъемлемым признаком всего его творчества, занимала
писателя уже в период создания им первой драмы.
Название драмы
Проанализируем название драмы «Ивонна, принцесса Бургунда» («Iwona, księżniczka Burgunda»). Подчеркнутый интерес к заголовку в данном случае вполне оправдан — общеизвестно, что в произведениях Гомбровича заглавия преднамеренно «остранены». И в
этой драме поначалу оно кажется не вполне прозрачным. Здесь необходимо отметить, что по-польски Burgund означает «бургонское (или
бургундское. — О. М.) вино», в то время как географический регион
в современной Франции или историческое герцогство Бургундское
именуется Burgundia1.
Читатель, конечно же, смущен словом Бургунд: еще не открыв
текст, он уже встречается с «темным местом», уже вопрошает автора, какое отношение к принцессе Ивонне имеет бургонское вино или
о какой стране тот толкует. Но Гомбровичу только того и надо, ведь
он всегда «планирует» свои произведения как игровые, провокационные — диалогические.
В отличие от абсурдистского заголовка «Фердыдурке», название
«Ивонна, принцесса Бургунда» кажется незамысловатым. Но зная
творчество писателя, справедливо предположить, что оно только прикидывается таковым — в нем наверняка скрыто нечто прихотливоe,
затейливоe, без чего тексты Гомбровича не являются сами собой.
�О чем молчала Ивонна?... 241
Бургунд и Бургундия. Универсальность и культурно-историческая аллюзия. Форма
Фигурирующий в заглавии драмы Бургунд (Burgund) неизбежно ассоциируется с Бургундией, страной, в истории которой заключена едва
ли не вся вертикаль европейской цивилизации и которая, что столь же
важно, является символом вершины европейской искушенности (знаменитый бургундский этикет, мода, гурманство, любовь к роскоши).
В контексте той философии, которую Гомбрович конструировал в 1930-е гг., его выбор следует признать безупречным: в истории
(во всяком случае, в европейской) вряд ли найдется другой столь же
классический пример доведенной до совершенства (или абсурда — в
зависимости от точки зрения) Формы или, согласно параллельной терминологии писателя, Зрелости, то есть крайней удаленности от естественности и вследствие этого — заката свободы.
Итак, по какой-то причине Гомбровичу важно и сохранить обобщенное географически-историческое представление о месте, где разыгрываются события (подчеркнем, именно разыгрываются, ибо его
философия облечена в костюм гротеска), и в то же время избежать
точной локализации, «играя» в несуществующую страну, в которой,
кстати, граждане, изъясняясь на «родном» польском языке, то и дело
вставляют другие «европейские» словечки: sex-appeal, garden party,
fraucymer и т. п. Судя по всему, писатель старается сохранить намек,
но отвлечь читателя от конкретно-исторических ассоциаций и сосредоточить его внимание на проблематике онтологической, чтобы передать ему таким образом некое универсальное послание.
Очевидно также, что в названии пьесы заложена неизменная в творчестве Гомбровича пародийность: трагическое оборачивается комическим,
серьезное подвергается насмешке. В «Ивонне», если включить интертекстуальные связи, более или менее явно пародируется как сакральное, так и
профанное: например, Шекспир и Мольер (шекспировское противопоставление персонажей по принципу изоляции или интеграции в среде, «кровавый» финал; мольеровский незаменимый слуга становится персонажем, в
услугах которого никто не нуждается — сколько бы раз он ни появился на
сцене, его неизменно выдворяют) — или трафаретность, ходульность, вампука оперных и опереточных либретто. Впрочем, в драме заметны пародийные «ссылки» не только на литературные тексты, но и на исторические
и бытовые реалии. Только пара примеров: Король готов отправить посла
Бургунда во Францию не во фраке и не в мундире, а нагишом — и это при
бургундском-то отношении к туалетам, а на пир в королевском дворце подают карася — не самое изысканное блюдо бургундской кухни.
�242 Ольга Медведева-Нату
Кроме того, читателю предстоит обнаружить, что в названии
драмы скрыта своего рода апория (наряду с парадоксом — излюбленный прием Гомбровича): внешне правдоподобная ситуация оказывается невозможной: Ивонна, принцесса Бургунда — вовсе не принцесса.
Такая перевернутость того, что в реальности, в реальной общественной иерархии принято считать высшим достоинством, высшей
ценностью, передана в драме обесцененным словом. В отсутствие социальных и психологических «реквизитов» персонажей — их позиция в обществе названа, но они существуют как бы вне социальной
инфраструктуры, их чувства декларируются, но не переживаются —
назвать эти гротескные фигуры героями было бы большим преувеличением: слово становится главным, если не единственным, средством
их характеристики.
Персонажи то неуместно высокопарны, то варварски косноязычны. Их язык, словно кафтан не по размеру, то слишком тесен, то мешковат: то примитивен, то излишне пространен. При этом Король не
раз говорит как простак, а Нищий изъясняется как подобает Королю.
Речь персонажей изобилует более или менее однородными эпитетами, например, следующие один за другим: «[в улыбке Ивонны было
бы нечто] поддразнивающее, раздражающее, нервирующее, возбуждающее, провоцирующее», «[с Ивонной можно быть] идиотским, скверным, глупым, страшным, циничным»2. В ней нагромождаются слова,
обозначающие сходные по смыслу действия: «Ухожу, уплываю, отстраняюсь, отдаляюсь, разрываю с тобой [отношения]!»3 В ней часты односложные, а также звукоподражательные слова (поддакивание, отнекивание; из реплики Короля: «ты… это... того...», цуцу, муму и др.)4; весь
возможный набор восклицаний (оо, аа, ба, ну-ну, но-но и т. п.). В ней
слышатся вздохи, шипение, бормотание, причмокивание… Такая речь
нуждается в подпорках. Отсюда — избыточная жестикуляция персонажей, их бесчисленные ужимки и мины, смешки, хихиканье…
Кажется, «бургунды» заполняют пространство звуками, но оно
остается порожним. Многочисленные эхообразные повторы («Королева: Какой чудесный закат! Камергер: Чудесный, Ваше Величество!»; «Королева: Такое зрелище облагораживает человека. Камергер: Облагораживает, несомненно»), «хоровые» и «ансамблевые» реплики придворных или теток [Ивонны]: «Аааа!; Что? Что?»), «парадигматические» повторы (Тетка нападает на Ивонну: «Вчера на тебя
никто не обратил внимания. Сегодня на тебя тоже никто не обратил
внимания. Завтра тоже никто не обратит на тебя внимания»; Королева набрасывается на сына: «Филипп, в какое положение ты ее ставишь? Нас в какое положение ставишь? Себя в какое положение ста-
�О чем молчала Ивонна?... 243
вишь?»), тавтологии («масло масляное», «глупая глупость»)5 — все
это тормозит действие.
Мысль персонажей топчется на месте, обнаруживая свою беспомощность. Их реплики соединяются чисто механически и не поддерживают друг друга. Они не достигают подлинного диалога. Им явно
не хватает того Слова, которое делает человека Человеком.
Ивонна. Форма. Бес-Форменность. Незрелость. Зелень
Деградированная речь персонажей натыкается на бессловесность заглавной героини. Ивонна не «облечена в слова» — она молчит
на протяжении почти всей драмы6.
Монаршая семья и придворные напрасно добиваются того, чтобы она заговорила и заговорила с ними в унисон, а если уж молчала,
то хотя бы улыбалась и кланялась — как положено при дворе и среди
людей. Но ее редкие реплики чаще всего «безразличны» и, в отличие
от других персонажей, вообще диалогически не отмечены. Оцепенелая Ивонна произносит их в пустоту.
Отношения Ивонны и Бургунда исполнены драматизма: юная избранница наследного принца мало того что простолюдинка (тогда как
должна быть аристократкой), еще и безмолвна (тогда как должна быть
красноречива), уродлива (тогда как должна быть красавицей), сопротивляется дворцовым порядкам (тогда как должна их принять) — понятно,
что при дворе ей нет места. Против нее готовят заговор. Но потому ли,
что она не может освоиться с дворцовым этикетом? Вряд ли — овладеть
им всего лишь вопрос времени. Может быть, дело в том, что — как пишет Гомбрович в комментарии к драме — «молчание, дикость, робость,
беспомощность Ивонны ставит королевскую семью в трудное положение. Ее биологическая декомпозиция порождает у всех опасные ассоциации, наталкивает каждого на мысль о его собственных или чужих физических и духовных пороках»?7 Однако нельзя забывать, что комментарий
Гомбровича сам нуждается в комментировании — похоже, что по своему
обыкновению автор и здесь вводит читателя в заблуждение, провоцируя
его думать самостоятельно, под свою ответственность. Что он подразумевает под «биологической декомпозицией» Ивонны? Скорее всего, ее
естественность, нескладность, несобранность ее структуры, отсутствие
у нее Формы — и тогда, если она что-то и напоминает всем при дворе,
то не столько их собственные грехи и грешки, сколько то, что за ними
скрыто, — их естество, глубоко спрятанное под многослойной Формой.
Несомненно, заглавная героиня — антипод всех других действующих лиц.
�244 Ольга Медведева-Нату
Но что стоит за ее молчанием, или еще точнее: чему она противостоит в своем молчании? Молчит, словно ребенок, который еще не
научился говорить? Молчит, потому что не хочет играть в принятые
среди людей игры?
Пожалуй, все гораздо драматичнее: там, где властвует Форма, воплощением которой, как уже было сказано, является Бургунд, нет места
безобразной, неоформленной, бесформенной Ивонне. Неслучайно в высшей степени «формальные» «бургунды», не видя, не нащупывая в Ивонне Формы, называют ее маслом масляным, чучелом, анемией, растяпой,
неряхой, тщедушной, хилой, плаксой, мокрой курицей и т. п., сравнивают ее с глистой или червем, которого тем, кто находится «по другую
сторону», в пространстве Формы, так и хочется раздавить. (А если не побояться смелого предположения, возможно, чрезмерно смелого, и представить себе, что «играющий» Гомбрович подспудно сравнивает Ивонну
с моллюском — с прославленной бургундской улиткой?) Но чаще всего
«бургунды» используют в отношении Ивонны прозвище Чимчиримчи
(Cimcirymci), что ассоциируется с чем-то неопределенным, без хребта,
опоры, каркаса, без четких очертаний8. Не остается сомнений, что таким
образом автор описывает вялое, нерасторопное, медлительное, нерешительное существо, иначе говоря, размазню, рохлю, мямлю.
В комментарии издателя драмы (1988) читаем: «Вместе с неуклюжей Ивонной в королевский двор проникают хаос и бесформенность,
что грозит крушением извечного порядка…»9 Все это так, однако, на
наш взгляд, Ивонна не бунтарка, которая выбивается из Формы, взламывает или даже взрывает ее — она попросту не имеет Формы. Иначе
говоря, она и есть Незрелость!
Более того, как и название страны, где живет Ивонна, имя несостоявшейся принцессы выбрано Гомбровичем не случайно. И не потому, что среди бургундских герцогинь и в самом деле были Ивонны,
и не потому, что это довольно распространенное в Бургундии имя, а
потому, что оно — говорящее10. Французское имя героини происходит от индоевропейского iwa и означает «тис» — вечнозеленое дерево,
зеленицу. Мы помним, что Гомбрович имел обыкновение расширять
свой необычный терминологический словарь за счет сходных по значению слов. Незрелость в его словаре — это и Зелень. Следовательно,
юная, «зеленая» Ивонна и есть персонификация Незрелости.
Форм а и Н е з ре ло с т ь — за м к н у т ы й к ру г
По сюжету король и его свита организовывают «смешную»,
«низкую» смерть Ивонны: она погибает, подавившись рыбной костью
�О чем молчала Ивонна?... 245
на пиру, устроенном в ее честь. Вот тут-то, в трагикомическом финале
драмы, гостям, наверное, и подают бургонское (возможно, в немалом
количестве — захмелевшему Королю и его свите будет проще осуществить преступный замысел) и карася — не самое изысканное блюдо
в бургундской кухне.
Ивонну убивают. Однако нетерпеливые придворные напрасно
поторопились: Ивонна не представляет для них угрозы, ведь чуть
раньше или чуть позже она и без насилия превратилась бы в Форму,
как «оформился» ее поначалу бунтующий, а затем сомневающийся жених, которого все-таки заставили встать на колени. В том-то и
заключается нелепость (а не трагичность) убийства Ивонны, что это
преступление — бессмысленное и бесполезное. Убийство Ивонны
здесь — акт не аморальный, а экзистенциальный. Он символизирует
Отношения между людьми: Форма постоянно поглощает Незрелость,
а Незрелость, превращаясь в Зрелость, обновляет, подпитывает Форму. Они попросту не существуют друг без друга, как не существует
один человек без другого, вне отражения в другом, и нет в их нерасторжимой связи, в их взаимозависимости, ни начала, ни конца. Иначе
говоря, Форма и Незрелость представляют собой замкнутый круг.
Молчаливая Ивонна это прекрасно понимает — о том и молчит.
Она знает пронзительную истину о неизбежности этих отношений,
о которых другие персонажи либо догадываются, но гонят подобные
мысли прочь, либо вообще не отдают себе отчета в проиходящем. В
отличие от бессмысленной речи ее губителей, молчание Ивонны —
осмысленно, может быть, даже глубокомысленно. Неслучайно, изредка его нарушая — и на фоне молчания произнесенное слово становится важным событием, — она обреченно и упорно повторяет: «[Ходят и
ходят] по кругу <…> так по кругу, все всегда, вся всегда». Повторенное
Ивонной и другими персонажами драмы множество раз, то многозначительно, то, казалось бы, совершенно некстати и без видимой цели,
это слово обретает своего рода автономию — на него невозможно не
обратить внимания, как невозможно не попытаться его расшифровать.
Приведем примеры:
«Принц: <…> Почему так? Почему вы стали козлом, простите,
козой отпущения? Просто потому, что так получилось?
Ивонна (тихо): Так, по кругу. По кругу.
Кирилл: По кругу?
Принц: Как это — по кругу? <…> По кругу?
Ивонна: Так по кругу, все и вся, всегда, всегда… Так всегда.
Принц: По кругу? По кругу? Почему — по кругу? В этом есть
что-то мистическое. А-а-а, кажется, понимаю. Здесь есть круг, в неко-
�246 Ольга Медведева-Нату
тором роде. Например, почему она такая сонная? Потому что не в настроении. А почему не в настроении? Потому что сонная. Понимаешь
теперь, что это за круг? Это круг ада!
<…>
Принц: Здесь какая-то адская комбинация. Какая-то особая адская диалектика. Не скажешь, что она не понимает, что говорит. Видно, что понимает, хотя и молчит, как могила. Замкнутая система, перпетуум мобиле — будто кто-то привязал к столбу собаку и кошку:
собака гонится за кошкой, а кошка гонится за собакой, обе в страхе,
и все и вся без конца бешено несутся по кругу; а вне круга — будто
ничего и не происходит»11.
Заметим, круг — это символ и замкнутого пространства (замкнутый круг, порочный круг, circulus vitiosus), и цикличности, и вечности
(все возвращается на круги своя). Трудно вообразить более простой и
более убедительный образ, в котором все всегда и везде «приговорены» к Oтношениям.
Слово kółko «круг» («мистический», как его определяет Принц) —
безусловно, опорное в драме. Идея круга, отражающая замкнутую и бесконечно повторяющуюся ситуацию, мастерски реализована Гомбровичем на всех уровнях произведения. В его лексике и фразеологии — круг и
производные от него слова, выражение «powtarzac w kółko» — твердить
одно и то же, повторять без конца. В симметричной, парной, замкнутой
друг на друге структуре реплик, создающих зримое ощущение кольца,
как, например: «Да благословит Всевышний светлейшего Короля, а светлейший Король да благословит Всевышнего» или «Не разглядывай меня,
не то я начну разглядывать меня», «Каждый займет место согласно своему достоинству, и пусть верхи теснят низы, а низы теснят верхи», «Если
бы она [Ивонна] была поживее, кровь быстрее бы потекла в ее жилах, а
если бы кровь быстрее потекла в ее жилах, она стала бы поживее», «Почему вы напуганы? Потому что робки. А почему робки? Потому что немного напуганы», «Один с другим и одна с другой шепчут что-то на ухо
и хихикают»12. В повторах и тавтологиях, о которых уже шла речь выше.
«Круговой» мысли писателя соответствует и архитектоника драмы: сюжетная схема, побочные линии, мотивы — обручение Ивонны и Принца, которое предполагает обмен кольцами (кольцо — аналог замкнутого
круга); Королева «танцует» во-круг Ивонны, делая вид, что хочет быть
ей настоящей матерью; Король круг за кругом обходит парк, братаясь с
народом в день национального праздника; Принц возвращается к своей
бывшей возлюбленной Изе, его бунт против Формы угасает, и в финале
он встает перед ней на колени (все возвращается на круги своя), придворные, связанные круговой порукой — своими прошлыми утаиваемыми
�О чем молчала Ивонна?... 247
связями и новым заговором — ходят во-круг Ивонны, готовя план уничтожения (вонзить нож в горло, отравить, подставить стул, о который она
запнется, подложить косточку, чтобы она поскользнулась, и т. п.), наконец, убийство — преступное, насильственное поглощение Незрелости
Формой. Круг не разомкнут.
Таким образом, вся драма, от ее центра до периферии, построена
как постепенно разворачивающаяся метафора круга, кольца, колеса,
круговорота, коловращения — чего-то, что бесконечно повторяется в
пространстве и во времени.
В духе Гомбровича можно было бы сказать, что идея (замкнутого) круга расходится в драме концентрическими кругами. По той
же причине она едва ли не гипнотически воздействует на читателя, у
которого от этой «круговерти» начинает «кружиться» голова.
Собственно, вся драма и есть притча о круге, о нерасторжимости Ивонны и Бургунда, Формы и Зелени и — о Межчеловеческом.
Философская притча, какую обычно пишут со всей серьезностью и
«для бумаги» и которую Гомбрович разыгрывает как фарс, почти как
анекдот — на сцене.
Вы вод ы
При таком прочтении ставшее притчей во языцех, озадачивающее
название драмы оказывается ключом к ее разгадке — и как весьма сложного философского экзерсиса, и как легкого, ветром подбитого образца
литературно-театральной игры. Такое прочтение убеждает: в «Ивонне,
принцессе Бургунда» есть элементы искусно зашифрованные, но в ней
нет элементов случайных — и никакой бессмыслицы. В дальнейшем метафизика Гомбровича, сложившаяся в первое десятилетие его творчества,
становилась все более разработанной и разветвленной, то более противоречивой, то более последовательной. Идее же Межчеловеческого писатель
оставался верен до самого конца — до последней записи в «Дневнике».
П ри меч а н и я
1
Именно так — «Ивонна, принцесса Бургунда», ближе к оригинальному
звучанию — мы предпочитаем переводить название этого произведения. В
двух известных нам переводах драмы на русский язык слово Бургунд либо
просто отсекается («Ивонна». Пер. С. А. Бунтмана. Рукопись), либо некий
абстрактный Бургунд превращается историческую Бургундию («Ивонна,
принцесса Бургундская». Пер. Л. С. Бухова // Современная драматургия.
1996. № 1). Трудным орешком заглавие оказывается и для переводчиков на
�248 Ольга Медведева-Нату
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
другие языки: на английском драма существует под названием «Princess
Ivona» (пер. K. Griffith Jones, 1969), на французском — «Yvonne, Princess
de Bourgogne» (пер. K. Jeleński, Geneviève Serreaus, 1965), где Bourgogne —
это и марка вина, и название региона, т. е. иначе, чем в оригинале, хотя
переводчики работали в сотрудничестве с автором. Известно, что как раз в
это время — видимо, понимая невозможность сохранения во французском
переводе словесной игры названия, — Гомбрович предполагал изменить
название пьесы на «Ивонна, принцесса Анемия», однако затем от этой
идеи отказался. В свою очередь, на немецком языке название драмы звучит как «Yvonne, die Burgunderprinzessin» (пер. H. Kunstman, 1982), причем
по-немецки регион называется Burgund, а вино — Burgunder, т. е. учтены
и основное, и дополнительное значения. Так или иначе, пренебрежение к
«странности» названия не раз оборачивается тем, что драма оказывается
неразгаданной, в том числе и ее постановщиками на сцене.
Gombrowicz W. Iwona, księżniczka Burgunda // Dramaty. Dzieła. Kraków,
1988. T. 6. S. 27, 56.
Ibid. S. 58.
Ibid. S. 49.
Ibid. S. 7, 8, 10, 76, 12, 18, 69.
Любопытно, что, готовя пьесу к публикации в Польше в 1958 г., автор
сократил реплики Ивонны до семи по сравнению с первым изданием
драмы, опубликованным в журнале «Скамандр» (1938, XCIII–XCV,
XCVI–XCVIII) — первоначально обращений к Ивонне было более сорока; часто по одному слову в каждой реплике. А в 1968 г., сотрудничая
с переводчиками драмы на французский язык, произвел новые радикальные сокращения, сведя на нет реплики заглавной героини и снабдив ее каждое появление ремаркой: «Она молчит».
Gombrowicz W. Op. cit. S. 325.
В переводе Л. Бухова Cimcirymci становится тривиальной «уродиной».
С. Бунтман называет Cimcirymci «размазней» — этот перевод представляется более точным. Возможно, он был подсказан французским переводом «Ивонны», который, как уже говорилось, «контролировал» сам
Гомбрович. Поясним, что С. Бунтман переводил драму с авторизованного французского перевода.
Автор комментария — Е. Яжембский (Gombrowicz W. Op. cit. S. 322).
Тот факт, что имя заглавной героини поддается расшифровке, подтверждают и другие имена персонажей драмы.
Gombrowicz W. Op. cit. S. 26, 27.
Ibid. S. 8, 54, 83, 14, 43, 27.
�Виктория Мочалова
(Москва)
Польский Гораций
в
московской тюрьме
Счастье заключает
в себе все блага.
Себастьян Петриций
Мочалова Виктория Валентиновна — кандидат филологических наук, Россия,
Москва, Институт славяноведения РАН
Среди множества поляков, оказавшихся в Московском государстве в период Смуты, — прежде всего, военных, но
также и дипломатов, членов свиты королевского посольства и Мнишеков, направлявшихся на свадьбу и коронацию
Марины, искателей приключений и наживы — встречались и весьма неожиданные личности, как, например, Себастьян
Петриций (Sebastianus Petricius Pilznanus,
1554–1626), философ, выпускник Краковской Академии, преподаватель поэтики
и риторики, переводчик и комментатор
Аристотеля, автор ряда трудов из области
медицины1, врач с дипломом Падуанского университета (1590), услугами которого пользовались представители польской
элиты — краковский кардинал Бернард
Мачеёвский и родственное ему семейство
Мнишеков, а также Олесницкие, Любомирские и др.
На первый взгляд кажется затруднительным понять, почему, с какой целью
этот философ, профессор, врач и поэт, к
тому времени уже далеко не юноша (52 лет
от роду), направился в 1606 г. в Москву в
свите Мнишеков2 (существуют и предположения о его включении в возглавляемое
Миколаем Олесницким и Александром
Корвином Госевским польское посольство3, призванное представлять королев-
�250 Виктория Мочалова
скую особу на свадьбе Марины Мнишек и Лжедимитрия I). Однако
объяснение этого странного поступка, им самим впоследствии оценивавшегося как «легкомысленный»4, можно найти в его собственных
текстах, написанных уже после кровавой развязки того акта исторической драмы, в котором он оказался замешан.
В московском заключении, где после убийства Лжедимитрия I
и нескольких сотен поляков Петриций вместе со своими товарищами
провел полтора года (май 1606 — сентябрь 1607 г.), он занимается переводами-парафразами од Горация — «Гораций Флакк в тяготах московской тюрьмы»5. Этот изданный уже по возвращении Петриция в Краков труд стал первым на польском языке наиболее полным переводом
четырех книг од (ранее свои переводы и парафразы Горация создавал
Кохановский, не ставивший перед собой такой масштабной задачи6).
Хронист Ст. Кобежицкий ссылается на Петриция и как на автора
«Московской истории»7, приводя его скептические оценки войска Лжедмитрия как плохо организованного формирования, не уверенного в
вознаграждении за свои труды, а по этой причине — недисциплинированного, не подчиняющегося руководству, лишенного какой бы то
ни было военной выправки, плохо вооруженного, действующего под
командованием неотесанных и не владеющих военным искусством
людей8. Хотя новейшая библиография упоминает авторство Петриция как сомнительное9, вполне вероятно, что ему принадлежал и этот
труд, т. к., судя по его письму, написанному уже после освобождения
из тюрьмы (датированному 16 сентября 1607 г.) Миколаю Кшиштофу
Радзивиллу по прозвищу Сиротка, которому была посвящена и ода
(III: 29, оригинал Горация обращен к Меценату), он в Москве писал
не только оды, но и вел дневник: «Я послал бы Вашему Сиятельству
свой дневник обо всех тех событиях, но я вынужден был оставить его
в Москве, опасаясь, как бы его у меня не нашли и не отняли»10. Возможно, редактируя и готовя к печати после своего возвращения на родину «Горация Флакка в тяготах московской тюрьмы», Петриций мог
хотя бы частично восстановить по памяти свои дневниковые записи и
издать на их основе «Московскую историю»11, однако эта тема лежит
за пределами данной статьи.
В посвящении своего «родившегося в Москве в болях и тяготах»
переводческого труда сыновьям Ежи Мнишека — Миколаю и Сигизмунду — Петриций объясняет свое («слуги Вашего дома») присутствие в «злосчастной Москве» необходимостью исполнять свои профессиональные врачебные обязанности «по соизволению» их отца,
Ежи Мнишека12 (очевидно, Петриций оказывал медицинские услуги
всем членам семьи, включая и зятя Мнишека, Лжедимитрия I13).
�Польский Гораций в московской тюрьме 251
В обращении «К читателю» Петриций излагает свои мотивы еще
более прямо, хотя — как пристало философу — и не без этического
дискурса о двойственности жизни — телесной и душевной. Обе эти
стороны жизни требуют большого труда: в первом случае он необходим для пропитания, обеспечения своего благополучного существования, во втором — для совершения добра людям, ибо поистине
живет лишь тот, кто своими добрыми поступками оставляет по себе
благую память. Некоторые люди, унаследовавшие (в отличие от автора) состояние своих предков, тем самым уже обладают «сосудом» —
источником, основой для добрых поступков, т. е. душевной жизни. «За
этим сосудом поехал я в Москву, где, желая обрести некую основу для
второй [стороны] жизни, больше потерял»14.
Однако философ и поэт в тягостных обстоятельствах своей судьбы, совершенно неожиданно переменившихся («Я жил там полтора
года… если неволя — это жизнь… Приглашенные на свадьбу, мы радостно поехали, но оказались в неволе, запертые в домах; слышать об
этом больно, а еще тяжелее в этом оказаться»), не утратил главного
(«не перестал жить душевной жизнью»), не отступил от своих представлений об идеальном vir bonus (среди добродетелей которого —
мужество и благородство, воздержанность и щедрость, достоинство
и честь, изысканность и прямота, стыдливость и ловкость, человечность и справедливость — nemesis, но также и способность ценить
счастье)15 и не забыл уроков Горация («победа над человеческим несчастьем — в мудрости»).
Уже в обширном заглавии своего поэтического труда Петриций
отмечает, что он создавался «для утоления печали», возникал в результате не столько предварительно сложившегося замысла, сколько
от «тоски неволи»: «В таком несчастье — как было жить, что можно
было сделать хорошего? Раз не было места врачебным обязанностям, я
обратился к прежним наукам, пригодным для утешения во всяческих
несчастьях»16. Таков экзистенциальный жест поэта-заключенного —
обратиться к вечным ценностям, превосходящим несчастья бренной
жизни и превратности переменчивой судьбы, и тем самым их преодолеть. Однако это не означает их забвения, отстраненности: поэт, как
бы возносясь на горацианские поэтические вершины, никоим образом
не пренебрегает современной исторической реальностью, не покидает
круга непосредственно происходящих событий и близких ему лиц.
Вольность «переводческой» стратегии Петриция представляется
весьма радикальной, хотя относительно господствовавших в литературе его времени норм она не выглядит исключением. В его переработках
оды Горация «полонизируются» — отнюдь не только в языковом аспек-
�252 Виктория Мочалова
те: они помещаются в контекст исторических и современных событий в
Речи Посполитой (войны, рокоши), переполняются реальными лицами,
потеснившими античных персонажей Горация — польскими королями
(Казимир Великий — I: 12, Владислав II Ягелло — I: 12, III: 13, Ядвига
— I: 12, Стефан Баторий — I: 12, III: 28, Сигизмунд III — I: 12, Владислав IV — III: 5 и др.), военачальниками (Станислав Жулкевский — I: 2,
III: 14, Ян Кароль Ходкевич — I: 2, IV: 4, Лев Сапега — I: 6, Александр
Корвин Госевский — II: 10 и др.), духовными лицами (кардинал Бернард
Мачеёвский — I: 1, 4, 20; V: 1), шляхтичами, спутниками в московском
походе и товарищами по несчастью (Ежи и Марина Мнишек, Миколай
Олесницкий, Каспар Мачеёвский, Миколай Коморовский, Петр Борковский, Павел Пальчовский, Гжегож Бродовский и др.), которым он
дает и ободряющие советы о правильном поведении в заточении (II: 10);
мифическими персонажами (Лех), польскими топонимами (Краков, Вавель, Висла и др.). Однако, обращая «польские версии од к современным ему адресатам, поэт следит за тем, чтобы их значение в реальном
мире (или в изображаемом мире, когда речь идет о типичных, фиктивных, высоких или низких фигурах) было, по крайней мере, приближено
к функции и значению лиц, выступающих у Горация, хотя это, разумеется, совершенно иные лица (иначе и не могло быть, если произведение
«омосковленного» Горация должно было быть связано с действительностью польского «здесь и теперь»)17.
Если это и Гораций, то преимущественно «польский», намеренно переписанный на польский лад, переодетый в польское платье,
дышащий польским духом, переложенный на язык польской поэзии
(например, здесь присутствуют рифмы, отсутствующие в оригинале),
а не просто переведенный на польский язык18.
Сам Петриций предваряет книгу соответствующим уведомлением: «Вот изложение Горация, его порядку я следую всегда, а словам
и содержанию — не всегда», призывая самого читателя сравнивать
«то содержание с нашим, латинское с польским» и признаваясь, что
в стремлении привлечь его, «удержать при чтении», он умышленно «превращал чужое в свое», «что было твердого — смягчил», «из
чужого сада прикладывал лекарства, какие только мог придумать, к
своим тяготам»19. При этом представляется существенным, что и это
«свое» обретает здесь иное измерение, очевидную «нобилитацию»,
будучи переложенным на коды античной культуры.
Следует отметить, что польский поэт в своей тактике парафразы
как бы следует по стопам латинского, стремившегося переложить сокровища греческой поэзии на свой язык, «перелить эолийский напев в
песнь италийскую» (пер. А. П. Семенова-Тян-Шанского) и ставившего
�Польский Гораций в московской тюрьме 253
это себе в «памятную заслугу» в знаменитой 30-й оде III книги «К
Мельпомене», хорошо известной русскому читателю по переложениям в державинском и пушкинском «Памятниках». И польский поэт,
подобно латинскому, основывает на этом своем труде приобщения
родной поэзии к высоким образцам («я нечто вязал в снопы польского
языка») свою надежду на бессмертную славу: «Non omnis moriar» —
«Nie wszystek umrę» («не весь я умру!»)20. Петриций смело заменяет в
этой оде римские реалии оригинала на отечественные: вместо храма
Капитолия у него появляется Вавель, вместо жреца — правитель ляхов, вместо Ауфида — Висла, Днепр, Одер и Дон, вдоль берегов которых польские уста не забудут произносить его стихи.
Весьма значима, хотя и совершенно иначе освещается, и «московская» тема, прямо заявленная и в самом заглавии произведения, и
в предваряющей авторской характеристике — «омосковленный Гораций». Она присутствует в названии21 уже второй оды (первая ода, разумеется, посвящена покровителю поэта, кардиналу Мачеёвскому —
вместо Мецената у Горация) книги I — «К Москве» («Do Moskwy»).
Здесь сохраняется горацианская атмосфера потопа, но место Тибра занимают вышедшие из берегов реки Москва и Яуза («Widziemy Moskwę
popędliwym biegiem / I Jauzę lejąc wysoko nad brzegiem, / Jakoby miała
to miasto wywrócić, W niwecz obrócić»), как бы несущие городу кару,
неотвратимую месть за кровавые преступления («Jakby na wasz mord
wielce narzekała / I krwie niewinnej niemal mścić się miała, / Przecie was
pewna, gdy tak wściekło płynie, / Pomsta nie minie»). Гражданская война в оде Горация, вызывающая гнев римских богов, предстает уже
польско-московской войной между «своими», братьями по крови и во
Христе, призванными тупить свои сабли не друг о друга, но о турок
(«Więc szable wasze we krwi swych zmoczone, / Które miały byc o Turki
stępione»), и в памяти потомков, если они вообще останутся, эта братоубийственная война не может быть высоко оценена («Jakie będą mieć
od potomków zdanie, / Jeśli ich sstanie?»)22. В отличие от Горация, Петриций видит спасителей и мстителей не в Августе, Меркурии, Аполлоне,
но в овеянном победами коронном гетмане Станиславе Жулкевском
(ему посвящены также оды I: 2, 41; III: 3, 14) и «призванном Марсом»
литовском гетмане Яне Кароле Ходкевиче (см. также I: 42; IV: 4).
Оды Горация в переложении Петриция наполняются непосредственно наблюдаемыми им «московскими» реалиями, людьми и
событиями — среди них, разумеется, и убийство Лжедимитрия I,
которого поэт считает легитимным правителем, преданным изменниками, и трагедия его польских сторонников, погибших или заключенных в тюрьмы:
�254 Виктория Мочалова
Moskwicin zdrajca. Mniszchów
na wesele
wezwawszy, ludzi naszych pobił
wiele;
ostatek z Polski, co snadź więcej
boli,
chował w niewoli.
Zabiwszy pana, co mu przysięgali,
przy nim niewinne goście mordowali,
carową, którą za panią przyjęli,
w więzienie wzięli (I: 12, 77–84).
Москвитин предатель. Мнишеков
на свадьбу
призвав, много наших людей побил;
остальных из Польши, что еще
больнее,
заключил в неволю.
Убив властителя, которому присягали, при нем невинных гостей
убивали,
царицу, которую приняли как властительницу, посадили в тюрьму.
Горацианская ода, обращенная к «кораблю республики» накануне крушения («O navis, referent in mare te novi», I: 14) превращается у
Петриция в предсказание крушения «российского корабля» в результате неминуемой мести «убиенного Дмитрия», который устанавливает на дне подводный камень. Таким образом, предательство, измена
законно избранному царю и его убийство предстают в этой оде Петриция предвестием гибели московского государства, допустившего такое беззаконие. Радикализм переработки Петриция очевиден здесь не
только в замене римских реалий на московские или в использовании
рифм (это отличие касается всех его переложений), но и в изменении
количества стихов оригинала (у Горация их 20, у Петриция — 48).
То же относится и к представленному в оде «Pustor cum traheret
per freta navibus» (I: 15) Горация предостережению Нерея Парису о
гибели Трои за похищение Елены: под пером Петриция оно превращается в (превосходящее по объему на 9 стихов) предсказание Аполлона
о будущей гибели «Москвы» за убийство легитимного царя и заключение царицы в тюрьму:
Ach, ach, jaki znój z ludzi, jako z koni
płynie,
jak się krwie wielka powódź po tej
ziemi linie!
Już gniew swój na was okrutny gotuje
Mars, już szyszaki, już zbroje hecuje
Ах, ах, какой жаркий пот течет с
людей, как с коней,
какое кровавое половодье льется
по этой земле!
Уже направляет на вас свой
страшный гнев
Марс, уже шлемы, уже латы
готовит
�Польский Гораций в московской тюрьме 255
Началом осуществления страшного предсказания, согласно Петрицию, становятся вести — видимо, долетевшие и до места его заключения — о Лжедимитрии II и восстании Болотникова (и если московиты не ждут нападения от поляков, от польского короля, то вот
уже их собственные «честные, неустрашимые сыны» идут на «злых
изменников»):
Sam Dymitr wasz, którego na świecie
nie zstaje,
na waszę pewną zgubę, słychać, z
martwych wstaje.
Jeśli on dwakroć od was nieubity,
prędko moc wasza musi puścic nity.
Ach, ach, jak wiele trupów wkoło
miasta leżą,
Ach, jeszcze więtsze wojska przeciwko
wam bieżą!
Wasz, wasz przeciwko wam idzie
Błotny,
hetman nowego wojska ochotny.
Сам ваш Дмитрий, которого нет
на свете,
на вашу верную погибель встает
из мертвых.
Если он дважды вами не убит, то
скоро ваша мощь падет.
Ах, ах, как много трупов лежит
возле города,
Ах, еще больше войска идет
против вас!
Ваш, ваш идет на вас Болотный,
бравый гетман нового войска.
Помимо исторических реалий, исследователи отмечали и присутствие в одах Петриция русских лексем (bojar, bojarka, czerniec,
czolobitnia, hospodar, pohaniec, pramo — в конструкции: mówić pramo),
возможно, заимствованных через украинское посредство, поскольку
Петриций некоторое время жил во Львове. Некоторые случаи применения русских лексем позволяют предположить, что влияние русского языка на польского поэта в период пребывания его в Москве
было довольно заметным, т. к. он не поясняет в своих комментариях
употребленные русизмы, а следовательно, не ощущает их как чужие.
Однако этих заимствований сравнительно немного, что может объясняться стилистическими соображениями23.
Сложные и драматичные польско-московские отношения времен Смуты под пером философа и поэта, волею судеб оказавшегося
их довольно случайным соучастником и наблюдателем, приобретают
весьма прихотливое и многослойное отражение — сквозь призму античности, в свою очередь адаптированной польской культурой XVI–
XVII вв., но также и сквозь призму личного опыта, автобиографии.
Я. Вуйчицкий справедливо отмечает, что основным материалом такой «квази-подлинной поэтической автобиографии» становится не
Москва периода Смуты, а скорее вся античная культура, в которой
�256 Виктория Мочалова
раздается эхо голосов многих поколений поэтов, обогащаемых голосами следующих поколений творцов, и речь идет уже не об идентичности фактов, но о сходном восприятии мира и о сопоставимых способах отражения переживаний24.
Петриций был последователен в своих масштабных и успешных
попытках привить к «польскому древу» ценности античной культуры,
стать посредником между нею и культурой польской, и подобно тому,
как он обогащал мысль своих соотечественников понятиями философии Аристотеля, переводя и комментируя его труды, он стал проводником поэтики Горация для польской поэзии. «Труд краковского академика вызывает уважение именно смелостью такого отбора и редукции
культурно чужого материала, при котором результат воздействует не
столько количеством отображенных деталей, сколько, скорее, колоритом, фактурой и контуром отраженного в зеркале образа»25.
В свою очередь, «Гораций Флакк в тяготах московской тюрьмы»
представляется одним из ценнейших памятников польско-русских
культурных связей, значение которого недостаточно оценено.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
См.: Sebastian Petrycy z Pilzna. Pisma wybrane / Opr. W. Wąsik, wstęp
K. Grzybowski. Warszawa, 1956. T. 1–2. См. рус. пер. А. П. Ермилова
фрагментов его комментариев в: Себастьян Петриций из Пильзна. Добавления к «Этике», «Экономике» и «Политике» Аристотеля // Польские мыслители эпохи Возрождения / Подбор, ред. и примеч. И. С. Нарского. М., 1960. С. 228–267. См. также: Николаев С. И. Польско-русские
литературные связи XVI–XVIII вв. Библиографические материалы.
СПб., 2008. С. 83–84.
См.: Loś J. Wstęp // Sebastiana Petrycego Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego, 1609. Ser. BPP. Kraków, 1914. № 67. S. 1; Barycz H. Nad
życiem, charakterem i osobowością twórczą Sebastiana Petrycego // Barycz H. W blaskach epoki Odrodzenia. Warszawa, 1968. S. 309.
См.: Barycz H. Petrycy Sebastian // Polski Słownik Biograficzny. T. XXV.
Kraków, 1980. S. 705; Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do
Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 3. Warszawa,
2002. S. 240; Czerska D. Dymitr Samozwaniec. Wrocław; Warszawa; Kraków, 2004. Wyd. 2. S. 153.
Barycz H. W blaskach epoki Odrodzenia. S. 311.
Sebastian Petrycy z Pilzna. Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego na utulenie żalów, przez Doktora Sebastiana Petricego Medyka, nie
�Польский Гораций в московской тюрьме 257
6
7
8
9
10
11
12
13
tak namyślnie, iak w niewoley tęskliwie w Lyrickich pieśniach zawarty, na
ten czas, gdy boiarowie Dimitra Cara pana swego przysięgą posłuszeństwa
ubespieczonego, przez cicho zaprzysięgłą zdradę haniebnie zamordowali: Carowey Jej Mości Koronatią y państwo poprzysięgłe znieważyli: wiele
Panów Polaków na wesele wezwanych, nad wszelką słuszność, w tym zamieszku, iednych pozabiiali, drugich i samych Ich Mościów Panów Posłów
do trzech niemal lat w więzieniu zatrzymali. Kraków, 1609. Из позднейших изданий (в частности: Sebastian Petrycy z Pilzna. Horatius Flaccus
w trudach więzienia moskiewskiego / Opr. A. Trojak. Kraków, 2004) мы
пользовались следующим: Sebastian Petrycy. Horatius Flaccus w trudach
więzienia moskiewskiego / Wyd. J. Wójcicki. Warszawa, 2006.
См.: Cytowska M. Horacy Jana Kochanowskiego. Od «Ód» do «Pieśni» //
Horacy i polski horacjanizm / Red. J. Głębicka. Warszawa, 1993.
Sebastian Petrycy z Pilzna. Historia Moschovitica. Kraków, 1641.
Kobierzycki St. Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego
(1655) / Wyd. J. Byliński i Wł. Kaczorowski. Tłum. M. Krajewski. Wrocław,
2005. S. 40.
См.: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski.
S. 239–240.
Sebastian Petrycy. Uczony doby Odrodzenia / Pod red. H. Barycza. Wrocław,
1957. S. 33–34.
Это мог также сделать его сын Ян на основании записей отца. – См.:
Hajdukiewicz L. Petrycy Jan Innocenty // Polski Słownik Biograficzny. T.
XXV. Kraków, 1980. S. 703.
Sebastian Petrycy. Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego.
S. 36–37.
См.: «Очень интересовался медициной царь Лжедмитрий, почти целый год занимавший российский престол. Лжедмитрий часто бывал в
обществе врачей, говорил им о своем намерении установить в Москве
университет, посещал аптеки и имел своего собственного лейб-медика,
которого привез из Польши. Это был Себастиан Петриций… Как медик
наибольшее внимание Петриций уделял внутренним болезням. Кроме
того, ему принадлежат новые гипотезы в отношении циркуляции крови:
так, в отличие от воззрений Галена, он установил аналогии в процессах
теплообмена у людей и животных. Он высказал рациональные мысли
об общественной и личной гигиене (в нынешнем понимании гигиены).
Занимаясь практической медициной, был врачом у ряда крупных феодалов, в том числе у Мнишека, где, очевидно, и познакомился с будущим Лжедмитрием». — Мирский М. Б. Медицина России X–XX веков:
очерки истории. М., 2005. Гл. 3, Разд. 3. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.booksite.ru/ancient/reader/work_1_02_14.htm
�258 Виктория Мочалова
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Sebastian Petrycy. Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego.
S. 38.
См.: Budzyńska-Daca A. Cnoty i retoryka w dziele Sebastiana Petrycego z
Pilzna. Katowice, 2005; Budzyńska-Daca A., Botwina R. Petrycy of Pilzno
Versus Francis Bacon: Breaking Through Towards Harmony and Comprehensible Philosophy // Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. 2010. 20
(33). P. 99–112.
Sebastian Petrycy. Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego.
S. 39.
Wójcicki J. Wprowadzenie do lektury // Sebastian Petrycy z Pilzna. Horatius
Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego. S. 23.
См.: Wójcicki J. Horacjańskie parafrazy Sebastiana Petrycego wobec rodzimego wzorca // Barok. 2000. № 7 / 2 (14).
Sebastian Petrycy. Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego.
S. 39.
Некоторые из многочисленных примеров, касающихся прославления
поэзии как единственного способа достижения бессмертия: Лоллий,
чью славу и подвиги не дадут пожрать забвенью его стихи, заменяется у Петриция краковским воеводой Миколаем Зебжидовским (IV: 9);
Марк Марций Цензорин — краковским мечником, дипломатом и меценатом Миколаем Вольским (IV: 8).
Тоже вопреки Горацию, у которого есть лишь номер оды, называемой
по первой строке «Jam satis terries nivis atque dirae» — «Уже довольно на
землю ужасного снега».
В своих примечаниях к этому стиху (24) оды Петриций поясняет: «Как
будут судить о содеянном вами зле ваши потомки, если кто-то из них
будет жив, ведь почти всех вы погубите в гражданской войне». Ср. также: Гипич В. В. Концепція війни у творах Себастіана Петриція з Пілзна
// Історичні і політологічні дослідження. 2010. № 3–4 (45–46). С. 23–28;
Он же. Московское государство первой половины XVII в. и «Смутное
время» в сочинениях польских мещан // Смутное время в России: конфликт и диалог культур. Материалы научной конференции (12–14 октября 2012 г.) / Под ред. А. И. Филюшкина. СПб., 2012. С. 52.
См. подробнее: Reiss P. Leksykalne zapożyczenia rosyjskie w utworze «Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego» Sebastiana
Petrycego z Pilzna // Podteksty. 2007. № 3 (9) [Электронный ресурс].
URL: http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=10&dzial=4&id=240.
Wójcicki J. Wprowadzenie do lektury. S. 22.
Ibidem.
�Светлана Мусиенко
(Гродно)
Польская литература
в имагологической
интерпретации
В. А. Хорева
Литература есть часть
целостной культурной
системы и развивается
в тесной связи с реальной
жизнью социума
как ее культурная форма.
В. А. Хорев
Мусиенко Светлана Филипповна — доктор филологических наук, профессор,
Беларусь, Гродно, Гродненский государственный
университет им. Янки Купалы
Научная деятельность профессора,
доктора филологических наук, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации
Виктора Александровича Хорева представляет более чем полувековую историю советской и российской полонистики. Научное наследие В. А. Хорева составляет около
500 опубликованных во многих странах
мира трудов и охватывает не только весь
литературный процесс Польши в его историко-временном проявлении, но и историю
польско-русских литературных связей,
влияний и взаимодействия от древности до
начала XXI в. Исследования ученого отличаются фундаментальностью и глубиной
мысли, изяществом изложения, новизной
взглядов и оригинальностью подходов к
явлениям литературы, культуры, языка и
необычным проблемно-тематическим богатством материала.
В пределах статьи невозможно не
только проанализировать, но даже назвать
вопросы, проблемы, произведения польской и ряда других славянских литератур,
которые рассматриваются в исследованиях В. А. Хорева. Поэтому для рассмотрения избран один из его фундаментальных
трудов, опубликованных в XXI в., «Польша и поляки глазами русских литераторов.
Имагологические очерки»1, где обобщены
и представлены в концептуальной целост-
�260 Светлана Мусиенко
ности научные поиски ученого, отражены научное новаторство и
оригинальность трактовок литературных явлений, теоретических положений, творчества польских и русских писателей, введенных в его
исследовательскую орбиту. Подчеркну, что В. А. Хорев первым начал
и успешно развивал новое для России (и не только) направление в литературоведении, названное им имагологией (от лат. imago «образ»).
В. А. Хоревым разработаны основные теоретические положения этой
науки, в русле которых исследуется одна из важнейших и актуальнейших проблем: поляки и русские в восприятии друг друга. По этой
проблеме под руководством В. А. Хорева проведен ряд международных научных конференций, объединивших виднейших ученых ряда
стран. По материалам этих конференций в России и Польше изданы
серьезные публикации, вызвавшие живой интерес в научном мире.
Имагологию можно назвать наукой об образной системе жизни и
культуры «другого» или «чужого» (народа, группы людей, человека).
Она требует от исследователя не только знаний особенностей жизни,
истории и культуры обоих народов, которые попадают в орбиту исследования, но и чувства меры, такта и уважения к обоим объектам
внимания. Тем более что в имагологическом подходе к материалу исследователю приходится обращаться как к явлениям, скажем, «нейтральным», так и к эмоционально окрашенным, часто намеренно или
невольно деформированным.
Перспективность имагологической науки очевидна. О ней свидетельствует и рассматриваемая монография, скромно названная автором имагологическими очерками. Жанр очерка предполагает лишь
показ проблемы в ее основных, чаще видимых признаках. В исследовании В. А. Хорева в новом освещении и новой интерпретации представлен богатейший материал, охватывающий огромный исторический период с XI до конца XX вв. русско-польских отношений, связанных с показом русского и польского типов характеров, сложнейших
перипетий государственной власти России и Польши в проявлениях
друг к другу. Автор по-новому освещает и анализирует в русле имагологического видения фольклор, литературу, философию, психологию,
политику и т. д. обеих стран и историю их отношения друг к другу.
В книге названы сотни имен, проанализировано огромное количество документальных источников и произведений литературы,
многие из которых введены в литературоведческий, научный и публичный оборот впервые. В монографии используются три ракурса
исследования проблемы: объективный, заключающийся в показе существенных признаков явления, события, человека и т. д.; самохарактеристики, или отношения через «чужое» к «себе» и «своему» и
�Польская литература в имагологической интерпретации... 261
взгляд со стороны — «чужого» на «чужое». Это обеспечило исследователю возможность увидеть и представить трехсторонний подход к
проблемам культуры: объективный (на основе документов и исторических фактов), в самовыражении (на основе документов и произведений литературы и искусства) и в освещении взгляда на явление «другого», «чужого», «со стороны», или имагологического подхода. Если в
первом случае исследователь использует фактические, фактографические и статистические данные, имеющие объективный характер (или
приближающиеся к объективности) и по возможности лишенные оценочности, то в процессах, связанных с самохарактеристикой, активно
«участвует» подход эмоциональный, часто с завышенными самооценками. Наиболее точно все это проявляется в произведениях литературы и искусства. Третий, имагологический, анализ явления наиболее
труден, поскольку эмоциональная оценка «чужого» или «другого»
зависит от многих факторов и этими же факторами определяется: документальные материалы, мемуары и художественная литература на
тему «чужого», история взаимоотношений между странами, народами и даже отдельными людьми, социально-политический строй обоих государств, их географическое положение и т. д.
Материал в книге расположен согласно историко-временной
последовательности и охватывает огромный период с XVI до конца
XX вв. Отмечу, что ряд анализируемых источников относится еще
к временам введения христианства на Руси (X–XI вв.). Концептуально весь богатейший материал подчинен имагологическому принципу, положенному в основу исследования: складыванию и эволюции
устойчивых взаимных представлений русских и поляков о России и
Польше на государственно-социальном и государственно-политическом уровнях и на уровне межличностных отношений.
Имагологический подход определил подбор материала, структуру, характер и особенности исследования. Все это дало возможность
сосредоточить внимание читателя на проблеме изменений, происходивших в истории обеих стран и их народов, нового исторического
опыта, который оказывал принципиальное влияние на взаимоотношения русских и поляков.
Огромность задач, поставленных автором, оригинальность и новизна их решения определили значимость труда, в котором впервые
в литературоведении исследуются история и эволюция взаимоотношений между Россией и Польшей и история и эволюция взаимных
устойчивых представлений друг о друге, причем не на фоне, а в русле
развития обоих народов, их культуры, политики, социального уклада
обеих стран и быта их народов.
�262 Светлана Мусиенко
В. А. Хорев рассматривает историю имагологии поляков и русских от начала, или становления этнических стереотипов (XVI в.) до
конца XX – начала XXI столетия и делит ее на три важных периода:
XVI–XVIII вв. — эпохи войн, исторической смуты, стремление Польши захватить Московию; XVIII век — участие России в трех разделах
Польши и утраты ею государственности (второй период является особенно сложным — это время восстаний и обостренной идеологической борьбы поляков за независимость); XX век связан прежде всего с
двумя мировыми войнами и восстановлением польского государства,
сменой в нем социальных укладов, сложными отношениями ПНР и
СССР, разрушением социалистического лагеря и падением Советского Союза и, наконец, вступлением Польши в НАТО и Евросоюз.
Не секрет, что история взаимоотношений России и Польши полна драматических событий, вызывавших на протяжении более 400 лет
войны, вооруженные столкновения, взаимные претензии, острые дискуссии и вследствие обоснованных и необоснованных противоречий
создававших обеими сторонами отрицательные национальные, этнические и политические образы и стереотипы.
Даже беглое перечисление событий, произошедших между Россией и Польшей за столь длительный срок, говорит о трудностях задач,
поставленных автором исследования. Мало сказать о колоссальности
знаний литературы и исторических документов о жизни обоих народов, которыми обладает В. А. Хорев. На протяжении всего пути исследования он смог сохранить уважение к обоим народам, объективность
оценок в трактовке даже самых драматичных событий, вызывавших
взаимное недовольство, а порой и откровенную враждебность, и при
этом сохранить достоинство российского ученого, который сумел, говоря словами Р. Роллана, встать «над схваткой», подняться над недовольными и неудовлетворенными с обеих сторон.
Исследуя столь длительный историко-литературный период (более 400 лет), одинаково болезненный для обеих стран и их народов,
многократно деформируемый обеими сторонами, В. А. Хорев прежде
всего обратился к анализу и показу причин сложностей и драматических взаимоотношений между Россией и Польшей. Их начало ведет к периоду становления государственности и определению границ
каждой из стран. Устанавливая задачи исследования и подчеркивая
имагологический подход к проблеме, В. А. Хорев дает по сути новое
определение культуре.
«Многие историки, — пишет автор, — и вслед за ними и представители других гуманитарных наук полагают, что культура — это
лишь своего рода зеркало, в котором для обозрения обществу пред-
�Польская литература в имагологической интерпретации... 263
ставляются изменения исторической жизни. Культура как форма общественного сознания — это, конечно, зеркало, в котором смотрится человеческий мир, и без такого зеркала не существовал бы и сам
мир. Но история не сводится к событиям, ее органической частью
является и их осмысление в сознании времени — в культуре, которая
в свою очередь воздействует на ход и исход событий. Именно культура влияет на формирование национального сознания и тем самым
является активным участником исторического процесса» (курсив
мой. — С. М.; С. 6).
В диалоге культур, считает автор, важнейшим компонентом является литература и вместе с ней — «и народная культура, фольклор
и разные виды искусства, и религиозная мысль, и письменность, и общественно-политические идеи, и историко-философские концепции»
(С. 7). Для понимания процесса развития отдельной национальной
культуры следует рассматривать ее составляющие в комплексе как
единое целое. Такой подход к культурному взаимодействию представляет имагология.
В. А. Хорев дает ей следующее определение: «Имагология ставит
своей задачей выявить истинные и ложные представления о жизни
других народов, характер и типологию стереотипов и предубеждений, существующих в общественном сознании, их происхождение и
развитие, их общественную роль и эстетическую функцию в художественном произведении. Она изучает образ другого народа» (курсив
мой. — С. М.; С. 7). Первостепенную роль в формировании образа
«другого» или «чужого» автор отводит литературе, но подчеркивает
значимость и «других» текстов.
Важной составляющей имагологии является стереотип, но, как
справедливо утверждает автор, имагология «не сводится к исследованию только стереотипов, которые являются «застывшим» образом,
некой постоянной идеальной моделью, не существующей в реальном
мире» (С. 8). Стереотип как явление жизни и культуры «другого»
или «чужого» давно интересует исследователей и литераторов. Не
раз предпринимались попытки его классификаций. Наиболее полную, принадлежащую Адаму Шаффу, использует и В. А. Хорев, но
«наполняет» ее имагологическим содержанием, доказывая, что понятие «стереотипа» более ограниченное, мифологизированное, упрощенное, часто неточное, дающее деформированное представление о
предмете в сравнении с его объективной сутью и его существенными
признаками. Хорев подчеркивает, что стереотипы являются определенной формой генерализации отдельных явлений, они унифицируют
представления об этнических и общественных группах, институтах,
�264 Светлана Мусиенко
явлениях культуры, личностях, событиях и т. д. и обладают исключительной силой убеждения и инерции благодаря удобству и легкости
их восприятия (C. 9).
Интересны рассуждения автора о бытовании стереотипов, которые, даже противореча реальности, рождаются и закрепляются «в
определенных исторических, национальных, политических и экономических условиях» и тогда сами становятся исторической реальностью, тиражируются, наследуются, приобретают новые символические значения и актуализируются в зависимости от идеологических и
политических потребностей другого времени (C. 9).
В основе стереотипа может лежать как существенный, реальный
признак рассматриваемого явления, так и признак, отрицающий его
суть, намеренно или ненамеренно деформируемый его (стереотипа)
создателем. Наиболее «живучим», несомненно, является стереотип этнический, в основе которого, как считает автор, лежит «этноцентризм»,
позволяющий «рассматривать проявление культуры чужого народа
сквозь призму своих собственных культурных традиций и ценностей»
(C. 10). Следовательно, мнение о «другом» или «чужом» составляется
на основе самоанализа или самохарактеристики, а это, в свою очередь,
дает возможность противопоставлять себя (чаще с положительной стороны) другому — чужому (чаще со стороны отрицательной).
«Для отношений между двумя этническими группами, — читаем
у В. А. Хорева, — особенно соседними, всегда характерно противопоставление одного этноса другому, противопоставление “мы” — “они”,
перерастающее чаще всего в оппозицию “свои — чужие”» (С. 10). Такое противопоставление берет начало в древности, еще «до становления ясно выраженного национального сознания», когда «происходило
осознание отличия своей этнической группы от иной в плане обычаев,
конфессий, общественного устройства, языка» (С. 10). Ученый приходит к важному выводу о том, что при неизбежной конфронтации с «чужим» происходило постижение «своего». Отмечу, что противоречие
«свой» — «чужой» проявляется на различных уровнях: от государств,
народов, социальных, профессиональных, политических и других объединений по какому-либо общему признаку до конфронтаций межличностных. И во всех случаях «продуктивным» материалом служит стереотип чаще в эмоционально отрицательной окраске. Ощущение себя
или своей принадлежности к подобному множеству помогает осознанию своего превосходства над «чужим» или «другим», который или
которые наделяются отрицательными качествами. Как правило, этот
негатив культивируется, становясь «постоянно действующей нормой»,
передающейся «из поколения в поколение, закрепляясь в устных пре-
�Польская литература в имагологической интерпретации... 265
даниях и обычаях, в исторических, публицистических и художественных текстах, в произведениях искусства и т. д.» (С. 11).
Остается добавить, что отрицательные качества «чужого» обычно
гиперболизируются, поскольку с их помощью легче абстрагироваться от
подобных черт «своих». Наука имагология, таким образом, изучает не
только противоречия в системе экзистенции «свой» — «чужой», но и
показывает их связи, взаимодействие и взаимовлияние. Проблемы формирования, бытования и разрушения стереотипов обосновываются факторами длительности исторических процессов, в которых важную роль
играют господствующие идеологии этого общества. На основании изученного вопроса автор приходит к важному выводу о том, что с помощью
имагологии можно выявить «образы чужой жизни, складывающиеся в
большом историческом времени в традицию, в инвариантные устойчивые структуры сознания, отражающие исторический опыт своей нации». И они «не только обогащают знания о другом народе, но… в первую
очередь характеризуют собственную ментальность» (С. 12).
Итак, несмотря на «молодость», с помощью науки имагологии
можно решать проблемы глобального (общечеловеческого) характера,
межгосударственные и межнациональные, межэтнические, межсоциальные и даже межличностные. На всех уровнях решения имагологических проблем участвуют два составляющих их объекта — «свой» и
«чужой» в свете противоречий, взаимодействия и взаимопознания их
жизни, культуры, языка, обычаев и др.
Можно говорить о том, что потребность в осмыслении по-новому межчеловеческих отношений назрела давно, но научное обоснование и теоретические положения охватывающей их науки имагологии
были не только сформулированы, причем лишь в начале XXI в., но и
практически применены в осмыслении и анализе более чем 400-летней истории взаимоотношений между Россией и Польшей В. А. Хоревым, представившим взгляд «русского полониста» на историю и
современность этой сложной, часто драматичной проблемы.
Представляя историю имагологии в проблеме «Польша — Россия», Хорев отвечает на два основополагающих вопроса: какими были
взаимоотношения двух стран и их народов в течение большого и значимого исторического периода, длившегося более 400 лет — от момента создания Польши и России как государственных структур до
начала XXI в. Второй вопрос имеет не только историческое, но и психологическое значение: почему между соседствующими славянскими
государствами формировались противоречивые, чаще враждебные
отношения, распространившиеся и распространяющиеся до сегодняшнего дня на всех уровнях жизни, вплоть до межличностного.
�266 Светлана Мусиенко
В книге представлены два аспекта проблемы польско-русских
отношений, а точнее, два типа ее оценок в историко-временном разрезе: нейтральные и эмоционально окрашенные. Авторы первых стремились к показу объективной истины. У авторов эмоциональных оценок наиболее обильными являются материалы, в которых содержится
не только острая, но часто необоснованная критика, а порой и откровенные пасквили; положительные оценки составляют меньшинство.
Не секрет, что за 400 лет истории польско-русских отношений в
обеих странах собраны огромные арсеналы источников, относящихся
к различным областям жизни от фольклора до секретных материалов,
содержащих политические тайны. И многие архивы не открыты до
сегодняшнего дня.
Все обилие, многообразие и разнородность материала книги
строго подчинены единству концепции, выраженной авторской позицией: объективно показать сложность и противоречивость польско-русских отношений в свете новой науки имагологии, позволившей, в свою очередь, дать им справедливую оценку в историческом
прошлом и в современности.
Сложность этих отношений В. А. Хорев подтверждает высказыванием поэта Чеслава Милоша: «Поляки и русские друг друга не любят. Точнее, они испытывают разные неприязненные чувства, от обиды и презрения до ненависти, что не исключает, однако, непонятной
взаимной тяги, всегда окрашенной недоверием»2. Комментарий автора
исследования заключает не только объективность оценок всей истории польско-русских отношений, но и подчеркивает их взаимную значимость: «Нет нужды, — читаем у Хорева, — делать вид, что не было
взаимной неприязни и проявлений враждебности. Вместе с тем наша
общая история отмечена взаимным интересом друг к другу, обменом
культурными ценностями, а во многих случаях искренней увлеченностью… Взаимодействие наших народов и культур проходило… в зоне
повышенного напряжения, потому сегодня это крайне привлекательное поле для исторических и культурных исследований», поскольку
они «могут способствовать более глубокому взаимопониманию, а тем
самым преодолению устоявшихся схем, взаимных претензий, негативных стереотипов» (С. 13–14).
Во взаимоотношениях с соседним народом играют роль не только культура, политика, социальное устройство обеих стран, но и их
географическое положение и административные границы, хотя они и
являются наиболее подвижной и изменяющейся составляющей исторических процессов. Польша в этом плане представляет весьма выразительный пример. Находясь в самом центре Европы, эта страна
�Польская литература в имагологической интерпретации... 267
становится своеобразным форпостом между Востоком и Западом и
«переносчиком» культур и традиций в оба направления.
Не случайно Ю. Словацкий назвал ее «павлином народов», переносящим традиции с Запада на Восток и с Востока на Запад. Оказавшись «между мирами», Польша с момента государственного становления оказывалась «лакомым куском» для более сильных стран,
особенно территориально ограниченной и воинственной Пруссии,
устраивавшей постоянные набеги на нее. С Востока за Неманом была
Московия — государство восстанавливавшееся, но еще не окрепшее
после 270 лет татаро-монгольской неволи. Естественно, захватнические войны в XVI–XVII вв. Польша вела с соседом восточным. Правда, В. А. Хорев нашел новые факты о противостоянии Польши и России, которые относятся к еще к XI–XII векам («Повесть временных
лет») и связаны с проблемой раздела христианства на православие и
католичество. В этом случае русские и поляки оказались в разных
конфессиях.
Одним из важных компонентов стереотипа В. А. Хорев считает
язык, определивший бытующий до сегодняшнего дня оттенок пренебрежительности в определении национальности: лях и москаль. В
этих определениях проявилось название государств Польши (Лехия)
и России (Московия). Отмечу, что наряду с пренебрежительным определением в древнем фольклоре восточных и западных славян существовала легенда о русе, ляхе и чехе, в которой все три народности
были показаны свободолюбивыми, исполненными достоинства героями. Согласно Хореву, «родственный язык нередко воспринимается как порча собственного языка». Поэтому в памятниках польской
культуры бытовала мысль о приоритете родного языка. Он противопоставлялся «чужой речи». Ученый связывает «языковое противопоставление и языковое самоутверждение» с географическим положением Польши «между лютеранской Пруссией, православной Москвой и
магометанской Турцией» (С. 21–22). Отмечу, что географический фактор названных стран в древности перешел в фольклор и сохранился в
речи польских крестьян в XX в.: «Włoch to chrześcijanin, a Turek — to
niedowiarek»3.
В становлении отрицательного стереотипа Польши Хорев вводит в качестве третьего «участника» — страны Западной Европы.
«Польша, — пишет автор, — всегда самоидентифицировалась с Европой, только вот Запад относился к ней в лучшем случае как к бедной
родственнице. Пренебрежительное отношение западных европейцев
к Польше уходит вглубь веков». В качестве примера автор приводит
фрагмент стихотворения придворного поэта Генриха Валуа Филиппа
�268 Светлана Мусиенко
Депорта (XVI в.) «Прощание с Польшей»: «Курные избы с крышей из
соломы, / внутри которых люди и скоты / нашли приют — одна семья
большая»4. Подобная зарисовка могла быть характерной и для других славянских народов, причем не только того времени. Достаточно
вспомнить описания русского быта А. Радищевым в «Путешествии
из Петербурга в Москву», И. Тургеневым в «Записках охотника», в
поэзии Н. Некрасова и др. Правда, их творчество отличается болью и
сочувствием к страданиям, порожденным социальной несправедливостью.
Итак, в эпохах далекого прошлого (XVI–XVIII вв.) главное противостояние русских и поляков проявлялось под прикрытием конфессиональной разницы. В действительности же решались проблемы
прежде всего военно-политические, причем войны велись с переменным успехом и для России, и для Польши. Это порождало образ врага — соседа, который в качестве отрицательного персонажа насыщал
памятники культуры и искусства, летописи и документы. Если до
конца XVIII в. были историко-политические основания для претензий к Польше у России (походы Стефана Батория, воцарение на московском престоле ставленника Польши Дмитрия Самозванца), то с
конца XVIII в. в роли узурпатора выступает Россия (участие ее в трех
разделах Польши и жестокое подавление восстаний 1795, 1830–1831 и
1863 гг.).
Противопоставление «мы» — «они» в определенной мере помешало начавшейся горячей дружбе двух гениев — Мицкевича и Пушкина. В исследовании глава о двух поэтах приобретает особую значимость. Их сближала поэзия. «Два юноши стояли рядом», — о себе
и Пушкине писал Мицкевич. «Делились мы и чашей, и мечтами, и
песнями», — читаем у Пушкина. В их поэзии «мы» — «они» не противопоставлены друг другу. В. А. Хорев вводит интересные, не известные ранее документы, факты о пребывании Мицкевича в России,
о настроениях накануне восстания декабристов, дает новую имагологическую трактовку произведений обоих поэтов, дружба которых
разрывается политическими противоречиями. «Были мы друзья, хоть
наши племена и враждовали», — писал Пушкин. «Так две скалы, разделены стремниной, встречаются под небом голубым», — читаем у
Мицкевича.
Заметим, что ни Пушкин, ни Мицкевич не говорят о превосходстве своей поэзии. Она — сфера творческого сотрудничества, и поэты говорят, «как с братом брат». Для Мицкевича Пушкин — это
«русский гений», для Пушкина Мицкевич — «вдохновенный». Противостояние автор переводит в сферу политики, где каждый из поэтов
�Польская литература в имагологической интерпретации... 269
представляет современную им реальность. Мицкевич видит Россию и
русский характер, деформированный самодержавием, в образах «героизма неволи», «водопада тирании», «венчанного кнутодержца». У
Пушкина Польша — это «больной, расслабленный колосс», поляки
«грозны на словах», «озлобленные сыны».
Естественным следствием антипольской кампании было усиление антирусских настроений среди поляков, распространявшееся
в фольклоре и литературе. Тем более, что виднейшие и авторитетнейшие деятели польской культуры, в том числе и писатели, определявшие развитие польской литературы, — Э. Ожешко, Г. Сенкевич,
Б. Прус — или являлись непосредственными участниками восстания,
или были связаны с ним.
В. А. Хорев представляет интереснейший документ — воспоминания М. Е. Салтыкова-Щедрина, сумевшего не только увидеть противоречия в обществе, но и показать, что для русской культуры одинаково опасны и реакционный панславизм, и слепое преклонение перед
Западом. Со свойственным ему сарказмом русский сатирик отметил,
что еще в 40-е гг. «русская литература поделилась на два лагеря: западников и славянофилов. Был еще и третий лагерь, в котором копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п. <…> он являл себя
прикосновением к ведомству управы благочиния» (курсив мой. —
С. М.). Влияние западной культуры Щедрин считал благотворным,
раболепие перед ним — пагубным. Там, где «горел светоч, “ливший
свет человечеству”, <…> сидят ожиревшие менялы и курлыкают»5.
В. А. Хорев уделяет особое внимание польско-русским отношениям второй половины XIX — начала XX вв., поскольку, несмотря на
официально отрицательное отношение к Польше, в общественном сознании русских людей наблюдались принципиальные изменения: возрос интерес к польской культуре, активизировались сотрудничество
с польскими литераторами и переводческая деятельность, возрос интерес массового читателя к произведениям польских авторов, стали
появляться сборники произведений антологического типа. Мицкевич,
Ожешко, Прус, Сенкевич, Каспрович и многие другие не только получают известность, но становятся фактами русской культуры. Польская литература получает самые высокие оценки в исследованиях и
рецензиях русских деятелей культуры.
В. А. Хорев представляет своеобразную панораму, в том числе из
мало известных и ранее неизвестных источников, в которых показано
широкое и многогранное бытование польской литературы в России.
Итак, «imago» поляка и польской культуры в России качественно меняется. Исследователь показывает и «географию» изменения отноше-
�270 Светлана Мусиенко
ния к Польше, происходившего не только в Петербурге и Москве, но
и в Киеве, Казани и др. городах. Знаменательно, что русского читателя и критика интересует не только, а возможно, и не столько история,
сколько современность и качественные изменения (переход к реализму) в польской литературе (А. И. Яцимирский «Новейшая польская
литература», 1908, Р. И. Сементковский «Польская библиотека», 1881
и др.). Свидетельством отмежевания прогрессивных русских литераторов от реакционной и ретроградной публицистики прежде всего
были книги, в которых главной мыслью стало изменение отношения
к польской культуре. Во многих приводимых в труде Хорева источниках содержится мысль о возможности примирения Польши и России.
Подчеркну, что исследователь прослеживает эволюцию оценок многих
явлений польской культуры, в том числе творчества и художественных
произведений авторов второй половины XIX – начала XX вв., изменявшихся в течение почти полутора столетий, включая и советский
период. Поэтому в орбиту внимания Хорева попадали исследователи и
прошлых эпох, и советского, и постсоветского периодов.
В. А. Хорев подчеркивает важность в идейном и имагологическом осмыслении поэмы А. Блока «Возмездие». «Историко-философское осмысление судеб Польши, — пишет ученый, — признание
Блоком исторической вины России перед Польшей… существенно отличается от декларативных заявлений многих поэтов того времени»
(С. 122–123).
Замечательной находкой Хорева является извлеченный из архивов документ: черновик письма А. В. Амфитеатрова Генриху Сенкевичу, основной мотив которого — славянское единство и «польско-русское примирение». Одновременно этот документ опровергает
расхожее мнение о враждебности Сенкевича к русским, о том, что он
принципиально не говорил на русском языке, не читал произведений
русских авторов и т. д. Хорев приводит многочисленные примеры,
свидетельствующие о взаимном интересе друг к другу польской и
русской интеллигенции. Исторические события прервали возможность их интеллектуального диалога. Октябрьская революция, обретение Польшей независимости, польско-советская война «вернули в
русскую литературу отрицательный стереотип поляка… с поправкой
на новую политическую ситуацию… В 20–30-е гг. в Советской России
велась целенаправленная антипольская пропаганда… Традиционный
отрицательный стереотип поляка отождествляется теперь с “панами”
и “белополяками”, контрреволюционерами, буржуями и помещиками,
им противопоставляется представитель трудового народа, нуждающийся в помощи советского государства» (С. 128).
�Польская литература в имагологической интерпретации... 271
Картины страданий польского народа советские писатели могли
моделировать, т. е. использовать факты советской действительности:
последствия гражданской войны, раскулачивание крестьянства, колхозы, голодомор 1933 г. Естественно, об этих трагедиях не писал никто.
В книге специально подчеркивается роль польских деятелей
культуры и политиков, эмигрировавших в Советскую Россию по политическим убеждениям и выполнявших две важные миссии: во-первых, они усилили отрицательные оценки польской жизни, чем фактически деформировали представление о своей стране, во-вторых, способствовали идеализации советского человека и социалистического
строя. Исследователь представил документы из государственных и
личных архивов писателей, с которыми читатель знакомится впервые.
Они составляют своеобразную панораму исторической фальши и политической лакировки, ставшей постоянным фактором сталинской
политики.
Межвоенное двадцатилетие — один из труднейших периодов во
взаимоотношениях России и Польши. В. А. Хореву нужно было обладать в его оценках не только знаниями, стремлением к объективности,
но и гражданским мужеством, чтобы из двух потоков негативных,
политически деформирующих действительность обоих государств и
народов стереотипов показать историческую правду этого процесса.
«Отношения между Польшей и Россией всегда складывались под
мощным воздействием политических ситуаций, — пишет Хорев, — которые резко обострялись в переломные эпохи» (С. 144). Одной из важнейших была победа над фашизмом и спасение Польши от уничтожения, но странам Юго-Восточной и Центральной Европы был навязан
коммунистический режим советского образца. Польша лишилась свободного выбора социального мироустройства. В стране установилась
советская диктатура, на которую работали все возможные средства
пропаганды, дипломатия, политика, культура, пресса, книгоиздательство обоих государств. Исследование В. А. Хорева проливает свет на
процесс всестороннего идеологического давления со стороны СССР,
благодаря интерпретации ученым архивных документов, дипломатических записок и откровенных доносов как советских идеологов, так
и представителей польской государственной элиты и экстремистски
настроенной части польской диаспоры, проживавшей в СССР. Трудно
назвать те сферы польской жизни и деятельности, в которые довольно бесцеремонным способом не вмешивался бы СССР. Однако если
государственно-партийная система работала исправно, то в области
культуры система идеологического насилия начала давать сбои почти
с первых лет существования ПНР. «Топорное вмешательство советско-
�272 Светлана Мусиенко
го государства в культурную жизнь Польши, — пишет автор, — часто работало вопреки поставленной задаче идеологической обработки
польского общественного мнения в пользу советского режима» (С. 153).
Ученый подчеркивает, что в «оболванивании масс и насаждении стереотипов примитивного восприятия литературы у советской власти был
большой опыт». Выразительные тому примеры — документы о запрете
лично Крупской таких имен, как Платон, Кант, Шопенгауэр, В. Соловьев, Тэн, Рескин, Ницше, Лев Толстой, Лесков. Именем ЦК КПСС были
запрещены в послевоенные годы Есенин, Блок, Булгаков, Бабель, Платонов, Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Волошин, Пастернак.
Впечатляющий перечень имен, приведенный автором книги,
является убедительным примером интеллектуального самоуничтожения нации. В данном случае само по себе перечисление фамилий
выглядит красноречивее и убедительнее многословных доводов. Эти
запреты сохранились в памяти не только старшего, но и среднего поколений бывших советских людей.
В системе имагологии принципы воспитания и советского человека, и поляка-гражданина ПНР имели не только неестественный, но
откровенно антинаучный, даже абсурдный характер. Под запретом в
обеих странах были противоречивые моменты истории, в современном периоде присутствовал откровенно мифологический, даже идеалистический принцип братской дружбы между народами. Образцом,
естественно, был советский человек — старший брат, имевший опыт
жизни в социалистическом раю. «В изображении отдаленных времен
писатели вырывали из исторического контекста такие примеры, которые способствовали созданию нового искусственного стереотипа отношений между поляками и русскими» (курсив мой. — С. М.; С. 161).
Несмотря на усилия обеих сторон создать социально-политическую идиллию между народами, Польша для советского руководства
оставалась «рассадником зла», «ревизионизма», «антипартийных выпадов» и т. д. В течение тридцатилетнего существования ПНР было
несколько «ревизионистских выступлений польской интеллигенции,
которые успешно подавлялись совместными усилиями КПСС и ПОРП,
начиная от закрытий и ликвидаций печатных органов («Po Рrostu»),
идеологического преследования редакционных коллективов («Opinie»), преследования неугодных деятелей культуры и умалчивания их
творчества (А. Слонимский, Е. Анджеевский, К. Брандыс, Я. Котт, в
СССР — Б. Пастернак, А. Солженицын, И. Бродский и многие другие)
до организации ангажированной периодической прессы, призванной
не только «защищать» социалистические ценности, но и организовывать травлю писателей. Хорев приводит десятки фактов и докумен-
�Польская литература в имагологической интерпретации... 273
тальных материалов, свидетельствующих о разного рода преследованиях, запретах творчества, психологической и административной
расправе с «неугодными».
В данном случае можно говорить о своеобразной странице имагологической науки, которую следовало бы назвать «политической
имагологией», созданной на основе идеологического «содружества»
руководств СССР и ПНР.
Официальные власти СССР меняли характер отношения к Польше в зависимости от политической ситуации в этой стране, хотя в
любых условиях они оставались враждебно или неодобрительно настороженными. Не поощрялись, а порой и преследовались те деятели
советской культуры, которые славили Польшу за свободолюбие. Обращаясь к польской теме, осудившей сталинизм и репрессии в своей
стране, автор исследования, наряду с многочисленными примерами
из советской литературы, представлявшей поляков как борцов за свободу, приводит официальные документы, доносы, дипломатические
ноты, «сообщения» в ЦК партий обеих стран о «неблагополучии» политической атмосферы в Польше в целом и, ангажированных писателей, в произведениях которых не только поддерживается, но и «обогащается» новыми чертами отрицательный образ Польши, в частности.
Своеобразное лирическое отступление в книге Хорева — фрагмент, представляющий психологический фактор изменений, произошедших в сознании русских и польских деятелей культуры: среди
«польских» стихотворений Булата Окуджавы было и «Мнение пана
Ольбрыхского», посвященное ответу актера на анонимную записку (в
которой говорилось: «Русские принесли Польше много зла, и я презираю их язык»). Окуджава не только солидаризируется с Ольбрыхским,
но и указывает на причины враждебности между народами. Они вызваны социалистической диктатурой, одинаково деформирующей сознание и поляков, и советских людей.
Сливаются в одно слова и подголоски,
И не в чем упрекнуть Варшаву и Москву…
Виновен не язык, а подлый дух холопский —
варшавский ли, московский — в отравленном мозгу
(курсив мой. — С. М.; С. 176).
К сожалению, литература «отравления мозгов» представлена не
только многочисленными примерами в книге Хорева, но продолжает
множиться с обеих сторон и сегодня, мешая реальным оценкам сложного и противоречивого пути обоих народов навстречу друг другу.
�274 Светлана Мусиенко
Для понимания сложности исторических взаимоотношений
Польши и России особое значение имеет заключительная глава книги
— «Взгляд русского полониста на польскую литературу XX века», —
которая выполняет двойную функцию: дает всесторонний социально-исторический анализ причин враждебности между поляками и
русскими в русле имагологии и служит своеобразной увертюрой к
следующему исследованию ученого — «Польская литература XX века
1890–1990» (Москва, 2009).
Автор отмечает значимость в польско-русских отношениях эмоционального фактора, сложившегося в результате «длительной совместной истории двух народов, породившей между ними сложные и
часто как будто взаимоисключающие отношения дружбы-вражды, ненависти-любви». По мнению Хорева, большинство русской интеллигенции восхищается польской культурой, выражающей свободолюбие
и внесшей большой вклад в мировую ее сокровищницу. Иное дело —
массовый читатель, которому трудно ориентироваться не только в
связи с выбором и переводами произведений, но и в связи с деятельностью официальной пропаганды, намеренно направлявшей мысль на
произведения политически ангажированные, на недоверие к польскому народу. Помочь такому читателю в преодолении отрицательных
стереотипных суждений может «познание иной ментальности через
художественную литературу, через сферу “прочувствованной мысли”». На пути такого познания автор видит трудности: неоднородность читательской аудитории, определяющую различные уровни потребности в литературе; различие вкусов; переоценки литературного
и исторического процессов, особенно активно проявившиеся в конце
XX в.; в связи с этим — сложность переосмысления явлений культуры
и исторических событий. Ученый справедливо считает, что «нельзя
рассматривать ни национальную специфику развития литератур, ни
типологию общих для них и мирового литературного процесса категорий и явлений в отрыве от общественной действительности, поскольку литература есть часть целостной культурной системы и развивается в тесной связи с реальной жизнью социума как ее культурная
форма». В связи с этим автор видит необходимость создания «некоего
канона имен и текстов», который выражал бы опыт развития польской
литературы и помог бы «русскому читателю ориентироваться в ее
подлинных достижениях». Такой канон должен выполнять познавательную и эстетическую функции — поскольку литература является
особым типом познания мира, преломленного в сознании писателя, то
она может открывать читателю двойную перспективу: видения эстетических ценностей национальной и общечеловеческой значимости.
�Польская литература в имагологической интерпретации... 275
В. А. Хорев подчеркивает, что «канон польской литературы, моделирующий ее историю, зависел от политической конъюнктуры»
(С. 191–218), поэтому власти бесцеремонно вмешивались в работу литераторов и литературоведов, пытались подчинить ее политической
цензуре. Это, естественно, приводило к ограничениям, искажавшим
литературный процесс обеих стран. Поэтому канон будет максимально приближен к процессу культуры страны-оригинала лишь в том
случае, если деятельность интеллектуалистов не будет иметь цензурных политических ограничений.
В заключительной главе автор рассматривает в имагологическом
аспекте литературный процесс польской и русской литератур второй
половины XX в., показывая и их лучшие образцы, и смену стереотипов, и факторы творческой близости польских и русских писателей,
и дружбу и взаимный интерес представителей обеих культур, и эстетические открытия, сделанные писателями, которые обогатили мировую культуру.
Глубокий историко-литературный анализ взаимоотношений
польского и русского народов и их литератур от истоков и до конца
XX в. автор заканчивает очень личным размышлением: «Мои суждения о польской литературе XX в. не претендуют на полноту… наше
суждение об объективности вступает в противоречия с нашим неизбежным субъективизмом. Но думаю, что — при всей приблизительности и субъективизме выстраивания художественной иерархии “по
горячим следам” только что закончившегося века — попытка уловить
определенные тенденции в жизни литературы как одного из главнейших интеллектуальных языков имеет смысл для формирования отношения русского читателя к Польше и ее культуре» (С. 217).
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
Хорев В. А. Польша и поляки глазами русских литераторов. М., 2005.
Далее в тексте цитируется это издание, номера страниц указаны в скобках.
Miłosz Cz. Rodzinna Europa. Kraków, 1994. S. 126.
Nałkowska Z. Dom nad łąkami. Warszawa, 1978. S. 114.
Филипп Депорт. Прощание с Польшей. Цит. по: Хорев В. А. Указ. соч.
С. 32–33.
Салтыков М. Е. Собр. соч. в 10 т. М., 1988. Т. 7. С. 122, 144.
�Виктор Александрович
Хорев,
Татьяна Николаева
(Москва)
женская красота
и русская литература
Красивые женщины?
Что это такое? Добро или зло? Глядя
в историю далеко-далеко назад, видишь,
сколько из-за них было войн, убийств,
страданий. Как они были коварны, прекрасны и загадочны! Могла ли Елена сопротивляться похищению, думала ли Клеопатра, что она делает, повернув галеры,
могла ли быть иной королева Марго?
Красавица-героиня — это почти
штамп, стереотип мировой литературы
и фольклора. А как у нас, у русских? А
иначе. «Не родись красивой, а родись
счастливой», — гласит русская пословица; «Красота страшна, вам скажут», —
пишет поэт1.
Начнем с Пушкина. Воплощение абсолютного зла — таинственная, как будто
возникшая из небытия, Шамаханская царица, погубившая тихое и мирное царство
Дадона.
Все завыли за Дадоном,
Застонала тяжким стоном
Глубь долин, и сердце гор
1 В данном случае я не считаю нужным указывать источники столь общеизвестных текстов.
Кроме того, эта тема вообще требует серьезного
исследования и привлечения многих и многих
текстов.
В. А. Хорев: Ты не знаешь,
Таня, как я люблю
красивых женщин?!
Т. М. Николаева: А почему
не знаю? Весь Институт
это знает!
Красота страшна, Вам
скажут.
А. Блок
Николаева Татьяна Михайловна — доктор филологических наук, профессор, член-корр. РАН,
Россия, Москва, Институт
славяноведения РАН
�Виктор Александрович Хорев, женская красота и... 277
Потряслося. Вдруг шатер
Распахнулся… и девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя как заря,
Тихо встретила царя.
Видимо, красавицей была и Ольга Ларина:
Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила,
Глаза как небо голубые;
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан…
И она бездумным кокетством и самолюбием («Румянец пуще
запылал в ее лице самолюбивом») погубила наивного и любящего
ее жениха.
Как будто бы доброй и счастливой дочерью Украины кажется
Мария Кочубей.
И то сказать: в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной.
Она свежа, как вешний свет,
Взлелеянный в тени дубравной.
Как тополь киевских высот,
Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья.
Как пена, грудь ее бела.
Вокруг высокого чела,
Как тучи локоны чернеют.
Звездой блестят ее глаза;
Ее уста, как розы, рдеют.
И однако она любит старого предателя, погубившего ее отца и,
сойдя с ума, безумная, бродит по степи.
И как значительны или просто милы и добры не слишком красивые пушкинские героини — Татьяна:
�278 Татьяна Николаева
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Маша Миронова:
Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне
понравилась.
и другие.
Но сам Пушкин женился на красавице, и судьба его была печальной. Недаром народ отомстил ей своеобразным лингвистическим способом, оставив ее — Гончаровой.
С Пушкина в русской классической литературе начинается почти сознательное (или подсознательное) противопоставление двух
героинь: красавицы и женщины обычной (или просто миловидной).
Вторая всегда несет добро и счастье. Но эта двучленная парадигма
может быть ущербной — красавица может отсутствовать. Добрая и
простодушная Маша Миронова спасает героя (о Татьяне писали так
много, что повторять уже не хочется).
Но в парах распределение всегда единообразно: красота — зло,
не-красота — добро.
Прекрасная Элен вернулась через тысячи лет, по прежнему неся
смуту и зло в самом знаменитом романе мира — «Войне и мире». И
кончает она плохо.
Княжна Элен улыбалась; она поднялась с той же неизменяющейся улыбкой вполне красивой женщины, с которою она
вошла в гостиную. Слегка шумя своею белою бальной робой,
убранной плюющем и мохом, и блестя белизною плеч, глянцем
волос и бриллиантов, она прошла между расступившимися мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и как
бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою
своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде,
груди и спины, и как будто внося с собою блеск бала, подошла к
Анне Павловне. Элен была так хороша, что не только не было в
ней заметно и тени кокетства, но, напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и слишком сильно и победительно
действующую красоту.
�Виктор Александрович Хорев, женская красота и... 279
Итак, красавице Элен Безуховой противостоит очаровательная,
немного смешная, но всеми любимая Наташа Ростова:
Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из
корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными
кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в
том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще
не девушка.
Красавицей является и Анна Каренина, тоже прошедшая сквозь
многие и многие муки. Ей противостоят замученная семейными заботами явно не слишком красивая невестка Долли Облонская и чем-то
напоминающая Наташу Ростову прелестная и скромная Китти.
То же мы находим у Тургенева. Красавица Варвара Павловна ломает судьбу героя и его любимой — застенчивой и некрасивой Лизы.
Также отнюдь не красавицы, но прекрасны душой героини других романов Тургенева.
Эту же пару — добро и зло — мы видим у Достоевского. От самого появления красавицы Настасьи Филипповны веет ужасом и страхом, как от Снежной королевы:
На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном
шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона;
волосы, по-видимому темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение
лица страстное и как бы высокомерное.
И милая и любящая Аглая ничего не может поделать с этой
страшной красотой.
Также непобедима обольстительная Грушенька, женщина уже
совсем другого круга, но легко побеждающая довольно красивую дворянку Катерину Ивановну. Грушенька изображена именно как русская
красавица:
Она была очень бела лицом, с высоким бледно-розовым оттенком румянца. Очертание лица ее было как бы слишком широко, а нижняя челюсть выходила даже капельку вперед. Верхняя
губа была тонка, а нижняя, несколько выдающаяся, была вдвое
�280 Татьяна Николаева
полнее и как бы припухла. Но чудеснейшие, обильнейшие темно-русые волосы, темные соболиные брови и прелестные серо-голубые глаза с длинными ресницами заставили бы непременно
самого равнодушного и рассеянного человека, даже где-нибудь в
толпе, на гулянье, в давке, вдруг остановиться пред этим лицом
и запомнить его.
От кого же исходит добро и свет у этого великого нашего писателя? От маленькой, невзрачной, но сильной духом Сонечки Мармеладовой:
Из толпы, неслышно и робко, протеснилась девушка… Соня
была малого роста, лет восемнадцати, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми глазами.
Именно такое деление на пары, на тьму и свет, находим и в романах Тургенева. Возьмем его знаменитый роман «Дворянское гнездо».
Вот чистая и серьезная «тургеневская девушка» — Лиза Калитина.
Она обрисована просто. Потом такие девушки будут повторяться в его
романах, но внутренний стержень их идентичен:
В то же время на пороге другой двери показалась стройная,
высокая, черноволосая девушка лет девятнадцати — старшая
дочь Марьи Дмитриевны, Лиза.
Конечно, по правилам жанра должна возникнуть в романе ее антитеза — дурная красавица. И это так. Дурной красавицей оказывается позабытая жена Федора Лаврецкого Варвара Павловна.
Вот она появляется:
Облокотясь на бархат ложи, девушка не шевелилась; чуткая
молодая жизнь играла в каждой черте ее смуглого, круглого, миловидного лица; изящный ум сказывался в прекрасных глазах,
внимательно и мягко глядящих из-под тонких бровей, в быстрой
усмешке выразительных губ, в самом положении ее головы, рук,
шеи; одета она была прелестно.
А вот она же, так же ломающая жизнь другим, как и остальные
красавицы, снова появляется после развратной парижской жизни, с
девочкой на руках, в Лавриках перед мужем, который давно считал
ее умершей:
�Виктор Александрович Хорев, женская красота и... 281
Ему навстречу с дивана поднялась дама в черном шелковом платье с воланами и, поднеся батистовый платок к бледному
лицу, переступила несколько шагов, склонила тщательно расчесанную душистую голову — и упала к его ногам… Он глядел на
нее бессмысленно и, однако, тотчас же невольно заметил, что она
и побелела и отекла.
О русских писателях в этом плане можно сказать очень много, и
список несущих зло красавиц открыт. И несут они зло не всегда сознательно. Такова Елена Андреевна в «Дяде Ване» Чехова, противостоящая тихой и ни на что не надеющейся падчерице Соне. И Елена
Андреевна ломает жизнь этой как бы притерпевшейся друг к другу
семьи. Такова и красавица в одноименном страшном рассказе того же
Чехова.
Можно спросить, почему красавицы у нас в литературе не в чести. Ответить на это сложно. Но думаю, что эта особенность нашей
литературы находится в глубинной связи с тем, что в нашем фольклоре нет ни прелестных фей-благодетельниц, ни милых гномиков, ни
порхающих хорошеньких эльфов.
Но есть и другая страна великой литературы, где тоже можно
говорить об этом же противопоставлении. Это Англия. Страна, где
положительные героини любимы и не слишком красивы. Например,
такова Джейн Эйр из романа Шарлотты Бронте, такова милая Эстер
Саммерсон (не случайно Диккенс заставляет ее переболеть оспой),
противостоящая родной матери — ослепительной красавице леди
Дедлок. Любящая и скромная Флоренс Домби противостоит второй
жене отца — красавице Эдит Домби.
Дженнифер из романа Дафны Дю Морье «Ребекка» также спасает мужа героини от губительной страсти к уже умершей красавице —
первой жене Ребекке.
Итак, куда же деться молодому литературоведу, любящему литературу и к тому же красивых женщин?
Остаются только две страны: Франция и Польша. Правда, во
Франции мы видим негодяйку Миледи — леди Винтер (но она —
Анна де Бейль — хоть замуж вышла за англичанина, так что не совсем
француженка), а в Польше — надменную «Куклу» Болеслава Пруса.
Французы не меняли свое отношение к женской красоте со времен Пьера де Бурдейя аббата де Брантома:
Ничто в мире не сравнимо с красивой женщиной, либо
пышно разодетой, либо кокетливо обнаженной и возлежащей на
�282 Татьяна Николаева
ложе… В безобразном коренятся великие несчастья и неудовольствия… красоту же отличает любовь и радость.
Именно описание женской красоты Пьера де Брантома вспоминают почти одновременно М. Ю. Лермонтов в «Тамани» и Проспер
Мериме — в «Кармен».
Но ничего! Все равно мы знаем, что польские женщины — самые
красивые в мире.
И Виктор Александрович Хорев выбрал польскую литературу!
Почему? Потому что
Нет на свете царицы краше польской девицы.
Весела — что котенок у печки —
И как роза румяна, а бела, что сметана;
Очи светятся будто две свечки.
�Вера Оцхели
(Кутаиси)
Реминисценции
из И. С. Тургенева
в малой прозе
Я. Ивашкевича
Оцхели Вера Ивановна —
доктор филологических
наук, Грузия, Кутаиси,
Кутаисский государственный университет
Начиная с 1859 г., времени первой
польской публикации «Записок охотника», И. С. Тургенев был и остается по
сей день одним из наиболее популярных
в Польше русских писателей-реалистов.
Причин такой популярности автора «Дворянского гнезда» несколько: и его высокое
художественное мастерство, и широкая
известность в Европе, и, главное, толерантность по отношению к «польскому
вопросу», которая определила раз и навсегда место русского писателя в польской
общественной среде. «Из всех русских
писателей именно Тургенев заслуживает
особого уважения поляков, — писал известный польский литературный критик
Г. Глиньский, — потому что, не вникая в
вопросы ему не знакомые, никогда не выступал против нас, никогда не сеял ненависти… Великое это было сердце»1.
Художественное наследие автора «Отцов и детей» оказало значительное воздействие на творчество многих современных
Тургеневу польских писателей, хотя не все,
в силу определенных политических причин, могли это признавать. Правда, С. Жеромский называл Тургенева своим любимым писателем и не скрывал, сколь важную роль сыграло знакомство с ним в формировании его собственного творчества.
«Желая того или нет, — признавался он, —
�284 Вера Оцхели
но в своих литературных пробах я часто прибегал к реминисценциям
из Тургенева»2. С. Бжозовский, определяя характер своего творческого развития, называл И. Тургенева одним из своих первых учителей3.
Влияние Тургенева на творчество польских писателей отмечалось как в
польском, так и в российском литературоведении. Так, К. Заводзинский
писал о близости некоторых повестей Ю. Крашевского рассказам Тургенева из «Записок охотника», М. Жмигродская проводила параллели
между отдельными образами молодых бунтарей в романе Э. Ожешко
«Призраки» и героями романа Тургенева «Отцы и дети». Е. Цыбенко
отмечала влияние романов Тургенева «Рудин», «Накануне», «Дым» на
роман Ожешко «Над Неманом». Д. Овсянико-Куликовский сравнивал
образ тургеневской Лизы Калитиной с образом Магдалены Бжеской из
романа Б. Пруса «Эмансипантки». О влиянии Тургенева на творчество
Г. Сенкевича писал А. Хмелевский. В. Оцхели выдвинула гипотезу о
творческом воздействии повести Тургенева «Вешние воды» на повесть
В. Реймонта «Вампир».
Важное место принадлежит И. Тургеневу и в формировании художественного мастерства Ярослава Ивашкевича — писателя-интеллектуала, занимающего одно из центральных мест в литературе Польши
XX в. Уже с юности русская культура и литература были особенно близки автору «Хвалы и славы». Будучи студентом юридического факультета Киевского университета и одновременно учась в консерватории,
он страстно увлекался музыкой Чайковского, Рахманинова, Скрябина,
много читал из русской классической литературы. Российская исследовательница В. В. Витт подчеркивала, что «Толстой, Достоевский, Тургенев… много значили для творческого развития будущего писателя»4.
Связь отдельных произведений Ивашкевича с русской литературой уже отмечалась как российскими, так и польскими учеными. Так,
по мнению некоторых исследователей, роман «Хвала и слава» вобрал
в себя отдельные мотивы исторической эпопеи Л. Толстого «Война
и мир», а повесть «Мать Иоанна от Ангелов» является своеобразной
перекличкой с идеями Достоевского5.
Особое внимание Ивашкевича привлекала малая проза Тургенева. Он отмечал ее «совершенство и законченность… особую поэтическую атмосферу, автобиографический характер и… близость своим
рассказам»6. Уже современники Ивашкевича видели некоторое сходство его рассказа «Конгресс во Флоренции» (1941) с повестью Тургенева «Вешние воды» (1854). Илья Эренбург был первым, кто обратил
на это внимание. Соглашаясь с его мнением, Ивашкевич в воспоминаниях об Эренбурге пишет: «В моем рассказе, несомненно, много
общего с этой прекрасной повестью — и это не был со стороны Эрен-
�Реминисценции из И. С. Тургенева в малой прозе... 285
бурга просто комплимент. Я тотчас же признал его правоту и сослался на мнение, высказанное… французским критиком Эдмоном Жалю,
также сравнившим мои рассказы с Тургеневым»7. Позднее российский
литературовед М. Мальков назовет рассказ «Конгресс во Флоренции»
«парафразой тургеневской повести»8. Однако, несмотря на подобные
высказывания, никто из названных авторов не провел конкретный
сопоставительный анализ произведений польского и русского писателей. Вместе с тем такое сопоставление дает, на наш взгляд, возможность увидеть не только сюжетное сходство названных произведений,
но главное — близость рассказа Ивашкевича центральной мысли, так
называемой идее, повести Тургенева: показать любовь как некую стихийную, разрушительную силу, подчиняющую себе любого и заставляющую действовать вне законов разума и логики.
Повесть «Вешние воды» создавалась Тургеневым в Лондоне в
период душевного кризиса, вызванного отношениями с Полиной Виардо, которая, как известно, была и счастьем, и трагедией всей жизни
великого писателя. Тургенев вложил в повесть огромный творческий
труд и не скрывал ее автобиографического характера. Автобиографическая основа повести «Вешние воды» передана И. Павловским в
воспоминаниях о Тургеневе, вышедших в Париже в 1887 г. Прочитав
в 1873 г. французский перевод «Вешних вод», Густав Флобер написал:
«Это произведение поселяет в сердце читателя любовь: улыбаешься,
и хочется плакать!»9 Видимо, именно эта способность Тургенева, нашедшая блестящее выражение в повести «Вешние воды», стала импульсом для Ивашкевича, создавшего свою версию романтической и
одновременно трагической истории любви.
Сюжет повести «Вешние воды» состоит как бы из двух частей.
Первая — история чистой и поэтической любви помещика Дмитрия
Санина и юной итальянки Джеммы Розелли, дочери хозяйки кондитерской, с которой он случайно познакомился во Франкурте-на-Майне, возвращаясь в Россию из путешествия по Европе. Страницы, описывающие зарождение и расцвет любви Дмитрия и Джеммы, полны
света, планов на будущее. Переворот в судьбе влюбленных происходит под влиянием случая, который столкнет Санина с Полозовым, его
старым знакомым по университету, и его женой Марией Николаевной. Красивая, обольстительная, коварная госпожа Полозова заключает с мужем пари, ставка в котором — сердце Санина. Интрига, пикантность и напряженность ситуации состоит в том, что это сердце
принадлежит другой женщине. Полозова делает все, чтобы добиться
своего. История взаимоотношений Санина и Марии Николаевны составляет содержание второй части повести. В ней царят грубая чув-
�286 Вера Оцхели
ственность, мрак и безнадежность. Поддавшись любовному наваждению, Дмитрий бросает свою невесту и, забыв данное ей слово, нарушив кодекс чести, послушно, как раб, следует за той, которая стала его
властительницей, безжалостно растоптавшей всю его жизнь. Тургенев подводит читателя к пессимистическому выводу о бессмысленности любых начинаний человека в поисках счастья, о трагикомичности
борьбы с тем, что предопределено, а потому неминуемо и неизбежно.
Аналогичную ситуацию наблюдаем в рассказе Ивашкевича
«Конгресс во Флоренции», также состоящем как бы из двух частей. В
его центре история неожиданно начавшейся и быстро оборвавшейся
любви польского писателя Эммануэля Красовича и итальянки Карлы
Луккези. Поездка во Флоренцию на Международный конгресс деятелей культуры, на который Красович попал случайно, перечеркнула всю его прежнюю спокойную и размеренную жизнь варшавского
холостяка. Пансион, где были забронированы места для польской
делегации, станет местом зарождения и развития любовных отношений между Ману и Карлой, дочерью хозяина пансиона. Стремительно
ворвавшаяся в жизнь молодых людей любовь меняет восприятие ими
окружающего мира: они видят его в светлых, радужных красках. Но
неожиданно этот мир рушится. На конгрессе Красович знакомится с
парижской красавицей, «чертами лица напоминающей Марию Антуанетту», графиней Жанной Судре. Властная, чувственная, привыкшая
подчинять всех своей воле, заставлять исполнять свои капризы, она
станет причиной несчастий влюбленных. Старые поклонники надоели Жанне, и она решает завлечь в свои сети польского писателя.
Желание Судре покорить Красовича, так же как в повести Тургенева,
усиливается от того, что он любит другую женщину. Светская львица делает все, чтобы ее желание исполнилось. Рядом с Судре мир,
окружающий Красовича, теряет свою прелесть, становится мрачным.
Но молодой человек не способен укротить свои низменные страсти.
Понимая ошибочность своего решения, он тем не менее подчиняется
требованию Судре и, оставив Карлу, уезжает с ней в Германию.
Интересно сопоставление финалов повести Тургенева и рассказа
Ивашкевича. Оно говорит о творческом восприятии польским писателем тургеневского произведения. Тургенев в конце повествования
по-своему ставит точки над «i», рассказывая о дальнейшей жизни Санина и Джеммы спустя 30 лет. Мы видим Санина одиноким, усталым,
разочарованным, испытывающим отвращение к жизни. Узнаем об
удачном замужестве Джеммы, о ее счастливом материнстве. В отличие от повести Тургенева, дальнейшая судьба героя рассказа Ивашкевича нам не известна. Хотя Ману и возвращается во Флоренцию и, не
�Реминисценции из И. С. Тургенева в малой прозе... 287
застав там Карлу, отправляется на ее поиски, читателю не дано узнать
конца этой истории. Ивашкевич оставляет финал рассказа открытым.
Удивительная способность Тургенева передавать тончайшие нюансы душевного состояния влюбленного человека, быструю смену
настроения — от радости к печали, от восторга к злобе, от доверия к
ревности — потрясает. Именно эту способность Тургенева выделил
французский критик и теоретик литературы Эмиль Геннекен: «Нет
писателя более способного на глубокий анализ опасностей и опустошений, причиняемых любовью, — считал он, — чем автор “Дыма” и
“Вешних вод”»10. Например, в повести «Первая любовь» (1860), также
носящей автобиографический характер, Тургенев изображает различные оттенки первого, захлестнувшего подростка, чувства. Думается,
что отголоски этого рассказа Тургенева слышны в рассказе Ивашкевича «Девушка и голуби» (1961). Ивашкевич так же, как Тургенев,
стремится показать особую прелесть первой любви, так же изображает различные оттенки зарождающегося и постепенно развивающегося
у юноши чувства, удивительного по своей неповторимости и охватившего все его существо. Исследуя проблему литературного влияния,
А. В. Федоров отмечает: «В тех случаях, когда нет авторских признаний об использованных ими влияниях, об их так называемых “вдохновителях”, следует подчеркнуть важность стилистических сопоставлений, стилистического анализа, как одного из путей к установлению
литературных связей»11. Стилистический анализ повести Тургенева
«Первая любовь» и рассказа Ивашкевича «Девушка и голуби» доказывает наличие конкретных связей между ними.
Магическая тяга к женщине предшествует появлению первой
любви у героев обоих произведений. Герой Тургенева, например,
испытывает «…стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно
сладкого, женского…» (Т. 6, С. 306), а Эдек, герой рассказа Ивашкевича, «…невольно и совершенно бессознательно возвращался к одной и той же теме. Темой всех его разговоров были женщины…» (С.
289). Встретив «предмет» своей любви, юноши стараются держать его
постоянно в поле зрения, видеть возлюбленную становится для них
насущной необходимостью. Герой Тургенева, «как привязанный за
ножку жук, кружился постоянно вокруг любимого флигелька» (Т. 6,
С. 328), где жила Зинаида, а Эдек «то и дело поглядывал на Басины
окна, где то тут, то там мелькал знакомый силуэт» (С. 299). Любовное
томление, грусть, когда возлюбленной нет рядом, в одинаковой степени характеризуют состояние персонажей обоих произведений. Герой
Тургенева «…изнывал в отсутствии Зинаиды… ничего на ум не шло,
все из рук валилось, он по целым дням напряженно думал о ней…» (Т.
�288 Вера Оцхели
6, С. 326) Аналогично состояние Эдека после отъезда Баси: «…он тоскует так, как никогда еще не тосковал. Ничто его не трогало, все стало безразличным… У него было лишь одно желание — снова увидеть
Басю…» (С. 304). Вечной спутницей любви, как известно, является
ревность. «Я ревновал, — пишет о себе герой рассказа Тургенева, — я
сознавал свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал —
и все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней» (Т. 6, С. 326). Эдек
тоже ревнует Басю, тоже без повода дуется и тоже быстро успокаивается и радуется жизни, как только Бася берет его за руку (С. 308).
О близости рассказа Ивашкевича «Девушка и голуби» тургеневской «Первой любви» говорит и присутствие соперника в обоих
произведениях. У Тургенева это отец юноши, у Ивашкевича — старший брат Эдека, Стась. Конечно, у Тургенева этот образ несет гораздо
большую смысловую нагрузку. И это не случайно — Тургенев описывал эпизод своей юности. А вот появление такого образа в рассказе
Ивашкевича позволяет говорить об определенной перекличке с рассказом русского писателя.
Как нам представляется, Ивашкевич не остался равнодушным
еще к одному (скорее всего, не только к одному) произведению Тургенева — повести «Муму» (1854), примыкающей в идейном и художественном отношении к «Запискам охотника». В повести «Муму»
Тургенев с удивительным художественным мастерством рассказывает печальную историю из жизни крепостного крестьянина, немого
силача Герасима. Думается, что в рассказе «Тано» (1978), в котором
Ивашкевич раскрывает трагедию бывшего немецкого военнопленного Хайнца, живущего уже несколько лет на вольном поселении в
русском провинциальном городке, есть реминисценции из повести
Тургенева, что его рассказ впитал в себя некоторые мотивы «Муму» и
перекликается с ней отдельными сюжетными линиями. Прежде всего,
Ивашкевич, на наш взгляд, заимствует у русского писателя принцип
художественного построения центрального персонажа. Несмотря на
разное историческое время, в котором живут Герасим и Хайнц, разный менталитет, разную причину трагического положения, они в
определенном смысле близки друг другу. Герасим — олицетворение
полной бесправности русского народа в период господства крепостного права, абсолютной зависимости крестьянина от жестоких нравов
помещика, собственностью которого он являлся. Рассказывая историю дворника Герасима, Тургенев показывает, каким страшным злом
было крепостное рабство, жертвой которого был герой его повести.
Военнопленный Хайнц, герой рассказа Ивашкевича — олицетворение трагедии целого поколения немцев военной и послевоенной эпо-
�Реминисценции из И. С. Тургенева в малой прозе... 289
хи, ставшего жертвой фашизма — силы, которая лишала людей воли,
способности сопротивляться, заставляла подчиняться приказам, несущим смерть и разрушения. Повесть Тургенева носит явный антикрепостнический характер, рассказ Ивашкевича имеет антифашистскую направленность. «Человек как участник и жертва истории» —
так определяет В. Витт одну из основных проблем прозы Ивашкевича. Можно говорить о том, что оба произведения соответствуют этой
формуле. Крепостное право разрушило жизнь Герасима. Утратив надежду на любовь, потеряв единственное живое существо, приносящее
ему радость и безгранично к нему привязанное, Герасим в конце повести — одинокий бобыль, для которого в жизни существует только
подневольный труд. Жизнь Хайнца сломал фашизм. Он разочаровался
в прежних идеалах, которым верно служил, но утратив их, не видит
для себя места в новой жизни. Фашизм превратил его в «…человека с
выжженным нутром, у которого в душе один пепел» (С. 422).
Оправданием выдвинутой нами гипотезы может служить и то,
что рассказ Ивашкевича так же, как повесть Тургенева, носит имя
собаки, к которой герой бесконечно привязан. «Ни одна мать так не
ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей… — читаем у Тургенева. — Герасим любил ее без памяти…»
(Т. 4, С. 258). «Для него на всем свете существует только его пес…
Романтична была сама эта любовь к псу», — находим у Ивашкевича (С. 397). Особенным было и отношение собак к своим хозяевам.
Они не любили тех, кто мог хоть как-то навредить им (барыня у Тургенева и Кирилл у Ивашкевича), чутко, по-человечески реагировали
на настроение хозяина, с которым составляли как бы единое целое.
Насильственная смерть животных, смерть от руки любящего и любимого хозяина, являющаяся в обоих произведениях кульминацией
повествования, заставляет даже предположить, что Ивашкевич не
скрывал близости своего рассказа к повести Тургенева.
В конце повести Герасим, утопив Муму, уже не возвращается к
барыне, как бы отрекается от прежней жизни, где он, крепостной раб,
был вынужден безропотно выполнять любые капризы стареющей и
взбалмошной помещицы. Он исполнил приказ избавиться от Муму, исполнил, так как еще сильна была зависимость крепостного от своего
господина, но, сделав это, пусть и невольно, протестует. Протест Герасима — неповиновение. Без позволения, что само по себе было для него
прежде невообразимо, он покидает барыню и отправляется в деревню.
Самоубийство Хайнца в финале рассказа Ивашкевича — это
тоже своего рода протест. После долгих лет мучительных ожиданий,
когда он наконец получает разрешение вернуться на родину, Хайнц
�290 Вера Оцхели
осознает, что родины в ее истинном понимании для него уже не существует. Его родной город разрушен, близких давно нет в живых, и он,
бывший гитлеровский солдат, теперь всем чужой. Чужой он и в России, где, как ему казалось, он обрел себя. Фашизм превратил Хайнца
в изгоя. Не видя для себя иного выхода, он выбирает единственный
оставшийся для него путь: вкалывает себе смертельную дозу яда.
Особого разговора заслуживает символика, заложенная в имени и
судьбе собаки Хайнца — Вотана (Тано). Один или Вотан в германо-скандинавской мифологии — это бог войны и победы, покровитель военной
аристократии, хозяин Вальхаллы, чертога павших в битве героев, и повелитель валькирий, воинственных дев, доставляющих мертвых героев в
Вальхаллу. Видимо, в этом имени и ирония, и грусть, и сожаление. Однако решение данного вопроса выходит за рамки нашей темы.
В заключение следует сказать, что реминисценции из Тургенева
в малой прозе Ивашкевича показывают еще один пример преемственности в развитии литературы.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Gliński H. Iwan Turgieniew // Swiat. 1888. S. 552.
Czuchowa T. Żeromski w szkole Turgieniewa. Katowice, 1967. S. 561.
Trochimiak J. Turgieniew. Lublin, 1985. S. 113.
Витт В. Ярослав Ивашкевич // Писатели Народной Польши. М., 1976.
С. 66.
Туркевич Г. К. Особенности реализма романа Я. Ивашкевича «Блендомежские страсти» // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. М., 1989. № 3.
См: Цыбенко Е. З. Ярослав Ивашкевич и русская литература // Из истории польско-русских литературных связей XIX–XX вв. М., 1978. С. 259.
Iwaszkiewicz J. Wspomnienie o Erenburgu // Tworczosc. 1967. № 11. S. 94.
Мальков М. Певец гуманистической культуры // Ярослав Ивашкевич.
Избранное. Л., 1987. С. 15. Далее страницы из этого издания указываются в тексте.
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. в 30 т. М., 1981. Т. 8. С. 515. Далее тома и
страницы этого издания указываются в тексте.
См.: Чернец Л. В. О восприятии творчества И. С. Тургенева на Западе // Сравнительное литературоведение: теоретический и исторический
аспекты. М., 2003. С. 205.
Федоров А. В. К вопросу о литературном влиянии // Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур. М., 1961. С. 302.
�Войчех Павляк
(Варшава)
Русские писатели
в Польше
(1944–2009)
Павляк Войцех / Pawlak Woj
ciech — Польша, Варшава,
Национальная Библиотека
в Варшаве
Е. Гедройц полтора десятилетия назад писал: «Россия для Польши — самая
большая и трудная проблема. К сожалению, общество о России по сути ничего
не знает. Оно оперирует только стереотипами: относится к России с презрением и
необоснованным чувством превосходства,
или с подобострастием — печальным наследием ПНР»1.
Профессор Виктор Александрович
Хорев, выдающийся русский ученый, известный исследователь польской литературы, Amicus Poloniae, внес своими работами огромный вклад в дело сближения
двух народов на почве культуры.
Национальная библиотека в Варшаве
(далее — НБ), главная библиотека страны,
имеет в своем собрании несколько десятков публикаций, автором или соавтором
которых является профессор В. А. Хорев.
Это авторские монографии, сборники
статей, переводы с польского на русский
язык, работы под его редакцией, книги с
его предисловием или вступлением. Также там имеются все выпуски ежегодного
журнала «Славянский альманах» (1996–
2006), главным редактором которого он
был.
Самая ранняя публикация, в которой
профессор Хорев выступил соавтором, в
собраниях НБ — это русское издание ро-
�292
Войчех Павляк
мана Т. Т. Ежа2, самая последняя — статья «Современная польская
критика о литературе в ПНР (1945–1989)»3. Символично, что автором
другой статьи в этом сборнике является замечательная ученица профессора Хорева, продолжательница его творческих поисков И. Адельгейм4.
В НБ хранится и opus magnum В. А. Хорева, посвященный польской литературе XX в. и свидетельствующий об огромных познаниях
и глубоких размышлениях автора, о его очарованности польской литературой5.
Во время своих многочисленных командировок в Варшаву профессор Хорев посвятил работе в НБ сотни часов. Сегодня, когда его
нет среди нас, его книги и статьи, хранящиеся в собраниях самой
большой польской библиотеки, служат и будут всегда служить материалом для компаративистских исследований в области польской и
русской литературы.
Важной частью самого большого в Польше собрания книг, создававшегося с 1928 по 2013 гг. в НБ, являются российские и советские
публикации о России и СССР. Благодаря многолетнему сотрудничеству с российскими библиотеками, книжному и журнальному обмену
между ними, была собрана внушительная коллекция публикаций о
России в прошлом и настоящем, о ее истории, культуре и искусстве.
Эта коллекция включает сотни оригинальных изданий текстов художественной литературы, столь важных в жизни русского народа. «В
канон русских народных мифов вошло герценовское определение литературы как второй власти, настоящего правительства над душами.
Без этой традиции не было бы ни самиздата, ни Солженицына», —
писал Е. Помяновский6.
Выполняя уставную обязанность собирания, обработки, обеспечения доступа и вечного хранения письменного наследия Польши,
Национальная библиотека собрала огромный фонд русской художественной литературы, переведенной на польский язык и изданной в
Польше. «Русские писатели, — сказал в интервью Е. Помяновский,
— обладали своей армией читателей, и нельзя было вычеркнуть из
школьной программы ни Пушкина, ни Шолохова, ни Толстого, ни
даже всего Достоевского. Это русская интеллигенция, не крестьяне и
не рабочие, пронесла через эти семьдесят лет два сокровища: книги и
память о прошлом»7.
В данной статье я хочу продемонстрировать присутствие произведений русских писателей на польском книжном рынке в период
65 послевоенных лет (1944–2009). Эти издания, зарегистрированные
в библиографиях, каталогах и статистических ежегодниках НБ (в на-
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 293
стоящее время в оцифрованной версии) являются очень важным элементом культурного сотрудничества двух стран в области литературы8.
В первой части (I) помещен список 44 русских писателей, чьи
произведения имели в Польше в период с 1944 по 2009 гг. как минимум 15 изданий. Список дополнен информацией об общем тираже (в
экземплярах) всех изданий произведений данного писателя.
Вторая часть (II) — это список произведений русских писателей,
которые имели в Польше не менее 10 изданий за описываемый период. Список, помимо основной информации (автор, название польского
перевода и русского оригинала, переводчик), содержит данные об общем числе изданий (от первого до последнего), тиражах (общих; наибольших), отдельных издательствах, иллюстраторах и издательских
сериях. Отмечены также редакции на языке оригинала, изданные в
Польше как школьные учебники для изучения русского языка.
Третья часть работы (III) посвящена одной книге и ее потрясающему успеху в Польше — гениальному роману «Мастер и Маргарита»
M. Булгакова.
I. Русск ие п исател и, ч ьи п роизведен и я имел и в Пол ьше в
период с 1944 по 2009 гг. к ак ми н имум 15 изд а н и й
Автор
Количество изданий
Тираж
Айтматов Ч.
17
342 000
Акунин Б.
27
259 000
Ахматова А.
17
136 000
Бианки В.
42
4 103 000
Бондарев Ю.
18
304 000
Бродский И.
27
108 000
Булгаков М.
74
1 585 000
Булычев К.
40
1 203 000
Бунин И.
19
403 000
Виноградов А.
15
603 000
Гайдар А.
67
3 744 000
Гоголь Н.
57
1 423 000
�294
Войчех Павляк
Горький М.
123
3 762 000
Гранин Д.
15
149 000
Грин А.
20
559 000
Гулия Г.
19
377 000
Достоевский Ф.
94
2 526 000
Каверин В.
20
320 000
Катаев В.
50
1 853 000
Крылов И.
18
625 000
Лермонтов М.
24
223 000
Маршак С.
33
1 421 000
Маяковский В.
44
978 000
Михалков С.
45
1 910 000
Набоков В.
49
761 000
Окуджава Б.
22
272 000
Панова В.
21
431 000
Паустовский К.
57
1 432 000
Полевой Б.
47
1 947 000
Пушкин А.
120
2 727 000
Рыбаков А.
22
1 156 000
Симонов К.
47
869 000
Солженицын А.
59
863 000
Стругацкий А., Стругацкий Б.
45
1 010 000
Суворов В.
37
261 000
Тендряков В.
17
402 000
Толстой А.Н.
65
2 359 000
Толстой Л.
128
4 083 000
Тургенев И.
70
2 638 000
Фадеев А.
28
645 000
Чехов А.
93
2 891 000
Чуковский К.
26
2 261 000
Шолохов М.
59
2 864 000
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 295
Эренбург И.
44
896 000
II. П роизведен и я русск их п исателей, имевш ие в Пол ьше
в 1944 –2009 гг. к ак ми н имум 10 изд а н и й
Автор,
название
Переводчик
Бек А.
St. Okęcki
«Волоколамское (ред. пер.);
шоссе»
(«Szosa
St. Klonowski
Wołokołamska»)
Количество
изданий,
тираж
(экз.)
Издательства
(в хронологическом порядке;
если не указан иной город,
издательство находится в
Варшаве), информация об
изданиях
Общее число
изданий: 14
(1-е изд. —
1947;
последн. —
1978).
«Książka» (1947, 1948)
Пер.: St. Okęcki
(ред. пер. 1947, 1948);
St. Klonowski (1948).
Число изд.: 3 (1947, 1948 —
дважды)
«Książka i Wiedza»
Пер.: St. Klonowski
(1949–1953);
St. Okęcki (ред. пер. 1949).
Наибольшие
Число изд.: 5 (1949, 1950 —
тиражи
дважды, 1951, 1953).
отдельных
Сер.:
изданий:
100 336 (1972), Biblioteka Chłopskiej Drogi.
100 000 (1956). № 9 (1950).
В 1949 г. это издательство
дважды выпустило роман
в сценической адаптации
Х. Краевской
в сер. «Biblioteka Świetlicowa» (№ 27).
Общий тираж:
472 000.
Wydawnictwo Ministerstwa
Obrony Narodowej
Пер. St. Klonowski, предисл.:
К. М. Симонов (1967).
Число изд.: 5 (1955, 1956,
1967, 1972, 1978).
Сер.:
Biblioteka Bellony (1978)
Изд. 9 исправленное (1967)
было принято в школьные
библиотеки.
�296
Войчех Павляк
Белышов И.
«Упрямый
котенок»
(«Uparty
kotek»)
M. Górska
Общее число
изд.: 10
(1-е — 1949;
последн. —
1961).
Общий тираж:
737 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
200 207
(1957),
90 160
(1953, 1954)
A. Kaltbaum
120 205
Инсценировка 5 000
H. Kruk.
Кукольный
спектакль
«Uparty kotek»
Булгаков М.
«Мастер и
Маргарита»
(«Mistrz
i Małgorzata»)
«Nasza Księgarnia»
Число изд.: 8 (1949, 1950,
1952, 1953, 1954, 1956, 1960,
1961).
Худ.: Е. И. Чарушин (из сов.
изд. 1949–1953); F. Starowieyski (1955); Z. Fijałkowska
(1956–1961).
Сер.: Od Książeczki do Biblioteczki (1950–1954).
Filmowa Agencja Wydawnicza Стихотворная обработка
фильма по мотивам этой
сказки (1956).
Илл.: A. Kopczyńska,
H. Zakrzewska
Teatr Kukiełkowy
«Tyci — Tyci», Краков (1975)
Сер.: Biblioteka Teatrzyku
Kukiełkowego «Tyci — Tyci»
(прилож. к комплекту кукол)
Пер.:
I. Lewandowska, W. Dąbrowski.
Сост. 4 т.
«Избранных произведений»
(1994):
A. Wołodźko.
Число изд.: 6 (1994 — в т. 3
Общий
«Избранных произведений»,
тираж:
2001, 2002, 2003, 2004 —
1 001 100.
здесь на основе немецкого
издания романа (Frankfurt/
Наибольшие
Main: Possev-Verlag, 1969)
тир. отдельн.
цветом выделены места,
изд.:
100 320 (1988), изъятые советской цензурой.
100 000 (1988, Худ.: I. Kulik (2003).
Сер.: Biblioteka Bestsellerów
доп. тираж)
(1994 — «Dzieła wybrane»
T. 1–4; 2002).
I. Lewandowska Общее число
i W. Dąbrowski; изд.: 32
(1-е — 1969;
A. Drawicz
последн. —
2009).
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 297
«Czytelnik»
Пер.: I. Lewandowska, W.
Dąbrowski.
Число изд.:
16 (1969, 1970, 1973, 1980,
1983, 1987, 1988
(изд. 7; изд. 7 доп.), 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997
(изд. 14, изд. 15, изд. 1 [по
сути 16]).
Сер.:
Nike (1969, 1970);
Biblioteka Klasyki Polskiej i
Obcej (1973);
Biblioteka «Czytelnika» (1997).
Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Вроцлав
Пер.: I. Lewandowska,
W. Dąbrowski.
Вступл.: A. Drawicz.
Ред., примеч.: G. Przebinda.
Число изд.: 1 (1990).
Сер.: Biblioteka Narodowa.
Seria 2. Nr 229.
«Muza»
Wydawnictwo Dolnośląskie,
Вроцлав
Пер.: A. Drawicz.
Число изд.: 2 (1995, 1999).
Сер.: Biblioteka Klasyki
(1995);
Kanon na Koniec Wieku (1999;
совм. с: Porozumienie Wydawców, Варшава)
Prószyński i S-ka
Пер.: I. Lewandowska, W.
Dąbrowski.
Число изд.: 4 (1998, 1999 —
дважды, 2000).
Сер.: BIP – Biblioteczka Interesującej Prozy (1999, 2000).
«Świat Książki»
Пер.: A. Drawicz.
Послесл.: J. Gondowicz.
Число изд.: 2 (1999, 2003).
�298
Войчех Павляк
De Agostini Polska
«Altaya» Polska
Пер.: I. Lewandowska,
W. Dąbrowski.
Число изд.: 1 (2002).
Сер.: Arcydzieła Literatury
Współczesnej.
«Mediasat Poland», Краков
Пер.: I. Lewandowska,
W. Dąbrowski.
Число изд.: 1( 2004).
Сер.: Kolekcja Gazety Wyborczej: XX wiek; 4.
Wydawnictwo Rea
Роман вышел на языке
оригинала.
Число изд.: 1 (2005).
Сер.: Klasyka Literatury
Wszech Czasów
Достоевский Ф. A. Wat;
«Братья
A. Pomorski;
Карамазовы»
W. Wireński
(«Bracia
Karamazow»)
Общее число
изд.: 15
(1-е — 1959;
последн. —
2009).
Общий тираж:
177 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
50 000 (1987),
30 290 (1978).
Państwowy Instytut Wydawniczy
Пер.: A. Wat.
Число изд.: 5 (1959, 1970,
1978, 1984, 1987).
Изд. 1 (1959) вышло в: Z pism
Fiodora Dostojewskiego /
Pod red. P. Hertza.
Изд. 1984, 1987 г. —
в составе: Dzieła wybrane.
Сер.: Biblioteka Klasyków
(1984).
Wydawnictwo Dolnośląskie,
Вроцлав
Пер.: A. Wat.
Послесл.: A. Drawicz.
Число изд.: 1 (1993).
Сер.: Biblioteka Klasyki.
Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Вроцлав
Пер.: A. Wat.
Ред.: J. Smaga.
Число изд.: 1 (1995).
Сер.: Biblioteka Narodowa.
Ser. 2. № 237.
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 299
Prószyński i S-ka
Пер.: A. Wat.
Число изд.: 1 (2002).
Сер.: Klasyka Powieści.
Polskie Media Amer. Com.
Пер.: нет инф.
Число изд.: 1 ( 2003).
«Świat Książki»
Пер., предисл.: A. Pomorski.
Число изд.: 1 (2004).
Сер.: Arcydzieła Literatury
Światowej.
«Znak», Краков
Пер.: A. Pomorski.
Число изд.: 2 (2004, 2009).
Сер.: Znakomita Kolekcja
(2004), 50 na 50 (2009).
Wydawnictwo Zielona Sowa,
Краков
Пер.: W. Wireński.
Послесл.: A. Kluzek.
Число изд.: 3 (2005 — 2 изд.,
2009).
Сер.: Złota Seria (2005), Arcydzieła Literatury Światowej —
Zielona Sowa (2005).
Достоевский Ф. J. Jędrzejewicz; Общее число
изд.: 10 (
«Идиот»
J. Gładyś
1-е — 1961;
(«Idiota»)
последнее —
2009).
Общий тираж:
188 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
50 000 (1987),
30 290 (1977,
1979).
Państwowy Instytut
Wydawniczy
Пер.: J. Jędrzejewicz.
Число изд.: 6 (1961, 1971,
1977, 1979, 1984, 1987).
Изд. 1 (1961) — в сер.: Z pism
Fiodora Dostojewskiego /
Pod red. P. Hertza.
Издания «Идиота»
1984, 1987 гг. — в составе:
Dzieła wybrane.
Сер.:
Biblioteka Klasyków (1984).
Polskie Media Amer. Com.
Пер.: нет инф.
Ред.: M. Eckiert.
Число изд.: 1 (2004).
�300
Войчех Павляк
Wydawnictwo Zielona Sowa,
Краков
Пер. и послесл.: J. Gładyś
(2007).
Число изд.: 3 (2005, 2007,
2009).
Сер.:
Arcydzieła Literatury Światowej (2005);
Złota Seria: literatura obca
(2007).
Достоевский Ф.
«Преступление
и наказание»
(«Zbrodnia
i kara»)
Cz. JastrzbiecKozłowski;
J. P. Zajączkows ki
(коллективный
псевдоним)
Państwowy Instytut Wydawniczy
Пер.: Cz. Jastrzębiec-Kozłowski.
Послесл.: A. Stawar (1956).
Число изд.: 12 (1955, 1956,
1957, 1966, 1971, 1974, 1977,
Общий тираж: 1978, 1979, 1984, 1986, 1987).
Изд. 1 (1955) —
884 000.
в составе: Z pism Fiodora
Dostojewskiego /
Наибольшие
Pod red. P. Hertza.
тир. отдельн.
Издания 1984, 1987 гг. —
изд.:
200 150 (1978), в составе: Dzieła wybrane.
100 250 (1987). Сер.:
Biblioteka Arcydzieł; Najsławniejsze Powieści Świata
(1957);
Biblioteka Powszechna (1966);
Biblioteka Klasyki Polskiej i
Obcej (1971);
Seria Kieszonkowa PIW
(1974);
Biblioteka Klasyków (1984).
Общее число
изд.: 24
(1-е — 1955;
последнее —
2009).
Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Вроцлав
Пер.: Cz. Jastrzębiec-Kozłowski.
Ред.: J. Smaga.
Число изд.: 2 (1987, 1992).
Сер.: Biblioteka Narodowa.
Ser. 2. № 220.
«Kama»
Пер.: J. P. Zajączkowski.
Вступл. и коммент.: D. Kułakowska (1998).
Число изд.: 3 (1996, 1997, 1998).
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 301
Сер.: Lektury Szkolne z Opracowaniem (1996, 1997, 1998);
роман входит в программу
средней школы.
«Siedmioróg», Вроцлав
Пер.: Cz. Jastrzębiec-Kozłowski.
Число изд.: 1 (1997).
Сер.: Lektury Dla Każdego.
«Świat Książki»
Пер.: Cz. Jastrzębiec-Kozłowski.
Ред. и послесл.: J. Gondowicz.
Число изд.: 1 (2000).
Prószyński i S-ka
Пер.: J. P. Zajączkowski.
Число изд.: 2 (2000, 2008).
Сер.: Klasyka Powieści (2000);
Arcydzieła Literatury i Adaptacji Teatralnej (2008; илл.:
фотографии со спектакля
А. Вайды в Старом Театре в
Кракове и его телеверсии; к
книге прилагается CD).
Wydawnictwo Zielona Sowa,
Краков
Пер.: Cz. Jastrzębiec-Kozłowski.
Ред.: T. Cieśla (2004, 2009).
Число изд.: 5 (2003, 2004 — 2
изд., 2009 — 2 изд.).
Сер.: Arcydzieła Literatury
Światowej (2003); Lektura z
Opracowaniem (2004, 2009);
Złota Seria (2004); Lektura z
Opracowaniem i Audiobookiem
(2009; к книге прилагается
CD).
Гайдар А.
«Чук и Гек»
(«Czuk i Hek»)
A. Wat;
D. Wawiłow
Общее число
изд.: 15
(1-е — 1949;
последн. —
1987).
Общий тираж:
1 259 000.
«Nasza Księgarnia»
Пер.: A. Wat (1952–1971);
D. Wawiłow (1977–1987).
Число изд.: 13 (1949, 1952,
1954, 1956, 1959, 1962, 1965,
1968, 1971, 1977, 1983, 1984,
1987).
�302
Войчех Павляк
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
300 000 (1980),
200 300 (1984).
Гайдар А.
«Чук и Гек»
(«Czuk i Hek»),
инсценировка)
Гайдар А.
«Тимур и его
команда»
(«Timur i jego
drużyna»)
W. Komarnicka 10 150
«Nasza Księgarnia»
Обраб.: В. Ганшин (1953).
Илл.: M. Antuszewicz.
Ser.: Teatr Szkolny.
D. Wawiłow
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
Число изд.: 1 (1980).
Худ.: B. Świdzińska-Mulas.
H. Jarmolińska; Общее число
изд.: 32
A. Wat;
(1-е — 1946;
D. Wawiłow
последн. —
1988).
«Czytelnik»
Пер.: H. Jarmolińska.
Число изд.: 4 (1946, 1948,
1950 — 2 изд.).
Сер.: Biblioteczka Młodego
Czytelnika. Tłumaczenia z
Literatur Obcych; 1.
Общий тираж:
1 720 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
300 000 (1982),
100 254 (1965).
Гайдар А.
«Тимур и его
команда»
Худ.: A. M. Ермолаев
(репродукция советского изд.;
1949, 1952), Я. Кириленко
(1956–1971), M. Mackiewicz
(1977–1987).
Сер.: Biblioteka Płomyczka
(1952)
На языке
оригинала
Общее число
изд.: 7 (1952,
1954, 1955,
1963, 1966,
1972, 1976).
Наибольший
тираж:
30 140 (1972).
«Nasza Księgarnia»
Пер.: A. Wat (1952–1973),
D. Wawiłow (1976–1988).
Число изд.: 20 (1952, 1953,
1954, 1955, 1956, 1959, 1960,
1961, 1965, 1967, 1969, 1971,
1973, 1976, 1978, 1981, 1982,
1983, 1986, 1988).
Худ.: M. Kościelniak (1953–
1956),
B. Kieszkowski (1954–1956),
J. Makowski (1959–1973),
Z. Łoskot (1976–1988).
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (Гос. управление
школьных издательств; в наст.
вр.: Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne — Школьные и
педагогические издательства)
Ред.: H. Burchard (1952–1963),
O. Opolska-Danecka (1966–
1976).
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 303
Мин. образования утвердило
книгу с 1952 г. для дополнит.
чтения, а с 1954 — для обязат.
в 8 кл. и для лицейских
библиотек.
«Nasza Księgarnia»
Театральная инсценировка
(A. Grossman, A. Goldberg)
фрагментов повести
(3 акта, 7 сцен).
Реж.: Z. Sazin.
Сер.: Teatr Szkolny (1950).
Гоголь Н.
W. Broniewski;
«Мертвые души» M. Leśniewska
(«Martwe dusze») (T. 2)
Общее число
изд.: 17
(1-е — 1956;
последн. —
2008).
Общий тираж:
316 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
60 000 (1987),
50 320 (1985,
1987).
Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Вроцлав
Пер.: W. Broniewski (T. 1),
M. Leśniewska (T. 2; 1998;
2008).
Вступл. и коммент.:
A. Walicki (1956).
Ред.: B. Galster (1998, 2008).
Число изд.: 3 (1956, 1998,
2008).
Сер.:
Biblioteka Narodowa. Ser. 2.
№ 101 (1956, 1998, 2008).
«Czytelnik»
Число изд.: 5 (1957, 1968,
1971, 1985, 1987).
Изд. 1957 г. —
Pisma wybrane. W 4 t.
Т. 4 / Red., wstęp Z. Fedecki.
Сер.: Biblioteka Klasyki
Polskiej i Obcej
(1971).
Państwowy Instytut
Wydawniczy
Вступл.: M. Dąbrowska.
Число изд.: 1 (1962).
Сер.:
Biblioteka Arcydzieł.
Najsławniejsze Powieści
Świata.
«Współpraca»
Число изд.: 1 (1987).
�304
Войчех Павляк
Wydawnictwo Zielona Sowa,
Краков
Число изд.: 2 (2005, 2008).
Сер.: Arcydzieła Literatury
Światowej (2005).
Гоголь Н.
«Мертвые души»
(«Martwe dusze»)
(инсценировка)
Инсценировка
А. Мильской
на основе пер.
В.Броневского
Общее число
изд.: 15
(1-е — 1949;
последн. —
1987).
Общий тираж:
1 259 000.
Горький М.
«Детство»
(«Dzieciństwo»)
K. Bilska
Общее число
изд.: 15
(1-е — 1947;
последнее —
1967).
Общий тираж:
314 000.
«Książka i Wiedza», 1949
Предисл.: J. Pregierówna.
Сер.: Biblioteczka Świetlicowa.
№ 28.
В НБ хранится и
машинописный текст
инсценировки (1956), напечат.
тиражом 42 экз.
«Czytelnik»
Число изд.: 6 (1947, 1949,
1950, 1951 – 2 изд., 1953).
Сер.:
Biblioteka Trybuny Robotniczej; № 22 (1951);
Biblioteka Chłopskiej Drogi;
№ 26 (1951).
«Nasza Księgarnia»
Самый
большой тираж: Предисл.: L. Barszczewska.
Число изд.: 2 (1953, 1954).
20 176 (1954)
Худ.: Б. А. Дехтерев
(репрод. из советск. изд.).
Państwowy Instytut
Wydawniczy
Предисл.: L. Kruczkowski
(1956).
Число изд.: 4 (1954, 1956,
1967, 1974).
Изд. 1954 г. — в Т. 2
«Избранных соч.»;
изд. 1956 г. —
в Т. 8 «Собр. соч.» в 16 т.
под ред. Т. Заблудовского
(T. Zabłudowski) под назв.
«Детство. В людях. Мои
университеты».
Худ.: M. Majewski (1954).
Сер.: Biblioteka Klasyki
Polskiej i Obcej (1974).
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 305
Горький М. .
«Мать»
(«Matka»)
H. Górska;
K. Bilska
Общее число
изд.: 21
1-е — 1946;
последнее —
1985).
Общий тираж:
865 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
100 277 (1969),
100 150 (1973).
«Książka»
Пер.: H. Górska.
Ред.: A. Ważyk (1948).
Число изд.: 3 (1946, 1948 —
дважды).
В 1948 г. роман издан по
распоряжению Комитета
Распространения Книги.
«Prasa Wojskowa»
Пер.: H. Górska.
Сост., ред.: J. Rychlewski.
Число изд.: 1 (1949).
Худ.: Н. В. Алексеев.
Сер.: Biblioteka Żołnierza. Ser.
1. Popularne Wypisy Literackie; 4.
«Książka i Wiedza»
Пер.: H. Górska.
Сценич. адаптация: R. Sykała
(1949).
Предисл.: T. Wojeński (1949).
Послесл.: E. Dębnicka (1952).
Число изд.: 5 (1949 — сценич.
адаптация, 1951 — дважды,
1952, 1985).
Сер.: Biblioteka Świetlicowa;
№ 36 (1949); Biblioteka Gromady; № 10 (1951); Biblioteka
Gazety Robotniczej; № 10
(1951).
Państwowy Instytut Wydawniczy
Пер.: H. Górska, K. Bilska
(изд. новое 1957).
Послесл.: E. Dębnicka (1954,
1956), A. Drawicz (1973,
1975), J. Szymak-Reiferowa
(1978).
Предисл.: A. Drawicz (1967).
Число изд.: 10 (1954, 1956,
1957, 1969, 1971, 1973 —
дважды, 1975, 1978).
Худ.: O. Axer (1954), M. Majewski (1956).
�306
Войчех Павляк
Сер.: Złota Biblioteka (1954,
1956); Biblioteka Szkolna
(1967, 1973); Seria Książek
Kieszonkowych PIW-u (1969);
Biblioteka Klasyki Polskiej i
Obcej (1971, 1973); Biblioteka
Lektur Szkolnych (1975, 1978).
Ершов П.
«КонекГорбунок»
(«Konik
Garbusek»)
I. Sikirycki
Общее число
изд.: 13
(1-е — 1952;
последнее —
1999).
«Książka i Wiedza»
Число изд.: 2 (1952, 1988).
Худ.: J. М. Szancer.
«Nasza Księgarnia»
Число изд.: 8 (1956, 1958,
Общий тираж: 1960, 1963, 1969, 1976,
1983, 1986 — совм. с издат.
525 000.
«Радуга», Москва).
Худ.: J. М. Szancer,
Наибольшие
Н. Кочергин (1986).
тир. отдельн.
Сер.: Klasyka Dziecięca
изд.:
100 000 (1986), (1983).
100 000 (1988).
Krajowa Agencja Wydawnicza,
Щецин
Число изд.: 1 (1984).
Худ.: A. Maciejewski.
«Geminis»
Число изд.: 1 (1999).
Худ.: A. Wielbut
Катаев В.
«Белеет парус
одинокий»
(«Samotny biały
żagiel»)
M. Kierczyńska Общее число
изд.: 17
(1-е — 1946;
последнее —
1978).
Общий тираж:
1 049 000.
Наибольшие
тир. отд. изд.:
120 257 (1968)
100 160 (1953)
«Książka»
Число изд.: 2 (1946, 1948).
«Książka i Wiedza»
Число изд.: 4 (1949 —
дважды, 1950, 1952).
Сер.:
Biblioteka Głosu Wybrzeża;
№ 3 (1950).
«Iskry»
Предисл.: M. Kierczyńska
(1953, 1955, 1956).
Примеч.: Z. Stoberski (1953,
1955).
Послесл.: A. Galis (1956,
1962, 1966, 1970, 1973), A.
Wołodźko (1978).
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 307
Предисл.: A. Drawicz (1975).
Число изд.: 10 (1953, 1955,
1956, 1962, 1966, 1968, 1970,
1973, 1975, 1978).
Худ.: Д. Дубинский
(репродукции советск. изд.
1953, 1955, 1956, 1962),
Z. Konarska (1975).
Сер.: Seria Kieszonkowa
Iskier (1968), Klasyka Młodych
(1975).
«Nasza Księgarnia»
Сер.: Teatr Szkolny (1949).
M. L. Bielicki
Катаев В.
«Белеет парус
одинокий»
(«Samotny biały
żagiel») (пьеса в 3
актах)
M. Górska
Михалков С.
«Как птицы
козленка спасли»
(«Nie płacz,
Koziołku»)
(варианты
названия:
«Упрямый
козленок»; «Как
птицы спасли
козочку»)
«Nasza Księgarnia»
Число изд.: 16 (1962, 1965,
1971, 1973, [изд. 5 — нет
данных], 1979, 1983, 1985,
1987, 1997, 1998, 1999, 2000,
2004, 2007, 2009).
Общий тираж: Худ.: A. Boratyński (изд. 1–9,
1962–1987),
902 000.
M. Sawicka (1997–2000),
M. Zachorowska (2004–2009).
Наибольшие
Сер.: Moje Książeczki
тир. отдельн.
(изд. 1–9, 1962–1987);
изд.:
200 300 (1987), Lektura Szkolna: klasa 2
100 300 (1983, (1997–2000); Moje Poczytajki
(2004–2009).
1985).
Общее число
изд.: 17
(1-е — 1962;
последн. —
2009).
Beskidzka Oficyna Wydawnicza,
Бельско-Бяла
Число изд.: 1 (1995).
Худ.: K. Klimas.
Cz. Kuśmierek
Осеевa В.
«Волшебное
слово»
(«Czarodziejskie
słowo»)
H. Bobińska
Общее число
изд.: 10
(1-е — 1949;
последн. —
1977).
Общий тираж:
598 000.
«Książka i Wiedza»
Число изд.: 1 (1949).
Худ.: A. А. Давыдова.
«Nasza Księgarnia»
Число изд.: 9 (1954, 1957,
1959, 1961, 1965, 1968, 1971,
1973, 1977).
�308
Войчех Павляк
Наибольшие
Худ.: M. Mackiewicz (изд.
тир. отдельн.
2–10, 1954–1977).
изд.:
100 254 (1965),
100 235 (1971,
1973).
Островский Н. E. Słobodniko«Как закалялась wa;
сталь» («Jak har- W. Rogowicz
towała się stal»)
«Prasa Wojskowa»
Число изд.: 2 (1950 —
дважды)
Илл. по советскому
оригиналу.
Сер.: Biblioteka Trybuny
Общий тираж: Robotniczej;
Biblioteka Trybuny Ludu.
721 000.
Дважды (1949, 1950) изданы
фрагменты романа под заго
Наибольшие
ловком «Kolej komsomolska».
тир. отдельн.
Сост. и ред.: J. Skarżyńska.
изд.:
150 000 (1956), Худ.: J. Walker (1949), St.
100 000 (1984). Dretler-Flin (1950). Самое
раннее из названных изд.
вышло в сер.: Biblioteka
Żołnierza. Seria 1: Popularne
Wypisy Literackie; 8.
Общее число
изд.: 11
(1-е — 1950;
последн. —
1984).
Wydawnictwo Ministerstwa
Obrony Narodowej
Пер.: E. Słobodnikowa
(1952–1953); W. Rogowicz
(1956–1974).
Предисл.: H. Bobińska.
Число изд.: 6 (1952 —
дважды, 1953, 1956, 1968,
1974).
Илл. по советскому
оригиналу.
Дважды (1952, 1953) роман
публиковался в собр. соч.
Н. А. Островского, куда
входили: «Рожденные бурей»
(пер.: Я. Крет), «Речи, статьи
и письма» (пер. под ред.
Я. Краевской). Тираж изд.
1953 — 30 000.
Отдельно опубликованы
фрагменты романа под
заголовком «Na granicy»
(1951).
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 309
Худ.: Л. Янецкая.
Сер.: Biblioteka Żołnierza. 1.
Popularne Wypisy Literackie;
45.
«Nasza Księgarnia»
Пер.: W. Rogowicz.
Предисл.: H. Bobińska.
Число изд.: 1 (1954).
Худ.: A. Kobzdej.
Сер.: Biblioteka Szkolna.
В 1950 г. опубликована
инсценировка Ф. Бондаренко
этого романа (в 9 сценах) под
заголовком «Павел Корчагин»
Пер.: Z. Łapicka.
Сер.: Teatr Szkolny.
«Iskry»
Пер.: W. Rogowicz.
Число изд.: 1 (1977).
Сер.: Biblioteka Młodych.
В 1952 г. по распоряжению
Гл. управл. Объединения
Польской Молодежи
опубликованы фрагменты
романа в пер. Е.
Слободниковой — «Budowa
kolei komsomolskiej».
«Książka i Wiedza» (совм. с
изд. «Радуга», Москва)
Пер.: W. Rogowicz.
Число изд.: 1 (1984).
Сер.: Biblioteka Młodych.
Паустовский К.
«Колхида»
(«Kolchida»)
K. A. Jaworski
Общее число
изд.: 10
(1-е — 1949;
последнее —
1974).
Общий тираж:
236 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
30 160 (1954),
25 160 (1953).
«Wiedza»
Число изд.: 1 (1949).
Худ.: L. Bielska-Tworkowska.
«Książka i Wiedza»
Число изд.: 5 (1950, 1951 —
трижды, 1952).
Сер.: Biblioteka Trybuny Robotniczej; № 14 (1950).
«Iskry»
Предисл.: G. Pauszer-Klonow
ska (1953, 1954).
Число изд.: 3 (1953, 1954, 1958).
�310
Войчех Павляк
В 1954 и 1958 гг. Мин. Образ.
внесло книгу в список обязат.
литературы для лицейских
библиотек (8–11 кл.).
Wydawnictwo Literackie,
Краков
Число изд.: 1 (1974).
Сер.: Biblioteka Klasyki
Polskiej i Obcej.
Паустовский К.
«Северная
повесть»
(«Opowieść
północna»)
N. Drucka;
J. Laskowska
Общее число
изд.: 10
(1-е — 1950;
последнее —
1985).
Общий тираж:
324 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
66 660 (1970),
50 336 (1973).
«Książka i Wiedza»
Пер.: N. Drucka (1950, 1951);
J. Laskowska (1970).
Число изд.: 3 (1950, 1951,
1970).
Худ.: J. Walker (1950).
Сер.: Biblioteka Żołnierza. Ser.
1. Popularne Wypisy Literackie;
№ 34 (1950); Biblioteczka Literatury Radzieckiej; 2 (1951);
Koliber (1970).
«Czytelnik»
Пер.: N. Drucka
Число изд.: 1 (1953).
Wydawnictwo Ministerstwa
Obrony Narodowej
Пер.: J. Laskowska
Число изд.: 5 (1962, 1965,
1968, 1973, 1975).
«Współpraca»
Пер.: J. Laskowska
Число изд.: 1 (1985).
Полевой Б.
«Повесть о
настоящем
человеке»
(«Opowieść o
prawdziwym
człowieku»)
J. Wyszomirski
«Książka i Wiedza»
Число изд.: 6 (1949 — дважды,
1950, 1951, 1952, 1985 — совм.
с изд. «Радуга», Москва).
Сер.:
Biblioteka Trybuny Ludu (1949);
Общий тираж: Biblioteka Gromady; № 6 (1950);
Biblioteka Młodych (1985).
1 512 000.
Фрагменты выходили 4
раза — «Bohater przestworzy»
Наибольшие
(1950–1951). Изд. 2 и 3 подгот.
тир. отдельн.
J. Kozłowski, изд. 4 —
изд.:
100 275 (1975), J. Przymanowski
Общее число
изд.: 30
(1-е — 1949;
последнее —
1985).
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 311
100 260 (1972), (в НБ в Варшаве 1-е изд.
на яз.
отсутствует).
оригинала 20
Худ.: М. Walentynowicz.
140 (1972).
Сер.: Biblioteka Żołnierza. 1.
Popularne Wypisy Literackie;
10.
Polski Związek Niewidomych.
Zarząd Główny
Число изд.: 1 (1951) в 4 т. —
шрифтом Брайля для слепых.
«Pax»
Число изд.: 1 (1953), прилож.
к газете «Słowo Powszechne».
«Iskry»
Пер. «Моей биографии»
(«Mój życiorys»): G.
Pauszer-Klonowska (1954,
1956).
Число изд.: 14
(1954, 1956, 1958, 1960,
1962, 1964, 1966, 1967,
1969, 1970, 1972, 1975, 1978,
1980 — совм.
с изд. «Прогресс», Москва).
Худ.: Н. Н. Жуков
(из советск. изд. 1954, 1956,
1964, 1980), P. Lasik (1975).
Сер.: Seria Kieszonkowa Iskier (1967, 1969, 1970, 1972);
Klasyka Młodych (1975).
«Czytelnik»
Число изд.: 1 (1975).
Сер.:
Biblioteka Zwycięstwa.
Гос. управление школьных
издательств в Варшаве
4 раза выпускало этот роман
на яз. оригинала
(в сокращ.) для
использования при обучении
русскому языку – 1961, 1966,
1967, 1972 гг.
Вступл. и ред.: E. Dębnicka. Илл. Жукова — в изд. 2
(1966).
�312
Войчех Павляк
J. Tuwim;
Пушкин А.
W. Sebyła
«Сказка
(1979)
о рыбаке
и рыбке»
(«Bajka o rybaku
i rybce»)
Общее число
изд.: 13
(1-е — 1949;
последнее —
1990).
Общий тираж:
768 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
200 300 (1979),
100 000
(1987 —
дважды).
«Książka i Wiedza»
Число изд.:
4 (1949, 1952, 1987, 1990
(два последних изд. —
«Сказки» А. С. Пушкина —
совм. с изд. «Радуга»,
Москва).
Худ.: W. Daszewski (1949),
Z. Fijałkowska (1952),
St. Kowalow (1987, 1990).
«Nasza Księgarnia»
Число изд.: 11 (1956,
1957, 1959, 1962, 1964, 1968,
1971, 1974, 1979, 1984, 1990
(два последних изд. —
«Сказки» А. С. Пушкина).
Худ.: Z. Fijałkowska (1956–
1964),
H. Czajkowska (1968–1979),
W. Andrzejewski (1984, 1990).
Сценич. адаптация:
М. Rokoszowa (1950).
Сер.: Teatr Szkolny.
Wojewódzki Ośrodek Kultury,
Гданьск
Пер.: W. Sebyła
Число изд.: 1 (1979).
Тираж: 100 экз.
«Współpraca»
Число изд.: 1 (1987 — «Bajki» A. S. Puszkina; совм. с
изд. «Радуга», Москва).
Худ.: Ст. Ковалев.
«Format»
Книжка-раскраска.
Число изд.: 1 (1998).
Худ.: R. Ronowski.
Сер.: Malowanka Bajkowa.
«Skrzat», Краков
Ред.: E. Stadtmüller.
Число изд.: 1 (2003).
Худ.: J. Adamus-Ludwikowska
Сер.: W Świecie Baśni.
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 313
«Agora»
Пересказ
(по мотивам А. Пушкина):
J. Mikołajewski.
Число изд.: 1 (2005).
Худ.: E. Wasiuczyńska.
Сер.: Kolekcja Dziecka; 4
(к книге прилагается CD).
Пушкин А.
«Евгений
Онегин»
(«Eugeniusz
Oniegin»)
A. Ważyk;
M. Toporowski
(гл. 10);
J. Tuwim;
A. Sycz;
A. Lewandowski;
L. Belmont
Общее число
изд.: 19
(1-е — 1952;
последн. —
2006).
Общий тираж:
257 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
50 290 (1973),
40 000 (1988).
«Książka i Wiedza»
Пер.: A. Ważyk.
Число изд.: 1 (1952).
Państwowy Instytut
Wydawniczy
Пер.: A. Ważyk, M. Toporowski — гл. 10;
послесл. и коммент. —
M. Toporowski (1956); вступл.,
приложение, коммент.:
M. Toporowski (1959,
1964); ред. и вступл. к
«Произведениям»
Т. 1–3 (1967): M. Toporowski.
Число изд.: 11 (1953, 1954,
1956 — дважды, 1959, 1962,
1964, 1967, 1973, 1982, 1994).
В 1953, 1956, 1967 гг.
вышли многотомные
издания произведений
А. С. Пушкина: Избр.
произведения T. 1–6.
Изд. 1-е. 1953 (Т. 3: «Евгений
Онегин»); Избранные
произведения. T. 1–5. Изд.
2-е. 1956 (Т. 3: «Евгений
Онегин»); Произведения.
T. 1–3. Изд. 1-е. 1967 (Т. 3:
«Евгений Онегин»).
Худ.: J. M. Szancer (1954),
B. J. Dorys (1956), A. Kurkowski (1964).
Сер.:
Biblioteka Szkolna (1959);
Biblioteka Poezji i Prozy
(1967); Biblioteka Klasyki
Polskiej i Obcej (1973); Seria
Kieszonkowa PIW (1982);
Lektury/ Państwowy Instytut
Wydawniczy (1994).
�314
Войчех Павляк
Изд. 1959 г. была утверждено
Мин. Просвещ. для
лицейских библиотек
Zakład Narodowy im Ossolińskich, Вроцлав
Пер.: A. Ważyk.
Вступл. и коммент.: R. Łużny.
Число изд.: 2 (1970, 1993).
Сер.: Biblioteka Narodowa. 2;
№ 35.
Wydawnictwo Literackie,
Краков.
Пер.: J. Tuwim, A. Ważyk.
Послесл.: R. Łużny.
Число изд.: 1 (1977).
«Współpraca»
Пер.: J. Tuwim, A. Ważyk.
Послесл.: R. Łużny.
Число изд.: 1 (1988).
«Miniatura», Краков
Пер.: A. Sycz.
Прилож.: O переводе и его
авторе.
Число изд.: 1 (1995).
Худ.: A. Sycz.
Prószyński i S-ka
Пер.: A. Ważyk, J. Tuwim.
Число изд.: 1 (2000).
Сер.: Klasyka Powieści.
Wydawnictwo Aksjomat,
Торунь
Пер.: A. Lewandowski.
Число изд.: 1 (2006).
Wydawnictwo Zielona Sowa,
Краков
Пер.: L. Belmont, послесл. J.
Gładyś.
Число изд.: 1 (2006).
Сер.: Arcydzieła Literatury
Światowej
В 1959 г. CPARA (Centralna
Poradnia Amatorskiego
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 315
Ruchu Artystycznego) в
Варшаве опубликовала
сценич. адаптацию «Евгения
Онегина» (подгот. B. Маlak
на осн. пер. Ю. Тувима и
Л. Бельмонта).
Муз.: фрагменты оперы
П. И. Чайковского «Евгений
Онегин».
Сер.: Biblioteka Repertuarowa.
Тираж: 1 000 экз.
Симонов К.
«Дни и ночи»
(«Dni i noce»;
«Dnie i noce»)
B. Rafałowska;
Cz. JastrzębiecKozłowski
Общее число
изд.: 10
(1-е — 1948;
последн. —
1981).
Общий тираж:
200 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
50 336 (1972),
30 333 (1981).
«Książka»
Пер.: B. Rafałowska.
Число изд.: 1 (1948).
«Książka i Wiedza»
Пер.: B. Rafałowska.
Число изд.: 2 (1949 – дважды).
Wydawnictwo Ministerstwa
Obrony Narodowej
Пер.: Cz. Jastrzębiec-Kozłowski.
Число изд.: 5 (1956, 1968, 1972,
1975, 1981).
Худ.: I. Witz (1956).
Сер.: Bellona (1981).
«Czytelnik»
Пер.: Cz. Jastrzębiec-Kozłowski.
Число изд.: 1 (1977).
Сер.: Biblioteka Zwycięstwa.
В 1952 г. Гос. Управление
школьных издательств в
Варшаве опубликовало роман
на языке оригинала (в сокращ.).
Ред.: A. Osieniecka.
Вступл.: Z. Szczygielski.
(Мин. просвещения утвердило
это издание для дополнит.
чтения в 11 кл.).
Суворов В.
«Аквариум»
(«Akwarium»)
N. Wiślicz
(с англ. яз.)
Общее число
изд.: 14
(1-е — 1988;
последн. —
2008).
«Wyzwolenie»
Число изд.: 1 (1988).
Fin de Siecle – Akademicki
Klub Liberalny, Гданьск
Число изд.: 1 (1989).
�316
Войчех Павляк
A. Mietkowski
(с рус. яз.)
Общий тираж:
82 000.
«Aspekt», Вроцлав
Число изд.: 1 (1989).
«Margines»
Число изд.: 1 (1989).
«PeTiT»: Solidarność Walcząca. Oddział Trójmiasto, Гдыня
Число изд.: 1 (1989).
«Prawy Margines»
Число изд.: 1 (1989).
«Universitas», Вроцлав
Число изд.: 1 (1989).
«Editions Spotkania»
Число изд.: 4 (1990, 1991,
1992 — дважды).
Wydawnictwo Adamski i
Bieliński,
Число изд.: 2 (1995, 1997).
«De Agostini»: Editiones Altaya Polska
Число изд.: 1 (2003).
Сер.: Arcydzieła Literatury
Współczesnej.
Dom Wydawniczy Rebis,
Познань
Число изд.: 1 (плюс доп.
тиражи)
(2007, 2008).
Шолохов М.
«Тихий Дон»
(«Cichy Don»)
W. Rogowicz;
A. Stawar
Общее число
изд.: 22
(1-е — 1946–
1948; послед. —
2001).
Общий тираж:
704 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
75 000 (1984),
50 265 (1966).
«Czytelnik»
Число изд.: 16
(1946–1948, 1948–1950, 1949,
1951, 1953, 1955, 1958, 1959,
1962, 1966, 1967 (дважды),
1969, 1972, 1973, 1977).
Сер.: Biblioteka Powszechna
(1967); Kolekcja Literatury
Radzieckiej (1977).
Państwowy Instytut Wydawniczy Число изд.: 1 (1967).
Сер.:
Powieści XX Wieku.
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 317
«Książka i Wiedza»
Число изд.: 2 (1982, 1984).
«Współpraca»
Число изд.: 1 (1984).
«Interart»
Число изд.: 1 (1994).
Porozumienie Wydawców
Число изд.: 1 (2001).
Сер.: Kanon na Koniec Wieku.
Шолохов М.
«Судьба
человека» («Los
człowieka»)
I. Piotrowska
Общее число
изд.: 23
(1-е — 1960;
последн. —
1987).
Общий тираж:
1 704 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
180 260 (1968),
150 290 (1973).
Państwowy Instytut Wydawniczy
Число изд.: 15
(1960, 1962, 1963 — дважды,
1964, 1965, 1966, 1968, 1969,
1973, 1975 — дважды, 1977,
1979, 1983).
Худ.: L. Buczkowski (1960),
St. Wójtowicz (1965).
«Książka i Wiedza»
Число изд.: 3 (1968, 1985, 1987).
Сер.: Koliber.
«Czytelnik»
Число изд.: 1 (1977).
Сер.: Biblioteka Zwycięstwa
(также вошли
«Наука ненависти»
и «Они сражались за родину»
в пер. W. Kiwilszo).
Wydawnictwa Artystyczne i
Filmowe
Число изд.: 1 (1985).
Сер.: Opowieści Filmowe.
Илл. — кадры
из фильма С. Бондарчука
«Судьба человека» (1959).
Самый
большой
тираж
у изд. 1975 г.:
20 140 экз.
Гос. управление школьных
издательств в Варшаве
в 1968, 1972 и 1975 гг. издавало
рассказы М. А. Шолохова
на яз. оригинала:
Судьба человека и другие
рассказы / Ред. H. Daniuluk-Dobrzyńska.
�318
Войчех Павляк
Тайц Я.
«Рябинка»
(«Jarzębinka»)
M. Górska
Общее число
изд.: 12
(1949, 1950,
1954, 1955,
1958, 1960,
1962, 1969,
1971, 1975,
1987, 1994).
«Nasza Księgarnia»
Худ.: A. Poret (1949–1950),
A. Zieleńcowa (1954–1975),
M. Mackiewicz (1987),
D. Imielska-Gebethner (1994).
Сер.:
Lektura Szkolna: klasa 1
(1994).
Общий тираж:
593 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
100 300 (1987),
100 235 (1975).
Толстой А. Н.
«Хождение по
мукам»
(«Droga przez
mękę»)
W. Broniewski;
W. Rogowicz
(Т. 3)
Общее число
изд.: 15
(1-е — 1946;
последн. —
1985).
Общий тираж:
562 000.
«Czytelnik»
Число изд.: 10 (1946, 1949,
1952, 1957, 1962, 1965, 1967,
1971, 1974, 1977).
Сер.:
Biblioteka Powszechna (1962,
1965); Seria z Delfinem (1971,
1974);
Kolekcja Literatury Radzieckiej
(1977).
Наибольшие
тир. отдельн.
Państwowy Instytut Wydawnизд.:
100 000 (1983), iczy Число изд.: 1 (1954).
100 000 (1984). Сер.: Biblioteka Laureatów
Nagrody Stalinowskiej.
«Książka i Wiedza»
Число изд.: 2 (1983, 1984).
«Współpraca»
Число изд.: 1 (1985).
A. Stawar
Толстой А. Н.
«Петр Первый»
(«Piotr Pierwszy»)
Общее число
изд.: 11
(1-е — 1948;
последн. —
1986).
«Czytelnik»
Число изд.: 6 (1948, 1949,
1950, 1957, 1967, 1974).
Худ.: O. Axer (1949).
Сер.: Nike (1974).
Общий тираж:
342 000.
Państwowy Instytut
Wydawniczy
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 319
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
100 000 (1985),
50 000 (1986;
доп. тираж).
«Książka i Wiedza»
Число изд.: 3 (1984, 1985,
1986).
В 1952 г. Filmowa Agencja
Wydawnicza опубликовала
сценарий фильма «Петр I»
А. Н. Толстого и В. Петрова.
Сер.: Biblioteka Scenariuszy
Filmowych.
Худ.: J. М. Szancer.
G. Załęski
Толстой Л. Н.
«Анна
Каренина»
(Anna Karenina)
Число изд.: 2 (1955, 1964).
Сер.: Biblioteka Laureatów
Nagrody Stalinowskiej (1955);
Powieści XX Wieku (1964).
Państwowy Instytut
Wydawniczy
Послесл.: J. Dmochowska
(1955, 1956, 1959, 1960, 1962,
1963, 1965, 1970);
A. Semczuk (1986, 1988).
Общий тираж: Число изд.: 20 (1951–1953,
1953, 1954, 1955, 1956 —
1 163 000.
дважды, 1959, 1960, 1962,
1963, 1965, 1970, 1972–1973,
Наибольшие
1975, 1976, 1979, 1984,
тир. отдельн.
1986 — дважды, 1988).
изд.:
100 500 (1988), Роман опубл. (1956) в
100 280 (1970). составе: Dzieła. Wyd. w 14 t. /
Pod red. P. Hertza. Т. 8–9.
Худ.: A. Uniechowski (1954).
Сер.: Biblioteka Powszechna
(1959);
Seria Książek Kieszonkowych
PIW-u (1970);
Biblioteka Klasyki Polskiej
i Obcej (1972–1973); Seria
Kieszonkowa PIW (1975,
1976);
Biblioteka Klasyków (в т. 3
«Избранных произведений»,
1979).
K. Iłłakowiczów- Общее число
изд.: 29
na
(1-е — 1951–
1953; послед. —
2008).
«Współpraca»
Число изд.: 1 (1986).
«Książka i Wiedza»
Число изд.: 1 (1987).
�320
Войчех Павляк
Wydawnictwo Dolnośląskie,
Вроцлав
Послесл.: A. Drawicz.
Число изд.: 1 (1992).
Сер.: Biblioteka Klasyki.
«Świat Książki»
Послесл.: A. Drawicz (1994),
M. Szpakowska (2001).
Число изд.: 2 (1994, 2001).
Prószyński i S-ka
Число изд.: 2 (1997, 1999).
Сер.: Klasyka Powieści (1997,
1999).
A. Wat
(ред. перевода)
Agencja Elipsa
Число изд.: 1 (1994).
Данные о
переводчике
отсутствуют
Polskie Media Amer. Com.
Число изд.: 1 (2003).
Анонимный
перевод XIX в.
Wydawnictwo Zielona Sowa,
Краков
Ред. перевода: A. Misiaszek.
Число изд.: 3 (2005 —
дважды, 2008).
Сер.: Arcydzieła Literatury
Światowej.
Толстой Л. Н.
J. Dąbrowa
«Хаджи-Мурат»
(«Hadżi Murat»)
Общее число
изд.: 13
(1-е — 1947;
последн. —
1992).
Wydawnictwo W. Bąka, Лодзь
Число изд.: 1 (1947, также
здесь опубл. «За что?»).
Сер.: Biblioteka Arcydzieł
Powieści Rosyjskiej.
Общий тираж:
319 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
56 660 (1970),
50 345 (1954).
Cz. JastrzębiecKozłowski
Państwowy Instytut
Wydawniczy
Число изд.: 9 (1954 —
дважды, 1955, 1958, 1962,
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 321
1963, 1964, 1965, 1968).
Изд. 1955 г. («Hadżi-Murat i
inne opowiadania») входит в
собр. соч.: Z pism Lwa Tołstoja
/ Pod red. P. Hertza.
Сер.: Biblioteka Prasy (1954);
Biblioteka Szkolna (1958,
1962, 1963, 1964, 1965, 1968);
Biblioteka Klasyków (1979;
Т. 4 «Избр. Произв.», здесь
же — «Воскресение», пер.:
W. Rogowicz; «Казаки» —
пер. E. Słobodnikowa).
В 1965 г. Мин. Просвещения
утвердило книгу для
школьных библиотек (10 и
11 кл.).
«Książka i Wiedza»
Число изд.: 1 (1970).
«Współpraca»
Число изд.: 1 (1987).
Dom Wydawniczy Szczepan
Szymański
Число изд.: 1 (1992).
Сер.: Arcydzieła Literatury
Rosyjskiej.
Z. Petersowa
Толстой Л. Н.
«Война и мир»
(«Wojna i pokój»)
«Хаджи-Мурат»
(«Hadżi Murat»)
Общее число
изд.: 23
(1-е — 1950–
1951;
последн. —
2008).
«Czytelnik»
Число изд.: 1 (1950–1951).
Państwowy Instytut Wydawniczy Число изд.: 1 (1955)
Общий тираж:
833 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
100 250 (1984),
100 000 (1979).
A. Stawar
Państwowy Instytut Wydawniczy Вступл.: J. Iwaszkiewicz
(1961–1970).
�322
Войчех Павляк
Число изд.: 14
(1958, 1959, 1961, 1962, 1964,
1966, 1967, 1970, 1973, 1978,
1979 — дважды, 1984, 1988).
Изд. 1958 г. входит в состав:
Dzieła. Wyd. w 14 t. / Pod red.
P. Hertza (Т. 4–7).
Сер.:
Biblioteka Arcydzieł. Najsławniejsze Powieści Świata
(1959);
Biblioteka Poezji i Prozy
(1961);
Biblioteka Powszechna (1962,
1964);
Biblioteka Klasyki Polskiej i
Obcej (1973, 1978);
Książka dla Każdego (1979);
Biblioteka Klasyków (1979;
как Т. 1–2 «Избр. произв.»).
«Współpraca»
Число изд.: 1 (1987–1988,
изд. 14 в 2 ч.).
Wydawnictwo Dolnośląskie,
Вроцлав
Послесл.: A. Drawicz.
Число изд.: 1 (1992).
Сер.: Biblioteka Klasyki.
Agencja Elipsa
Число изд.: 1 (1994).
Z. Popławska
«Świat Książki»
Послесл.: J. Gondowicz.
Число изд.: 1 (2002).
Анонимный
перевод XIX в.
«KWE»
Число изд.: 1 (2000–2001).
Wydawnictwo Zielona Sowa,
Краков
Ред. пер.: K. Kierejsza, A. Misiaszek (2005).
Число изд.: 2 (2005, 2008).
Сер.:
Arcydzieła Literatury
Światowej.
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 323
Фадеев А.
«Молодая
гвардия»
(«Młoda
Gwardia»)
L. Lewin
Общее число
изд.: 19
(1-е — 1947;
последн. —
1977).
Общий тираж:
495 000.
Наибольшие
тир. отдельн.
изд.:
80 257 (1970),
50 176 (1954).
«Wolność». Gazeta Armii
Radzieckiej, Легница
Пер.: нет инф.
Число изд.: 1 (1947).
«Prasa Wojskowa»
Число изд.: 4 (1948, 1949,
1950 — 2 изд.).
Сер.: Biblioteka Głosu Robotniczego; 5 (1950).
Wydawnictwo Ministerstwa
Obrony Narodowej
Число изд.: 1 (1952).
«Iskry»
Число изд.: 4 (1954, 1967,
1970, 1975).
Сер.: Seria Kieszonkowa «Iskier» (1970); Klasyka Młodych
(1975).
«Czytelnik»
Число изд.: 1 (1977).
Сер.: Biblioteka Zwycięstwa.
«Książka i Wiedza»
Пер.: L. Zamkow (1950).
Театр. адаптация и инсценир.:
L. René.
Введ.: J. A. Szczepański.
Сер.: Biblioteka Świetlicowa.
№ 50.
III. Успех ром а н а «М астер и М а рга рита» в Пол ьше
— Все будет правильно, на этом построен мир.
(Воланд — Маргарите)
Напомним, что до 2009 г. включительно в Польше вышло 74 издания
различных произведений М. Булгакова общим тиражом 1 585 000 экз.9
Роман «Мастер и Маргарита» выдержал в Польше за период 1969–
2009 гг. 32 издания, общий тираж которых составил 1 001 000 экз.10
Профессор Я. Слишова писала: «Булгаков… стал предметом
увлечения нескольких поколений читателей с по-над Вислы. Его и
сейчас заново открывают, читают, изучают. Постоянно растет число
его поклонников, сейчас посвященные его творчеству исследования,
�324
Войчех Павляк
комментарии, рецензии исчисляются сотнями, а то и тысячами… Произведения Булгакова… также у нас становятся почти обязательным
пунктом в списке чтения каждого польского интеллигента… Ими
зачитываются выпускники школ, о них спорят студенты, на их тему
пишут критики и историки литературы»11.
В начале 1998 г. редакция еженедельника «Polityka» («Политика») предложила своим читателям принять участие во всеобщем голосовании. В течение двух лет выбирали самых выдающихся поляков,
важнейшие события, героев и антигероев, самые значимые открытия
и изобретения, великих писателей и книги, самых крупных деятелей
искусства, самые интересные фильмы, лучших актеров, главных телевизионных деятелей, певцов и спортсменов12. В голосовании приняло участие почти пятьдесят тысяч человек. В большинстве своем это
были люди с образованием выше среднего. В голосовании «Великие
польские и зарубежные писатели» редакция попросила читателей назвать десять польских и зарубежных писателей, которые, по их мнению, являются наиболее выдающимися, а при возможности — составить список самых великих книг всех времен.
В списке польских писателей оказалось 400 фамилий. На первом
месте — Генрих Сенкевич и его «Трилогия». В списке заграничных —
711 имен, на первом месте Эрнест Хемингуэй. Лучшей зарубежной
книгой всех времен читатели «Политики» признали роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». В цитированной выше книге «Wiek
XX»13 опубликовали список ста первых зарубежных писаталей. Десять первых мест заняли: 1. Эрнест Хемингуэй, 2. Михаил Булгаков,
3. Альбер Камю, 4. Умберто Эко, 5. Томас Манн, 6. Франц Кафка, 7.
Джек Лондон, 8. Габриэль Гарсиа Маркес, 9. Ярослав Гашек, 10. Марсель Пруст.
Помимо Булгакова в группе ста лучших зарубежных писателей
оказалось еще 14 русских (перед именем автора приведена позиция в
рейтинге): 16. М. Шолохов, 17. А. Солженицын, 30. М. Горький, 40. Б.
Пастернак, 42. И. Бабель, 51. А. Ахматова, 58. И. Бродский, 66. В. Маяковский, 70. И. Эренбург, 72. Ф. Достоевский, 76. В. Набоков, 81.
Л. Толстой, 87. О. Мандельштам, 94. А. Платонов.
Читатели «Политики» также выбрали книги всех времен: 1.
Г. Сенкевич «Трилогия», 2. М. Булгаков «Мастер и Маргарита», 3.
В. С. Реймонт «Мужики», 4. А. Камю «Чума», 5. Т. Манн «Волшебная гора», 6. Г. Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества», 7. У. Эко «Имя
розы», 8. Э. Хемингуэй «По ком звонит колокол», 9. М. Шолохов «Тихий Дон», 10. Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка», 11.
Ф. Кафка «Процесс», 12. М. Пруст «В поисках утраченного времени»,
�Русские писатели в Польше (1944–2009) 325
13. Г. Сенкевич «Quo vadis», 14. М. Домбровская «Ночи и дни», 15.
С. Выспяньский «Свадьба», 16. Дж. Джойс «Улисс», 17. А. Мицкевич
«Пан Тадеуш», 18. Б. Прус «Кукла», 19. А. Солженицын «Архипелаг
ГУЛАГ», 20. Дж. Оруэлл «1984».
Профессор А. Володзько-Буткевич так прокомментировала феноменальный успех шедевра Булгакова: «Этот роман вошел в канон
школьной программы и, пожалуй, является одной из немногих книг,
которую молодежь многих стран, в том числе Польши, признала культовой. Почему? Ответ прост. Ее характерные черты — сказочная фантастика, демонология, черная магия, ужас, чудесно переплетенный
с юмором, гротеск и тут же рядом трагизм, волнующая поэтическая
аура, размышления над человеческой судьбой и злая сатира, наконец,
любовь, которая сильнее смерти, — все это притягивает внимание,
увлекает, затягивает, волнует. Это прекрасная, универсальная история о битве Добра со Злом»14.
По инициативе ежедневной газеты «Rzeczpospolita» («Республика») известные деятели польской культуры и науки предложили 404
названия важнейших книг XX в. Среди них за 56 произведений было
отдано 2 и более голосов. С 17 марта 1999 г. газета помещала списки
с предложенными вариантами. Читатели выбрали 25 лучших книг
XX в. Победу одержал роман Булгакова «Мастер и Маргарита»15.
Все выбранные читателями книги вышли в серии «Kanon na koniec wieku», опубликованной объединением восьми польских издательств («Porozumienie Wydawców»).
Алфавитный список 25-ти выбранных книг выглядит следующим образом: М. Булгаков «Мастер и Маргарита», А. Камю «Чума»,
Х. Кортасар «Игра в классики», У. Эко «Имя розы», В. Гомбрович
«Фердидурка», Г. Грасс «Жестяной барабан», Я. Гашек «Похождения
бравого солдата Швейка», Дж. Хеллер «Уловка-22», Э. Хэмингуэй «По
ком звонит колокол», З. Херберт Избранная поэзия, Г. Герлинг-Грудзинский «Иной мир», Дж. Джойс «Улисс», Ф. Кафка «Процесс»,
Т. Манн «Волшебная гора», Г. Гарсия Маркес «Сто лет одиночества»,
А. А. Милн «Винни-Пух», «Дом на Пуховой опушке», Дж. Оруэлл
«Скотный двор», «1984», Б. Пастернак «Доктор Живаго», М. Пруст
«В поисках утраченного времени», А. де Сент-Экзюпери «Маленький
принц», Б. Шульц «Коричные лавки», «Санаторий под клепсидрой»,
А. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ», М. Шолохов «Тихий Дон»,
Дж. Р. Р. Толкиен «Властелин колец».
В заключение передадим слово профессору А. Дравичу, самому
известному в Польше исследователю жизни и творчества Булгакова. Он
называл себя учеником «великого Мастера». Посвятил ему свою док-
�326
Войчех Павляк
торскую диссертацию (1987). Он также является автором второго перевода «Мастера и Маргариты». Дравич писал: «Книга о свободе, наполненная свободой перемещений и освобождающая своего автора — придала этому всему, удивительным, но в то же время глубоко логичным
способом — собственную свободу. Избежав раздавливания, полетела
к нашим временам; ее судьба стала ее дальнейшим продолжением»16.
(Перевод Е. Кузнецовой)
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Giedroyc J. Wstęp // Pomianowski J. Ruski miesiąc z hakiem, Wrocław 1997. S. 7.
Хорев В. А. Предисловие // Еж Т. Т. На рассвете / Пер. под ред. И. Беккера. М., 1959. С. 3–10.
Опубл. в: Литературоведение и критика Центральной и Юго-Восточной Европы конца XX — начала XXI века. Идеи — методы — подходы
/ Отв. ред. Н. Н. Старикова. М., 2011. С. 8–30.
Адельгейм И. Критик о критике. Польская литературная критика 1990–
2000-х годов о своих задачах // Там же. С. 31–46.
Хорев В. А. Польская литература XX века. 1890–1990 / Отв. ред.
И. Е. Адельгейм. М., 2009.
Pomianowski J. Wybór wrażeń. Lublin, 2006. S. 116.
Pomianowski J. O tajemnicy Rosji // Rozmowy na koniec wieku / Prowadzą
K. Janowska, P. Mucharski. Kraków, 1997. T. 1. S. 252.
В частности, использованы: Ruch Wydawniczy w Liczbach — Polish Publishing in Figures. R. 55: 2009. Warszawa, 2011; Bibliografia literatury tłumaczonej na język polski wydanej w latach 1945–1977. Warszawa, 1978. T. 2;
Bibliografia literatury tłumaczonej na język polski wydanej w latach 1977–
1980. Warszawa, 1983. T. 3.; Kartkowy katalog alfabetyczny książek Biblioteki
Narodowej (1801–1999); база данных НБ: INNOPAC/MILLENNIUM.
Ruch Wydawniczy w Liczbach… S. 103.
Ibid. S. 117.
Śliszowa J. Polska karta Michała Bułhakowa // Literatura Radziecka. 1988.
№7 (469). S. 157.
Wiek XX. Stu na koniec stulecia — rankingi czytelników «Polityki» / Red.
J. Mojkowski, W. Władyka. Warszawa, 2000.
Ibid. S. 104–105.
Wołodźko-Butkiewicz A. Diaboliada // Wiek XX… S. 96.
Masłoń K. Kwintesencja literatury. Kanon na koniec wieku. Mistrz i Małgorzata zwycięża w plebiscycie «Rzeczpospolitej» // Rzeczpospolita.
26.07.1999. № 172.
Drawicz A. Mistrz i diabeł. O Michale Bułhakowie. Kraków, 1990. S. 326.
�Гражина Павляк
(Варшава)
Ян Парандовский
и
Россия
Павляк Гражина / Pawlak
Grażyna — Dr., Польша,
Варшава, Институт литера
турных исследований ПАН
Биография Яна Парандовского (1895–
1978) — пример непростой, полной сложных хитросплетений судьбы, типичной
для обитателей «кресов» (восточных земель Речи Посполитой до Второй мировой
войны.— Прим. пер.), жизнь которых протекала на культурном пограничье. Родился он во Львове, матерью его была Юлия
Парандовская, полька, состоявшая в неофициальном браке с духовным лицом греко-католического вероисповедания, украинцем по происхождению — Яном Бартошевским. Ян Парандовский являл собой
пример человека, открытого влиянию разных обществ, культур, обычаев. Окружавшую его действительность он всегда воспринимал как новый важный опыт, который требует глубокого осмысления даже
в не очень благоприятствующих этому
обстоятельствах. Такие черты характера,
как сосредоточенность, умение глубоко
анализировать происходящее и рассматривать проблему в широком контексте,
он, скорее всего, выработал еще в детстве,
в родном доме. Его семья была примером
межкультурного и межконфессионального
союза. Отец Парандовского — украинец,
униатский священник, профессор Львовского университета, автор научных работ.
Мать — полька, католичка, домохозяйка,
родом из небольшого приграничного го-
�328 Гражина Павляк
родка Мостиска. Их единственный сын, который унаследовал от отца
имя Ян, согласно обычаю межконфессиональных браков, был крещен
в церкви и воспитан в вере отца. Скорее всего, и свои интеллектуальные способности он также унаследовал от отца. Ян Парандовский
рос и учился в многонациональном Львове, где на протяжении веков
сосуществовали, взаимно влияя друг на друга, польская, немецкая,
русская, еврейская и украинская культуры.
Мирная жизнь культурной столицы «кресов», динамично развивавшейся на рубеже XIX и XX вв., была прервана с началом Первой
мировой войны.
В первые месяцы военных действий российские войска заставили австро-венгерскую армию отступить и заняли Львов 3 сентября
1914 г. До июня следующего года город оставался в руках российской
администрации, которая последовательно проводила в жизнь новую
политику управления. В соответствии с ней вся территория Восточной
Галиции считалась исконно русской и православной. Проводником
этой политики стал военный генерал-губернатор Львова граф Георгий Александрович Бобринский, сразу после вступления в должность
объявивший о необходимости скорейшей интеграции Львова и всей
Галиции и возвращении ее в лоно единой и неделимой матери-России.
Отступление русских войск из Восточной Галиции и земель Царства
Польского началось в мае 1915 г. По распоряжению военного руководства российской армии переселению на восток подлежало около
600 тысяч поляков. Принудительной эвакуации подверглись 130 различных промышленных предприятий, учреждений, банков, а также
около 200 образовательных и научных центров — зачастую вместе
со всеми сотрудниками1. Значительная часть польской интеллигенции была интернирована вглубь России, в том числе Парандовский—
как австрийский подданный2. Ему было в то время всего 20 лет. Как
гражданский пленный он провел в России почти три года. Сначала
он оказался в Воронеже, затем жил в Саратове, где и стал свидетелем
событий 1917 года.
Саратов, в то время губернский город, оказался важным этапом
его жизненного пути. Именно в Саратове он встретил интернированную, как и он, в результате военных действий Аурелию Вылежиньскую
— писательницу и журналистку. В ту пору она была замужем за австрийским подданным, философом Адамом Кропачем (Adam Kropatsch). Вскоре она стала первой женой Яна Парандовского. Изменения в
российском законодательстве конца 1917 г. допускали гражданскую регистрацию браков и разводов. Поэтому для заключения нового супружеского союза — даже между лицами, не расторгшими прежние бра-
�Ян Парандовский и Россия 329
ки, особых проблем не возникало. Состоять в гражданском браке было
удобно по многим причинам. Это определяло статус лиц, проживавших
совместно под одной крышей, и позволяло пользоваться привилегиями,
полагавшимися супругам. Заключенный в России, брак Парандовского с Аурелией Вылежиньской никогда не был официально оформлен
в Польше. О том, что союз этот действительно существовал, известно
лишь с их слов. Аурелия Вылежиньская в своем дневнике периода Второй мировой войны несколько раз упоминает брак с Яном Парандовским3. Парандовский посвящает «моей жене» свою книгу «Большевизм
и большевики в России» («Bolszewizm i bolszewicy w Rosji»), и на ее
страницах неоднократно встречаются упоминания о ней4.
Такой была первая встреча Парандовского с Россией и ее жителями. Именно там, на фоне стремительно менявшейся ситуации на
фронте, он пережил Февральскую и Октябрьскую революции, которые изменили облик прежней России. В экстремальных условиях продолжавшейся войны он принял на себя роль внимательного наблюдателя и критика происходящих в стране событий политического и
общественного характера.
Молодой, образованный, умный и внимательный, он мог как бы
изнутри следить за осуществлявшимися на его глазах переменами.
Интуиция исследователя подсказывала ему, что события, свидетелем
которых он стал, имеют исторический масштаб. Он скрупулезно собирал всевозможные документы, свидетельствующие о зарождении
и развитии большевистского движения. Он понимал, как мало знают
поляки о современной им России. Он также отдавал себе отчет в том,
насколько важно информировать соотечественников. Одной из причин, по которой он занялся этой работой, была необходимость обнаружить истоки событий и явлений, а также предвидеть опасности, связанные со стремлением большевистского движения стать массовым.
В период своего интернирования в России в 1915–1918 гг. Парандовский внимательно следит за реализующимися на его глазах социальными преобразованиями. Вернувшись в Польшу, он продолжал
пристально наблюдать за «страной царей», в которой теперь бурлила
революция. В сфере его интересов были многочисленные польские
колонии, разбросанные по всей Российской империи, их специфика,
условия существования и развития. Этим вопросам он посвятил цикл
статей, опубликованных во «Львовской газете» («Gazeta Lwowska»)
под общим названием «Поляки в России»5. Цикл этих статей некоторым образом предшествовал изданию книги, которую он готовил
к публикации в это время, — «Большевизм и большевики в России»
(«Bolszewizm i bolszewicy w Rosji»)6.
�330 Гражина Павляк
Упомянутая серия статей заслуживает более внимательного
рассмотрения — ведь какое-либо упоминание о ней отсутствует в
библиографиях прошлых лет7 или в монографических трудах8 о Парандовском. Автора по-прежнему особенно интересовали поляки, которые оказались в губерниях европейской части России. Появление
первых значительных групп поляков на этих землях, по его мнению,
является следствием историко-политических процессов. Оно вызвано
падением польского государства и разделами Речи Посполитой в конце XVIII в. Наиболее значительной группой польских граждан, оказавшихся в России, стали участники восстаний 1830–1831 гг. и 1863 г.
Изгнанные из своей страны, оказавшиеся в чужой для них среде, они
находились под особым надзором полиции. Любой их поступок или
слово становились предметом расследования и дознания. Оторванные
от своих корней, ввергнутые в незнакомое им окружение, иной быт,
они были вынуждены искать и выбирать адекватную стратегию адаптации. Некоторые из них обретали себя в культивировании польских
традиций и, невзирая на суровые условия повседневного существования, продолжали сопротивляться внешним воздействиям. Другие
пытались слиться с инородной средой, обзаводились семьями и старались делать карьеру, тем самым, в сущности, отказываясь от мысли о возращении. Они, как правило, утрачивали свою национальную
идентичность.
Иллюстрациями этих разных способов выживания Парандовскому послужили судьбы двух поляков, сосланных в Россию после
восстаний. Первый женился на русской и стал царским чиновником.
В его доме говорили только по-русски, и именно в таком духе он воспитывал ребенка, который — не зная польского языка — никогда не
ощущал своей связи с Польшей.
Другим примером стал живущий в России сын повстанца, выходец из известной в Польше шляхетской семьи. Основав на чужбине свой дом, он сохранил в нем живые польские традиции. Подобно
первому герою, он также был царским чиновником, но, несмотря на
это, прекрасно владел польским языком. Он заботился о пропаганде
польской культуры, со временем стал коллекционером и библиофилом, разыскивавшим в российских архивах документы и памятники
польской старины; публиковал о них интересные научные статьи.
Ряды поляков-ссыльных ежегодно пополняли добровольно прибывавшие в Россию выходцы из Польши: «Это были чиновники, которых перевели сюда нередко с предоставлением им довольно высоких
должностей, а кроме того, все те, кого Россия привлекала возможностью легкого заработка. Сюда приезжали инженеры — в их уме, опы-
�Ян Парандовский и Россия 331
те и образовании ощущалась большая потребность, здесь находили
себе хорошие рабочие места на фабриках и заводах химики и вообще
люди предпринимательского склада, для которых эта земля, богатая,
но плохо обустроенная, открывала свои сокровища»9. Среди поляков,
вполне осознанно переселившихся в Россию на постоянное жительство и располагавших соответствующими средствами для того, чтобы
время от времени ездить на родину, можно было найти множество тех,
чьи дома на далекой чужбине становились центрами польской жизни.
Однако никогда, как пишет автор, поляков в России не было так много, как, например, немцев, которые создавали отдельные поселения.
В Саратовской губернии было немало сел, жителями которых были
исключительно немцы. Анализируя это явление, автор указывает две
основные причины. Первая — это общее для поляков нежелание навсегда оставлять родную землю, вторая—слишком сильная, исторически обусловленная неприязнь поляков к России. Парандовский пытался взглянуть с точки зрения исследователя и на другие национальные группы, существовавшие здесь наряду с польскими. По его мнению, важным отличием поляков от русских и от немцев была религия.
Конфессиональная идентичность в сложившейся ситуации заменяла
полякам национальную. Поляки отличались религиозностью и глубоким консерватизмом в вопросах веры. Как правило, при костелах
функционировали католические Благотворительные общества, членами которых были, по сути, почти все местные поляки. В такой деятельности Парандовский видел доказательство великой преданности
поляков своей национальности. Он писал: «Поляки ощущают потребность в том, чтобы объединяться всем вместе и находить в этом единении суррогат родины»10. Его суждения были основаны во многом на
саратовском опыте. В этом городе, несмотря на то, что католический
приход был немецким, а его священники — немцами, также действовало Благотворительное общество, членами которого являлись главным образом поляки. Общество содержало весьма скромную, но часто
посещаемую библиотеку, «с помощью которой тамошние поляки могли расширить свои знания о родине»11.
Другой формой деятельности поляков, постоянно проживавших
в России и нередко занимавших высокие посты в чиновничьей иерархии, была организация вечеров и балов, на которые приглашались
представители русской аристократии. Иногда на эти вечерах, как пишет автор, «даже ставили какую-нибудь невинную комедию»12.
Однако в среде добровольных польских эмигрантов Парандовский нередко встречал и совершенно противоположное отношение к
родным традициям. В качестве примера он рассказывает об одном по-
�332 Гражина Павляк
ляке, занимавшем высокий пост в судебной системе: он был женат на
польке и со всей своей многочисленной семьей — его собственной и
семьей его жены — они жили в том же городе. Однако говорить с ним
по-польски было практически невозможно. Дети его разговаривали
только по-русски. Впрочем, в этой среде было немало и других поляков, занимавших высокие государственные должности. Они живо
интересовались делами Польши и детей своих воспитывали в духе
патриотизма и любви к национальным польским традициям.
Начавшаяся Первая мировая война нарушила установленный и
прочный уклад жизни добровольных и вынужденных польских эмигрантов в России. Продвигавшаяся на восток линия фронта увлекала за собой сотни тысяч поляков, людей, лишившихся своего крова
или бегущих от наступавшего врага. Кроме того, российские власти
высылали из районов, находящихся в большей или меньшей опасности, подданных воюющих с Российской империей государств, а также
тех, кто мог быть заподозрен в желании сотрудничать с противником:
«Благодаря подобным административным распоряжениям российские города наводняли польские беженцы, которых было свыше двух
миллионов. Людской поток прибывал и убывал в зависимости от хода
военных действий»13. Люди оказывались, — писал Парандовский, — в
чужой стране, в которой им трудно было найти крышу над головой и
возможность заработка. Им грозила голодная смерть на улицах, так
как правительство, выселявшее их, не интересовалось дальнейшей
судьбой изгнанников. Тогда на помощь пострадавшим от войны приходили поляки, постоянно проживавшие в России. Именно они инициировали первые акции помощи переселенцам, организуя общества
поддержки жертвам войны. Другим источником поддержки служили
действовавшие при костелах Благотворительные общества, которые
были центрами польской жизни и прежде.
Деятельность одного из таких центров Парандовский показал на
примере Саратовского комитета помощи жертвам войны, с которым
он был непосредственно связан. Это была крупнейшая после польского комитета в Москве организация подобного типа. Она возникла на
базе местного Благотворительного общества, а его правление вскоре
реформировалось в правление нового комитета. С момента появления
первых беженцев одни представители этого комитета дежурили на
железнодорожном вокзале, другие находили свободные квартиры в
городе и в его окрестностях, а остальные прилагали все усилия к тому,
чтобы обеспечить изгнанников всем необходимым: «Еще в конце августа 1914 г. в Саратов прибыло около 1500 человек — иностранных
подданных, выселенных из Царства Польского, Литвы и Подолья. В
�Ян Парандовский и Россия 333
результате организованного в ноябре сбора пожертвований под лозунгом: “Саратов – разбитой Польше”, было собрано около 12 000 рублей.
Когда летом 1915 г. начали прибывать целые составы с изгнанниками,
комитет организовал несколько приютов, а в связи с возросшим масштабом работ возник целый ряд самостоятельных комиссий и отделов,
таких как: секция по обеспечению квартирами и приютом, секция по
вопросам просвещения, секции вокзальная, статистическая, финансовая, а также отдел по вопросам трудоустройства»14. Лишь в сентябре
1915 г. в Москве был созван съезд делегатов комитетов, на котором
был избран Совет съездов польских организаций, который с этого момента играл роль головной организации, координировавшей помощь
жертвам войны. К мнению Совета правительство прислушивалось
больше и оказывало гораздо более существенную финансовую помощь. Эта организация должна была заниматься созданием убежищ и
приютов для детей, больниц и школ. Ее усилия также были направлены на предоставление большей самостоятельности широким группам
переселенцев, на создание для них новых рабочих мест,— например,
пошивочных и ремесленных мастерских, пекарен. Были организованы курсы для неграмотных, устраивались многочисленные лекции и
встречи: «В Саратове и в Москве даже существовали гимназии с программой для средних школ Царства Польского. Помимо этого, комитеты занимались распределением пособий, размер которых составлял
8 рублей в месяц на человека»15.
Наряду с комитетами помощи беженцам существовал также
созданный еще в Польше в начале войны Центральный Гражданский
комитет (ЦГК), который занимался прежде всего беженцами из Царства Польского. Это было учреждение, имевшее жесткую структуру и
распространявшее свое попечительство и на уезды. Сотрудники ЦГК
старались предотвращать бессмысленное перемещение людей с места
на место. Они определяли беженцам место постоянного пребывания и
организовывали соответствующую работу. Но наиболее значительна
роль данного Комитета в организации польских школ, которые часто
составляли треть, а то и половину всех школ Саратовской губернии
в то время. Школы эти пользовались очень хорошей репутацией, и
даже, — как пишет Парандовский, — «случалось, что и русские посылали своих детей в польские школы, желая научить их опрятности,
послушанию, хорошим манерам и дисциплине, чего не могли обеспечить российские школы»16.
После большевистского переворота ситуация изменилась самым
драматическим образом. Государственные дотации, которые прежде
предназначались для изгнанников, теперь лишь изредка попадали в
�334 Гражина Павляк
соответствующие учреждения, а чаще всего они оказывались непосредственно в «ненасытной утробе молоха, имя которому было: — Комиссия по борьбе с контрреволюцией»17. Большевистское движение в
польской эмиграции возглавляли люди молодые, зачастую недоучившиеся гимназисты или же неопытные рабочие. «Оторопь брала, —
писал Парандовский, — когда ты видел, как на таком собрании какие-то молокососы сбивали с толку зрелых людей. В результате провозглашения независимости Польши Временное правительство создало
Ликвидационную комиссию. После того как был создан Комиссариат
по польским национальным делам, комиссар по польским делам стал
подчиняться непосредственно комиссару по делам национальностей.
Во всех губерниях создавались польские большевистские комиссариаты, которые должны были представлять интересы поляков в правительстве Советов. Комиссариат по польским делам организовывал
помощь изгнанникам на основе новых принципов. Этими вопросами
стали заниматься Советы по делам беженцев, которые входили в состав Всероссийского союза по делам беженцев. Однако последствия
такого решения оказались катастрофическими. Зависимость от главной российской организации, работавшей в условиях большевистского хаоса, принесла эмигрантам лишь голод и нищету. По мнению
Парандовского, «источником всех несчастий, с которыми столкнулась польская эмиграция в России, было отсутствие единства и согласия»18. Главной в деятельности отдельных партийных организаций
стала борьба между партийными группировками. Яркое отражение
распри, разделявшие эмигрантское сообщество, нашли на страницах
эмигрантской прессы России, в газетах и журналах, издававшихся в
Москве («Gazeta Polska», «Echo Polskie», «Głos Polski») и Петербурге
(«Dziennik Piotrogrodzki», «Dziennik Polski», «Myśl Narodowa»).
На этом фоне выросла роль разбросанных по разным губерниям «Польских Домов» — общественно-культурных организаций. Как
правило, встречи в таком «Польском Доме» проходили раз в неделю,
здесь читались лекции, организовывались вечера декламации и вокала, концерты. Иногда ставили любительские польские спектакли и
устраивали вечера, посвященные национальному празднику или юбилею известного автора.
Представив вкратце историю польской эмиграции в России, автор попытался ответить на вопрос, чем она была для тех, кто оказался на чужбине, и что она им дала. Сравнивая эту эмиграцию с Великой эмиграцией 1830 г. во Франции, принесшей прекрасные плоды
в виде эпохальных произведений польских романтиков (Мицкевича,
Словацкого, Красиньского), Парандовский пришел к заключению,
�Ян Парандовский и Россия 335
что эмиграция в России оказалась крупным «поражением»: «В России не только не появилось ни одной крупной личности, не только не
родилось ни одной новой идеи, не было создано ни одного великого
литературного или научного произведения, но и на фоне того, что появилось в это время в самой Польше, оказалось ничтожным, выхолощенным, уродливым. После возвращения из России мы имеем в итоге
одни лишь потери», — такой вывод делает автор в первые месяцы после возвращения на родину19.
Менее чем через год Парандовский издает книгу «Большевизм
и большевики в России». Это двухсотстраничное произведение было
написано во Львове в течение всего лишь двух летних месяцев 1919 г.
В том же году книга была напечатана в типографии Леона Данкевича в городе Станиславе. Эта книга должна была хотя бы в какой-то
мере помочь читателю разобраться в событиях, которые сотрясали
Россию в начале XX в. «Полное незнание российских переворотов, —
подчеркивает автор в предисловии, — доходит у нас до наивности.
В 1917 г., спустя четыре месяца после русской революции, один серьезный польский автор писал: “Вопреки наивным предположениям,
русская революция не приведет к принципиальным изменениям в
Восточной Европе”20. В тот момент такое мнение было довольно распространенным, его разделяли все политики. Но события последнего
года сделали смешным это убеждение. И можно только удивляться,
что такой гигантский переворот, каким стало свержение царизма, и
эта революция, охватившая почти одну шестую часть мира, какое-то
время воспринимались как случайный эпизод, как обычный “нигилистический” протест в России»21.
Следует помнить, что автор сформулировал этот тезис тогда,
когда господствовало мнение об «агонии большевизма». Падения его
ждали буквально со дня на день. Появившаяся в разгар революционных событий книга содержит не только зафиксированный цепким
взглядом наблюдателя репортерский очерк событий. На ее страницах
заметны попытки автора проанализировать революционные изменения, а также стремление дать прогноз на будущее. Предсказания
писателя оказались чрезвычайно точными, они выдержали проверку
временем. Заключения, содержащиеся в книге, основаны чаще всего
на верной оценке общественной и исторической ситуации в России:
«Большевизм — это явление специфически российское. Он рос, эволюционировал и буйно расцвел на российской почве, и, хотя мы видим его в других местах и далеко за границами России, он никогда не
порывает со своей родной почвой. Российский большевизм таков, каким его сделала Россия, которая, — взяв за основу социалистические
�336 Гражина Павляк
и коммунистические теории, сформулированные на Западе, — вырастила чудовищное, уничтожающее все на своем пути, бесполезное
движение»22.
Автор указывает причины, способствующие развитию большевизма в России. По его мнению, ключевых факторов несколько. А
именно: глубокое расслоение общества; симптоматичное отсутствие
связей между широкими, темными крестьянскими массами, с одной
стороны, и немногочисленной, прекрасно образованной интеллигенцией, с другой; разрушительная сила повсеместно господствующего
нигилизма; всеобщее невежество и карьеризм, а также сформировавшиеся на протяжении многих лет авторитарного правления пассивность общества и неспособность его к самоорганизации.
В опубликованной работе, кроме глубокого анализа ситуации,
акцентируется антиеврейская перспектива, которую Густав Херлинг-Грудзинский в своей книге «Дневник пишущего по ночам,
1993–1996 гг.» («Dziennik pisany nocą 1993–1996»)23 прямо называет
«одержимостью евреями». Евреи представлены в книге Парандовского циничными и жестокими разрушителями общественного порядка,
грабителями, лишающими страну всех богатств, или же беспощадными диктаторами, мстящими народу за свои прежние унижения. Но в
первую очередь автор склонен приписывать этой нации самое активное участие в советизации российского общества.
Насколько тема русской революции — ее истоков и дальнейших
перспектив — была важной для польского читателя, свидетельствует
вышедшая в свет буквально через год в львовском издательстве «Книги для всех» брошюра Парандовского «В водовороте большевизма»
(«W odmętach bolszewizmu»). В этой работе, позже никогда не переиздававшейся, содержится схематическое изложение исторических
процессов, которые происходили в России тех лет. В определенном
смысле она представляет собой краткий обзор книги «Большевизм
и большевики в России». Лидерам большевистской партии — Ленину, Троцкому и Зиновьеву — Парандовский приписывает участие в
еврейско-немецком заговоре, имевшем целью уничтожение ростков
зарождавшейся демократии. Он прямо обвиняет их во лжи и в использовании общественного недовольства в собственных интересах:
«В ноябре 1917 года с помощью наихудших элементов, грабителей и
насильников, большевикам удалось свергнуть правительство Керенского… Эти люди, преимущественно евреи по происхождению, не
связанные с Россией никакими узами, безусловно относящиеся враждебно к стране и народу, разлагали армию. Под влиянием их лозунгов,
направленных на углубление пропасти между солдатами и офицера-
�Ян Парандовский и Россия 337
ми, военные бросали оружие и позорно, в панике бежали при виде
немецких войск»24.
Как представляется, этой брошюре предназначалась пропагандистская роль. Ее язык, стиль и аргументация указывают именно на
такой характер данного текста. Обе работы свидетельствуют, что писатель был активно вовлечен в текущие политические события. Они
говорят о том, что сильное давление на писателя оказывало окружение, в котором антисемитские стереотипы играли заметную роль.
Внимательное изучение текстов Парандовского, относящихся к более
позднему времени, не оставляет сомнения в том, что в его творческой
биографии этот случай ангажированного творчества стоит особняком.
Независимо от разных оценок этих работ, и книгу «Большевизм
и большевики в России», и брошюру «В водовороте большевизма»
можно отнести к первым советологическим публикациям. После того
как книга «Большевизм и большевики в России» была переиздана в
лондонском издательстве «Пульс» («Puls», 1996), критики зачислили
Парандовского в категорию «пионеров советологии»25, признав значимым его вклад в создание правдивой, в ее наиболее принципиальных
чертах, картины зарождавшегося тоталитаризма.
Книгу, написанную всего лишь за два летних месяца 1919 года,
Парандовский посвятил своей жене, которая разделила с ним время
пребывания в «стране царей». Симптоматичной стала и дальнейшая
судьба этой книги. В первые годы после выхода в свет она не получила должной оценки. В Народной Польше ее отправили на полку,
включив в список запрещенной литературы, и обрекли на забвение.
Второе издание спустя почти восемьдесят лет вышло в лондонском издательстве «Пульс» в 1996 г. Читатели этого издания уже не увидели
на титульном листе посвящения «Моей жене». Можно лишь догадываться, что посвящение, указывающее на связь Парандовского с другой женщиной, исчезло по решению наследников писателя от второго
брака. Спустя одиннадцать лет (2007) на польском книжном рынке
появилось первое послевоенное издание книги под измененным названием «Большевики и большевизм в России», также без напечатанного прежде посвящения жене. Интересно, что последний вариант
названия, хотя измененный случайно, заставляет вспомнить ошибку
в титуле, которая когда-то появилась в рапорте офицера Окружного
управления военной информации, направленном начальнику Воеводского бюро общественной безопасности в Люблине в 1948 г.26
Более полувека книга оставалась недоступной читателю. Но она
показывает, насколько внимательным наблюдателем был Парандов-
�338 Гражина Павляк
ский и насколько глубоко он умел анализировать современную ему
ситуацию. Это служит опровержением распространенного мнения о
том, что писатель якобы уходил от насущных вопросов.
Судьба книги, несмотря на решение об изъятии ее из списка доступных читателям, имела свое скрытое продолжение в Народной
Польше. В собрании Института национальной памяти сохранились
документы, указывающие на попытки полностью вычеркнуть данную
публикацию из сознания читателей, а также на стремление сделать ее
средством манипуляции — в частности, при предоставлении писателю разрешения на выезд за границу. Уже 10 декабря 1948 г. из Окружного управления информации Войска Польского был направлен документ со штампом «совершенно секретно» на имя начальника Воеводского бюро общественной безопасности. «Оперативное донесение»
касалось информации о том, что в библиотеке Люблинского потребительского кооператива в общем доступе находится книга профессора
Яна Парандовского, изданная в 1919 г., под названием «Большевики,
большевизм и Россия»27. Кроме того, в донесении содержалась краткая
характеристика публикации: «В книге содержится критика социалистического строя СССР на фоне истории революционного рабочего
движения через оценку мартовской и октябрьской революции. Профессор Парандовский представляет в этой книге собственный взгляд
на социалистический строй, открыто очерняя историю пролетарского
движения, его принципы и цели. В настоящее время Парандовский
является профессором Люблинского католического университета»28.
Насколько можно судить по дальнейшему жизненному пути Парандовского, факт существования в творчестве писателя такой публикации не сказался негативно на его писательской карьере в ПНР.
Автор публикации «Большевизм и большевики в России» внимательно следил за появлявшимися в зарубежной прессе оценками происходящих на Востоке перемен и комментировал их29. Он обращался и
к имевшимся в Польше российским газетам, чтобы использовать их в
качестве непосредственного источника сведений о действительном состоянии дел в бывшей царской державе30. Он не оставил без внимания и
книгу вождя революции31, которой посвятил обширную и критическую
рецензию. По его мнению, «брошюра Ленина в сущности слаба. И как
раз по причине своей слабости она весьма характерна. Нам становятся
ясны не только взгляды вождя большевиков, но и источник, на который
он опирается. Ленин — совершенно искренне, с огромным энтузиазмом — обращается к своим авторитетам Марксу и Энгельсу. Его книга,
собственно, представляет собой набор цитат из этих авторов, а вернее,
она яростно защищает все то, что они провозглашали»32.
�Ян Парандовский и Россия 339
Вернувшись в Польшу в 1918 г., Парандовский внимательно наблюдал за советским литературным рынком. Он перевел «Рассказ
неизвестного человека» А. П. Чехова33. Как председатель польского
ПЕН-клуба, он организовывал выступления советских писателей в
Варшаве34. Он выступал за подписание конвенции об авторских правах с Советским Союзом35, предлагая создать ПЕН-клуб советских
писателей в рамках Международного ПЕН-клуба36. Опытным взглядом критика он оценивал постановки произведений русских авторов
на польских сценах37.
Парандовский был автором многочисленных статей и воспоминаний о выдающихся современниках. Он оставил портреты ушедших
из жизни известных деятелей мира науки, литературы и искусства. На
страницах львовской прессы он, в частности, публиковал воспоминания о графине Софье Андреевне Толстой, которая не только была супругой писателя, но и являлась хранительницей памяти о Льве Николаевиче; даже у большевиков она пользовалась огромным уважением38.
С конца 60-х гг. XX в. переводы произведений Парандовского
выходили чаще всего именно на русском языке39. Несмотря на большую популярность среди советских читателей, автор никогда не приезжал в Советский Союз. Возможно, одной из главных причин стало пережитое им в юности тяжелое испытание — интернирование в
1915–1918 гг.
(Перевод Е. Шиманской)
Примечания
1
2
3
4
Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii / Pod red. K. Dopierały. Toruń,
2005. T. 4. S. 276.
Я. З. Лиханьский ошибается, когда пишет: «Парандовский как австрийский подданный вместе с семьей (подчеркнуто мною. —Г. П.) был депортирован вглубь России» (Lichański J. Z. Wtajemniczenia i refleksje.
Szkic monograficzny o Janie Parandowskim. Łódź, 1986. S. 14). Первый
биограф Парандовского указывает, основываясь на авторизованных
интервью, что во время пребывания в Воронеже и Саратове Ян получал
от матери деньги, которые она ему пересылала через Красный Крест.
См.: Harjan G. Jan Parandowski. New York, 1971. S. 23.
Wyleżyńska A. Notatki pamiętnikarskie // Archiwum Akt Nowych. Sygn.
231 / I-1 — 231/1-6.
Один из абзацев начинается со слов: «Вместе с женой мы занимали одноэтажный домик, в котором было пять небольших комнаток» (Parandowski J. Bolszewizm i bolszewicy w Rosji. Lwów, 1919. S. 64).
�340 Гражина Павляк
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Gazeta Lwowska. 1918. № 260–268. S. 3, 4, 5.
Издана во Львове в 1919 г.
Речь идет о находящейся в Институте литературных исследований
ПАН «Картотеке литературной библиографии содержания польских
журналов ХIХ и ХХ вв.» («Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości
Czasopism Polskich XIX i XX wieku»), известной как «Картотека Бара»
(«Kartoteka Bara»).
Harjan G. Op. cit.; Studencki W. Alchemik słowa. Rzecz o Janie Parandowskim. Opole, 1972–1974. Cz. 1–2.
Parandowski J. Polacy w Rossyi // Gazeta Lwowska. 1918. № 260. S. 4.
Ibid. № 261. S. 3.
Ibidem.
Ibidem.
Ibid. S. 4.
Ibidem.
Ibid. № 262. S. 4.
Ibidem.
Ibid. № 263. S. 5.
Ibid. № 266. S. 3.
Ibid. № 268. S. 4.
Kulczycki L. Druga Rewolucja Rosyjska. Warszawa, 1917.
Parandowski J. Bolszewizm i bolszewicy w Rosji. S. 8–9.
Ibid. S. 15.
Herling-Grudziński G. Dziennik pisany nocą 1993–1996. Warszawa, 1998
(запись от 13 января 1996 г.).
W odmętach bolszewizmu. Lwów, 1920. S. 2.
Dybciak K. Pionier sowietologii // Rzeczpospolita. 1996. № 94. S. 6.
Parandowski J. Akta osobowe, sygn. IPNBU0192/670. S. 26.
Это неправильное название, верно — «Большевизм и большевики в
России» (Bolszewizm i bolszewicy w Rosji. Lwów, 1919).
Parandowski J. Akta osobowe, sygn. IPN BU 0192/670. S. 25-26.
P. [Parandowski J.]. Śladem bolszewików // Gazeta Lwowska. 1919. № 155.
S. 2; P. [Parandowski J.] Krucyata bolszewicka // Ibid. № 157. S. 2; J. P.[Parandowski J.] «Petit Parisien» o Ukrainie // Ibid. № 169. S .3.
(P). [Parandowski J.] Życie Rossyi // Gazeta Lwowska. 1919. № 75. S. 5.
Lenin W. Państwo a rewolucja. Warszawa, 1919.
Parandowski J. Książka o Leninie // Gazeta Lwowska. 1919. № 21. S. 2.
Издано: Warszawa: Biblioteka Groszowa, ок. 1927.
Ławrenjew w Warszawie // Wiadomości Literackie. 1934. № 8. S. 12.
Встречи по этому вопросу проходили 21 февраля 1934 г. в Институте
пропаганды искусства с участием писателя Бориса Лавренева и секре-
�Ян Парандовский и Россия 341
36
37
38
39
таря посольства СССР Георгия Александрова. См.: Nałkowska Z. Dzienniki. T. 4. Cz. 2. 1930–1939 / Opr., wstęp i koment. H. Kirchner. Warszawa,
1988. S. 411.
С предложением о создании ПЕН-клуба советских писателей Парандовский выступил на Международном Конгрессе ПЕН-клубов в Эдинбурге 23 июня 1934 г. См.: Nałkowska Z. Оp. cit. S. 471.
Mikołaja Gogola Ożenek («Женитьба» Н.В. Гоголя) [Teatr Ateneum w
Warszawie] // Gazeta Polska. 1937. № 291. S. 3; Anna Karenina («Анна Каренина») [Teatr Kameralny w Warszawie] // Ibid. 1938. № 33. S. 3.
J. P. [Parandowski J.] Z. A. Tołstojowa // Gazeta Lwowska. 1919. № 266. S. 5–6.
Были, в частности, изданы произведения: «Мифология», «Алхимия
слова», «Эрос на Олимпе», «Петрарка», «Олимпийский диск», «Король
жизни», много рассказов, а также «Избранное» (1981). См.: Pawlak G.
Rosyjskie przekłady utworów Jana Parandowskiego // Victor Chorev—Amicus Poloniae. М., 2012. С. 79–82.
�Как создавался
«Царь Павел I»
Хенрик Изидор
Рогацкий
(Варшава)
Людвика Сольского
В субботу 17 декабря 1910 г. в краковском драматическом Театре им. Ю. Словацкого состоялась мировая премьера пьесы
Дмитрия Мережковского под названием
«Царь Павел I». Автором перевода был Константы Сроковский. Режиссером-постановщиком, конечно же, был директор театра
Людвик Сольский, что, однако, не было
указано ни на афише, ни в прессе. Может,
потому, что директор Сольский был также
исполнителем заглавной роли и в качестве
актера становился, не в первый раз впрочем,
самостоятельным автором всего спектакля.
У Людвика Сольского была явная
слабость, а может, и естественная предрасположенность к ролям монарших особ.
В конце тридцатых годов в поздравлениях по случаю юбилея о нем написали, что
«прежде чем он осел в Варшаве, отрекшись от всех тронов, он властвовал поочередно и попеременно по нескольку раз
в Испании, России, Пруссии, в Риме и Греции, даже в Турции». И, наверное, только
чтобы отметить скромность и разносторонность актера, добавлялось: «Был он и
Зернышком перца, и щепоткой Муската,
и Пахтой, и Дудником, то Лоскутом, а однажды даже Чубуком и Варганом»1.
По многообразным и достаточно
очевидным причинам роли российских
Рогацкий Хенрик Исидор /
Rogacki Henryk Izydor —
Dr. hab., профессор, Польша, Варшава, Государственная театральная Академия
им. А. Зельверовича
�Как создавался «Царь Павел I» Людвика Сольского 343
монархов занимали среди ролей Людвика Сольского особое место и
представляли собой знаменательное явление. Сольский сыграл трех
царей — Дмитрия, Ивана и Павла — из двух царских династий — Рюриковичей и Романовых. 28 марта 1908 г. состоялась премьера «Царя
Самозванца» А. Новачинского, 24 сентября 1910 г. «Царя Ивана Грозного» А. К. Толстого, а еще через три месяца — мировая премьера
«Царя Павла I». Все три премьеры были показаны в Кракове.
Первое представление на сцене в древней столице польских королей, а тогда столице окраинной провинции Австро-Венгерской империи, сенсационной, можно сказать, пьесы современного российского
писателя, изобразившего не только событие из тайной истории России,
но и долго скрываемую государственную тайну соседней державы,
представляется событием, пикантность которого только усиливается с
течением времени. В Кракове было показано произведение о жестоком
убийстве весьма неоднозначно оцениваемого монарха, чей официальный отец (Петр III) тоже погиб в результате заговора от рук подосланных убийц и чей сын и наследник (Александр I), что до недавних пор
было известно каждому ребенку, умер в Таганроге также при весьма
таинственных обстоятельствах2. Спектакли Краковского театра заставляли задуматься не только о частных примерах монарших судеб.
Из «царских» пьес самым большим достижением театра, его директора и актера и, как уже было сказано, своего рода автора спектакля был «Царь Самозванец». Самый длительный же успех выпал
на долю «Царя Павла I». Сольский сыграл заглавную роль 91 раз, в
последний раз — 14 января 1939 г.3
Дмитрий Мережковский (1866–1941) — теоретик и предтеча русского символизма, духовный отец символистов-неохристиан, литературный критик с философским уклоном, поэт, прозаик и драматург —
является одной из центральных фигур так называемого серебряного
века русской культуры. Он эмигрировал из России в 1920 г. Некоторое
(недолгое) время жил в Варшаве, затем (до конца жизни) — в Париже.
Его программное декадентство отступало под напором ницшеанства
вкупе с культом индивидуализма, увлечение различными проявлениями аморализма и анормальности иногда переходило в демонизм.
«Павла I» он написал в 1908 г. Пьесу принял к постановке театр Станиславского, начались репетиции, но работа над спектаклем была
запрещена царской цензурой4. Цареубийство было в России табуированной темой, обставленной многочисленными запретами. До конца
XIX в. в Российской империи была принята официальная версия, согласно которой Павел I умер от апоплексического удара, а смерть Петра III наступила в результате приступа геморроя.
�344 Хенрик Изидор Рогацкий
Пьеса Мережковского представляется своего рода историческим
репортажем с моралью, как относящимся к течению документального
театра, так и предлагающим размышления, построенные на эффектных обобщениях, о феномене тирании, о столь любезной той эпохе
проблеме сосуществования гения и сумасшествия, размышления, затрагивающие область темных сторон русской души и феноменологию
зла. Но для зрителей, пришедших на премьеру, самым существенным
был все же сенсационный и разоблачительный аспект пьесы, который
рассказывал ту правду о государстве царей, которая раньше по их
приказу тщательно скрывалась. «Царь Павел I» Мережковского состоит из 5 актов и 8 картин, действие автор максимально сжал. Драма
охватывает временной отрезок с 9 по 12 марта 1801 г. Все действие
пьесы Мережковский расписал на 46 партий-ролей. Людвик Сольский
же поставил «Павла I» в 7 картинах. Премьерный спектакль начался в
7:40 вечера, а закончился в 11:20. Продолжался он 3 часа и 40 минут5.
Как видно, не напоминал он сегодняшних бесконечно тянущихся сериалов.
Несмотря на очевидную тематическую остроту и сенсационность, пресса перед премьерой писала о пьесе слегка скептически.
Писали: «Недостаточно быть удушенным, чтобы стать героем трагедии»6; «пьеса Мережковского является сольной партией, которая
чрезвычайно редко переходит в дуэт, чаще всего она исполняется на
фоне хора».7
Персонаж, чью «арию» должен был исполнить Людвик Сольский, имел своего прототипа и свой исторический облик. В Польше
в первую очередь помнили о том, что Павел I, вступив на престол,
посетил в тюрьме Тадеуша Костюшко (что было увековечено на бесчисленном количестве гравюр и офортов), затем освободил его и
предложил вождю восстания тысячу душ, позднее замененных на 60
тыс. рублей. Некоторые также помнили и то, что Павел считал, что
его отцом был Станислав Август Понятовский, хотя тот решительно
отрицал подобного типа домыслы. Вступив на российский престол,
Павел I разрешил своему предполагаемому отцу поселиться в Мраморном дворце в Петербурге и вернул ему отобранный Екатериной II
королевский титул8.
Современный исследователь истории России пишет, что о царе
Павле I существует общее мнение как о сумасшедшем на троне. Вспыльчивый, всегда мрачный и склонный к эмоциональным взрывам, непредсказуемый в своих действиях, царь не вызывал симпатии, скорее недоверие и страх. В ночь с 11 на 12 марта (по ст. ст.) заговорщики проникли
во дворец Павла и потребовали от него подписать акт об отречении.
�Как создавался «Царь Павел I» Людвика Сольского 345
Когда он отказался это сделать, на него начали оказывать физическое
давление; завязалась борьба, в результате которой Павел был убит. На
трон вступил старший сын Павла Александр, который был посвящен
заговорщиками в планы покушения9. Специалист по истории европейских династий так оценивает петербургского монарха: «Тяжелый, непостоянный характер царя, склонного к приступам гнева и жестокости, не
добавил ему друзей. Часто его считали душевнобольным. Трудно было
понять специфическую систему правления, которая была направлена
на проникновение в сугубо частную сферу жизни подданных. Павел I
установил атмосферу болезненной подозрительности, требовал от своих
подданных безоговорочного подчинения и послушания. События в Западной Европе отвратили Павла от мысли о необходимости изменения
политического устройства России. Его царствование стало символом
деспотизма. Абсурдность обвинений и репрессии властей приводили к
тому, что никто не знал, что его ждет завтра и за что он может попасть
в тюрьму. Жестокая политика Павла I, унижение подданных, ликвидация привилегий увеличили количество его врагов. Предпринять радикальные действия решились высшие офицеры царской армии. Во главе
заговора стоял Петр фон дер Пален, генерал-губернатор Санкт-Петербурга. Заговорщики, получив согласие старшего сына царя Александра
занять престол… потребовали от Павла отречения от престола. Когда
тот решительно отверг это требование, они его убили, открыв дорогу
на престол Александру I»10.
Из приведенных мнений историков однозначно вытекает, что
казус Павла I можно понимать как пример действия Великого Механизма, гениально описанного Шекспиром и проницательно интерпретированного театром ХХ в. и в критических работах Я. Котта11.
Представляется, что исполнение роли царя — это попытка испробовать себя в реализации особой разновидности монаршего персонажа (которой вся европейская культура придавала сакральный
характер12), ее чисто мистического воплощения, присутствующего в
идеологии, традициях и жизни России. Исследования Б. Успенского и
В. Живова убедительно доказали, что в истории России живет и действует (в прошлом и в настоящий момент) идея параллелизма монарха
и Бога13. Вытекающая из нее практика сакрализации царя предполагает признание того, что российский монарх наделен неким особым
характером, даром милости, благодаря чему он может (а может быть,
и должен) восприниматься как существо сверхъестественное. Атрибутом царя становится парадоксальное представление о его бессмертии.
О каждом государе, умершем естественной смертью, — доказывают
авторы книги «Царь и бог», — говорили также, что его «угробили».
�346 Хенрик Изидор Рогацкий
И это мнение укоренилось в народе, который в массе своей верит, что
российский царь не может умереть естественной смертью и что действительно ни один из них своей смертью не умер. При этом каждому
монарху приписывали другого родителя. Умершие цари оживали как
самозванцы14. И так это все запутывалось, что как-то раз в правительственном заявлении Пугачева назвали «фальшивым самозванцем»,
что можно было счесть официальным признанием казачьего бунтовщика как царя…
Искушению сакрализовать самого себя поддавался и Павел I.
«Во время коронации (1796) он формально принял титул главы церкви (сам себя причащал) и стал покровителем как масонства высших
ступеней посвящения, так и римско-католической церкви… В 1798 г.
он назначил себя командором Ордена мальтийских рыцарей… предложил папе римскому укрыться в России от революции, утвердил образование католического прихода в Санкт-Петербурге и доверил иезуитам просветительскую деятельность в западных губерниях России,
поставив их во главе Виленской академии»15. Этот правитель, всерьез
стремящийся к личной унии между императорским и папским престолом, убежденный в своей реальной власти над силами природы, человек слабого физического здоровья и чрезвычайно суровый, который
«жаловался, что во дворце в Гатчине пугают привидения», остался в
массовой исторической памяти благодаря двум анекдотам, в которых
он был главным действующим лицом. Как-то раз во время учений он
счел, что пехотный полк недостаточно хорошо вымуштрован, так он
отдал приказание этому полку отправляться прямо с плаца в Сибирь;
солдат, вышагивающих парадным шагом на край света, остановили
лишь через несколько дней. А второй анекдот говорил о том, что он
отправил две казачьи сотни на завоевание Индии, чтобы повторить
деяние Александра Македонского…
Этот последний анекдот, который упоминается в III акте пьесы
как доказательство его безумия, не отменяет факта, что нападение на
британскую Индию было существенным элементом планируемого
антибританского пакта Российской империи с наполеоновской Францией. Польский исследователь М. Живчинский даже утверждал, что
британский посол в Петербурге Уитворт, обеспокоенный профранцузским курсом российской политики, подготовил устранение Павла I с престола16.
В 1910 году, когда Людвик Сольский первый раз сыграл царя
Павла I, над царским величием, царской легендой и царской судьбой
сгущались черные тучи истории. Еще была свежа память о «кровавом
воскресенье» в Петербурге (9 января 1905 г.), которое стало непосред-
�Как создавался «Царь Павел I» Людвика Сольского 347
ственной причиной начала революции 1905 г. Перед Зимним дворцом
«с иконами и портретами царя собралась толпа рабочих, которые
просили Николая II провести реформы, направленные на улучшение
условий их жизни. По приказу государя армия открыла огонь по манифестантам»17. «Без следа испарились остатки веры в доброго царя»18.
Примирение наступило совсем неожиданно в конце июля 1914 г.,
накануне масштабного кровопролития Первой мировой войны. Процитируем А. Солженицына: «У Зимнего дворца — стотысячная масса
на коленях со склоненными национальными флагами… Вся Родина
сплотилась вокруг своего Царя… В полном единении с нашим Самодержцем… “Бог, Царь и народ!”»
И то же самое в стихах, процитируем вновь из Солженицына:
Перед началом битв, как встарь,
Свершив великое моленье,
К народу тихо вышел Царь19.
Кровавым эпилогом отношений царя и народа стало совершенное
по приказу центральных властей большевистского режима в ночь с 16
на 17 июля 1918 г. жестокое убийство Николая II и его семьи. Это событие тоже имело свой эпилог. По прошествии многих лет Николай II
был причислен православной церковью к лику святых. Его официальное погребение состоялось только в 1998 г. В церковных киосках уже
продавались парадные иконы царя-святого, когда в 2008 г. российский
Верховный суд признал царя Николая II и членов его семьи жертвами
политических репрессий и реабилитировал их.
Когда Людвиг Сольский прощался с ролью Павла I, память о последнем императоре России для одних была воспоминанием о справедливо уничтоженном «враге народа», для других — символом верности жертве мученика свободы. Каждая из этих позиций могла (но не
обязательно) влиять на суждение о предшественниках Николая II на
царском троне. Во всяком случае, последний царь еще не был православным святым, когда всем стало более или менее очевидно, что новая советская власть поддалась действию испробованных принципов
Великого Механизма.
В размышлениях о роли царя Павла I, несмотря на назойливое
вмешательство истории, не могли не появиться и другие моменты.
Можно предполагать, что Сольский знал о том, что, когда Павел с
женой путешествовали по Европе под именем графа и графини Норд
(1782), австрийский император Иосиф II наградил 50 дукатами актера своего придворного театра «за меткое замечание», что если графа
�348 Хенрик Изидор Рогацкий
Норда пригласить на постановку «Гамлета», то «в зале будут присутствовать два Гамлета».20 Можно и «коня дать в придачу» тому, кто
угадает, имел ли император в виду только то, что у Павла, так же как
у Гамлета, убили отца, или же он принимал во внимание нервный, меланхолический, особенный, таинственный и необъяснимый характер
петербургского царевича.
Наверняка Сольский слышал и о сравнениях царя Павла с Дон
Кихотом, и об определении «романтический император»21, которое
вышло из-под пера Пушкина. Самое интересное было бы, если б
Сольский познакомился с чисто медицинскими исследованиями случая своего героя. В начале нашего столетия проблема психического
заболевания Павла стала предметом исследования двух выдающихся
психиатров. В 1901–1909 гг. восемь изданий выдержала книга П. Ковалевского, где автор (ссылаясь в первую очередь на известные из литературы «анекдоты о Павле») делает вывод, что царь относился к категории «дегенератов второй степени со склонностью перехода этого
состояния в психическое заболевание в виде мании преследования…»
Однако профессор В. Чиж, опираясь на значительно более широкий
материал, отметил, что «Павла нельзя считать маньяком», что «он не
страдал психическими заболеваниями» и «был психически здоровым
человеком»22.
Отмечая чисто медицинский подход к личности Павла как недостаточный, стоит упомянуть о наиболее зловещем видении будущей судьбы Павла, о котором еще в юные годы царевича говорил его
кумир — Фридрих II Прусский. «Мы не можем обойти молчанием
мнения, высказанного специалистами относительно характера этого
молодого принца, — писал король. Он произвел впечатление гордого,
высокомерного, вспыльчивого, что вызвало у тех, кто знает Россию,
опасение, что трудно ему будет удержаться на троне, где его — призванного править народом примитивным и диким, да еще распущенным в результате мягкого правления нескольких государынь — может
ждать та же судьба, что его несчастного отца»23. Заметим на полях,
что с личностью Фридриха Великого Людвик Сольской тесно соприкасался достаточно длительный период времени — его роль в пьесе
А. Новачиньского — это нечто большее, чем даже суперроль.
Однако пора обратиться к свидетельствам самого режиссера-актера по поводу «Царя Павла I». В своих воспоминаниях Людвик Сольский написал или, вернее, велел написать: «Под конец года состоялась
мировая премьера пьесы Дмитрия Мережковского “Павел I”, которую
я приобрел у автора для постановки на польских сценах. В России она
была внесена цензурой в черный список, ее запретили играть Ста-
�Как создавался «Царь Павел I» Людвика Сольского 349
ниславскому, хотя репетиции в театре уже достаточно продвинулись.
Интересная режиссерская работа и трудная актерская задача. Только
играй. Но решение некоторых сцен показалось мне не очень удачным.
Поэтому я позволил себе — после получения письменного согласия
автора — внести определенные коррективы. Ряд сцен я вообще выбросил, поскольку они были слишком затянуты, сплошные разговоры;
массовые сцены я сократил до минимума, поскольку они разбивали
действие, некоторые переставил, в разных местах сделал небольшие
поправки и наконец, что самое главное, — я переделал финал. У Мережковского убийство Павла должно было происходить в спальне. Я
же иначе представлял себе финал. Более зрелищно, более драматически. Я предложил, чтобы царь убегал по лестнице, где его и настигают
заговорщики. Так и было в окончательном варианте»24.
В экземпляре «Павла I», с момента премьеры хранящемся в
библиотеке Театра им. Ю. Словацкого в Кракове, сохранилось собственноручно написанное Сольским описание сцены убийства царя,
литературный проект театрального действия: «Они набрасывают ему
ленту на шею. Павел вырывается, бежит в направлении спальни. Один
из заговорщиков догнал его, схватил за ленту, свисающую сзади, и
так сильно потянул назад, что Павел упал. Тогда они хватают его за
руки, один с одной стороны, второй — с другой, а еще двое за ленту. Они волокут его по лестнице вверх, а затем налево в спальню. Из
спальни слышатся крики и хрипы Павла и голоса душащих его заговорщиков»25.
Из этого описания следует, что на глазах у зрителей была разыграна охота на царя. Само же удушение, то есть приведшее к смерти
затягивание на шее царя ленты, происходит внутри спальни, зритель
этого не видит, до него доносятся лишь звуки, сопровождающие ужасное деяние. Царя душили при помощи лент, на которых носили ордена. Орденские ленты превратились в удушающий аркан.
А как полностью выглядела обстановка этого дворцового убийства? Вот ее описание из 2 картины 5 акта пьесы Мережковского:
«Главная лестница Михайловского замка. Гранитные ступени с балюстрадой из черного сибирского мрамора с бронзовыми пилястрами. Две площадки: верхняя и нижняя. С нижней две лестницы между
мраморными колоннами ведут направо — во двор замка и налево — в
апартаменты Александра. На верхней площадке двери слева ведут в
апартаменты Павла, а справа — в тронный зал. В глубине большое
окно, двери на балкон и площадь перед замком»26.
Перед зрителем предстает расчлененная на уровни, поднимающаяся террасами пирамида, являющаяся своего рода метафорой вла-
�350 Хенрик Изидор Рогацкий
сти и правления Павла. И вот на одной стороне Павел Людвика Сольского борется за жизнь. И. Смаловский видел в молодости репетицию
«Царя Павла I», с которым Сольский разъезжал по всей стране, и так
описал ее: «В одной из сцен заговорщики врываются в комнату спящего государя и набрасывают ему широкую ленту на шею. Он хочет
убежать, скатывается по лестнице, лента затягивается вокруг шеи.
Царь испускает дух… когда-то мальчиком я наблюдал репетиции, которые Сольский как режиссер проводил с молодыми актерами (эпизодические роли заговорщиков, конечно же, исполняла молодежь). Он
кричал своим слегка писклявым голосом: “Сильнее, сильнее!”. Актеры боялись, что старик Сольский не выдержит. Сцену эту повторяли несколько раз. Пока, наконец, ударяясь головой о ступеньки, он не
скатился с лестницы и не упал на сцену с раскинутыми в стороны —
как у распятого — руками, и тогда, ослабляя узел, весь красный, с
вытаращенными глазами, тяжело дыша, он прошептал: “Вот теперь
вышло неплохо!”»27
Сценическая борьба за жизнь, изображенная Людвиком Сольским, была реальным действием, воспринимаемым органами чувств,
не оставляющим равнодушным. Можно ее назвать истязанием тела
актера, психофизическим опытом, напоминающим мазохистские
практики, но ведь совершалось все это для усиления экспрессии, аутентичности, правдивости мастерски использованных приемов игры.
Нельзя исключить, что на исполнение Сольским сцены убийства
Павла оказало влияние впечатляющее описание событий, приведенное в книге В. Гонсеровского «Цареубийцы», где сопротивляющемуся
царю заговорщики отрубали саблей руку. Кстати, на выставке «Цареубийство 11 марта 1801 г.», организованной Государственным Русским
музеем в Петербурге (2001), экспонировались и золотая табакерка с
поврежденным краем, которой атлетически сложенный Платон Зубов
ударил Павла I в висок или под левый глаз, и льняная орденская лента,
которой задушили оглушенного ударом табакерки царя28.
Раньше Сольский появлялся на сцене под барабанную дробь и
представлял на суд зрителей исследование тирании, с одной стороны,
и анализ темных сторон русской души — с другой. Этот сценический
образ — существо смешанное, наполовину зверь, наполовину человек — производил впечатление дьявольского безумца с проявлениями
ангела доброты29. «Он подчеркивал в Павле непредсказуемость, чудачество, фантазии. Его царь Павел был заряжен энергией неожиданностей и противоречий»30. Этот «психопат и сумасшедший в своих
действиях» человек одновременно распространял вокруг себя какое-то «королевское великолепие великих ролей». Сольский извлекал
�Как создавался «Царь Павел I» Людвика Сольского 351
из этого персонажа «азиатский деспотизм, с которым контрастирует
неискренняя сентиментальность и лиризм комедианта», а также «элемент демонической силы, источником которой является убеждение в
действенности царских чар»31. «Когда Павел муштровал солдат, то вы
видели перед собой зверя в человеческом обличии. Когда он жене и
окружающим показывал язык, то вы чувствовали, что это не выходка,
а болезненное проявление помешательства»32. В сцене смерти Павла
эффект, достигаемый Сольским, позволял подняться на уровень истинной трагедии33.
Стремясь к историческим обобщениям, Сольский делал своего
героя квинтэссенцией российского деспотизма; в 1917 г. он играл Павла I похожим на Николая II, выделяя «странную склонность к мистицизму, некультурность и мрачную жестокость)34. В 1927 г., посмотрев
на Сольского в этой роли, Е. Коллер делал вывод: «От Ивана Грозного
до Николая II разворачивается кошмарная картина тирании, заговоров и убийств, после войны вылившихся в резню, которую красные
деспоты устроили над белыми; и так продолжается по сей день»35.
В период премьерных показов Э. Хэкер довольно быстро заметил, что «Царь Павел I» «воссоздает сцены, известные нам с младых
ногтей»36, явно имея в виду упоминания об убийстве эксцентрического самодержца, которые встречаются в польской литературе романтизма, прежде всего в «Дзядах» и в «Кордиане». В 3 части «Дзядов» в
песне Феликса цареубийство в Михайловском замке предстает в деталях, в гротескном, циничном виде. В «Кордиане», в сцене «царь — великий князь» убийство Павла I предстает как кошмар и первородный
грех императорского дома. Кстати говоря, в «Кордиане» Словацкий в
своих антицарских настроениях впадает в крайнюю ожесточенность,
обвиняя Николая I в участии в убийстве отца, хотя в момент покушения будущему императору было всего лишь пять лет от роду! Стоит также помнить о том, что из «Большой импровизации» «Дзядов»
поколения читателей выносили убеждение, что слово царь является
самым страшным оскорблением, которое взбунтовавшийся Сатана
может бросить Творцу. Среди зрителей «Павла I» наверняка были те,
кто помнил заповедь польских радикалов: «Каждый поляк, где бы он
ни встретил царя, — имеет право его убить»37.
И в заключение дадим гипотетический портрет Людвика Сольского в роли Павла I. За исходный пункт мы примем, с одной стороны, восторженные мнения рецензентов о прекрасном гриме актера, а
с другой — общеизвестный факт физического сходства великого князя Константина (из «Кордиана» и «Ноябрьской ночи») и царя Павла I.
«На узком, прорезанном глубокими морщинами лбу длинные светлые
�352 Хенрик Изидор Рогацкий
брови, почти закрывающие маленькие коричневые глаза. Нос короткий, срезанный, вздернутый, нижняя губа сильно выступает вперед;
все черты его круглого лица хорошо выражали его суровость, дикость
и изменчивость чувств. Шея у него была настолько короткая, что казалось, что голова лежит на широких плечах, руки он почти всегда
держал выпрямленными, прижатыми к телу, а неспокойными ногами
выбивал такт под звучащую в этот момент музыку»38.
Приведем и нечто вроде приложения: четыре мнения критиков
о том, как читали, играли и понимали «Царя Павла I» в постановке
Людвика Сольского.
В предваряющей премьеру статье краковского «Времени»
(«Czas») говорилось: «Заговор против Павла для большинства его
участников не имеет ничего или очень мало общего с идеями свободы. Решение о лишении Павла трона подписывает орава пьяных невежд. Не политическая мысль, не идеализм протеста против деспотии,
не доводы маркиза Позы руководят действиями этой группы лиц, а
лишь какая-то зловещая дикость, кровожадность и дешевый нигилизм, стремление к разрушению, которое пропитало русскую душу…
неизменно две трагические силы, два борющихся между собой нигилизма: один идущий сверху, от отрицающего общественную энергию
правительства, другой — из глубин самого общества, который разрушение возводит до уровня догмы»39.
После премьеры К. Раковский выражает свое восхищение костюмами, созданными по эскизам Гембажевского, отмечает некоторое раздражение «известным призвуком» давних ролей Сольского,
который слышится в «Павле I», и далее пишет: «Герой проясняется:
интеллектуально неразвитый, нервно безответственный, деспот и болезненный фантазер, в извращенном рыцарском облике которого —
в шубе и всегда с кнутом в руке — где-то проскальзывает все-таки
мальтийский рыцарь». Раковский с восхищением комментирует сцену, когда царь заглядывает придворным в глаза, чтобы проверить их
преданность; все заканчивается истинной клоунадой, но представленной с должной умеренностью40.
После выступлений Сольского во Львове (1926) рецензенты отмечали: «Павел I — это человек, который — несмотря на свою жестокость — страдает. Ведь все, что он делает, он делает “по высшему
повелению”, хотя и упоминает о мании императоров. Он и Бог — и
никто более! Мережковский сочувствует Павлу, показывает нам его
человеческое и звериное обличие и делает его жертвой высших, национальных интересов России, которая предписывала каждому царю
умирать насильственной смертью». «Сольский в роли Павла оживля-
�Как создавался «Царь Павел I» Людвика Сольского 353
ет эту фигуру. Он идет по сцене не как тень Павла, а как воскресший и
подпитанный кровью Сольского — император всея Руси. Каждый его
жест, каждый взгляд — это как свист шпицрутена, который он держит
в руке, как завывание ветра, звук которого прекрасно подчеркивает
резкие переходы Сольского от грозного сатрапа к великодушному
правителю, а далее к нежному любовнику и отцу, — нелегко будет
найти равного ему исполнителя на европейских сценах»41.
Год спустя, во время гастролей Сольского в Познани В. Носковский писал: «Слов и действий мало, но достаточно, чтобы создать неизбывное ощущение, что Павел I должен был быть удушен. Эту казнь
Мережковский подготавливает мастерски… Для Сольского Павел
является одним из его великих боевых коней, на которого садятся,
чтобы выиграть битву. С пугающим правдоподобием изображает он
этого коронованного психа с помощью слегка срывающегося голоса,
взглядов, мин, движений пальцев. В этом легко пересолить, но на то у
Сольского и есть вкус безошибочный и чувствительный, как стрелка
амперметра». Видимо, «в городе» пошли разговоры о нервной атмосфере репетиций корифея польского театра, поэтому Носковский заканчивает свою статью следующим замечанием: «Хороший спектакль
рождается в напоре, нервном напряжении, в скандале, это его родная
атмосфера… если театр должен быть театром, а не конторой, от чего
упаси нас Господь»42.
Как видно, раньше и рецензии писали с пылом и воодушевлением…
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
6
7
8
Ср.: Nowaczyński A. Nestor w aeroplanie // Prosto z mostu. 1935. № 14.
Так по крайней мере утверждал Ю. Хен в лекции «Станислав Август
Понятовский — меценат культуры» («Stanisław August Poniatowski —
mecenas kultury») на церемонии начала нового 2011–2012 учебного года
в Театральной академии им. Ал. Зельверовича в Варшаве.
Ср.: Role Ludwika Solskiego. Zestawienia / Opr. J. Got. Wrocław, 1955.
Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Praca zbiorowa / Pod red. A. Drawicza. Warszawa, 1997. S. 61–63.
См. экземпляр «Царя Павла I» из библиотеки Театра им. Ю. Словацкого
в Кракове. № 1518.
Ch. Niezwykła premiera w teatrze krakowskim // Świat. 1910. № 53.
Dziennik Poznański. 1927. № 98.
Ср.: Dynastie Europy. T. 3. Romanowowie. Warszawa, 2010. S. 28.
�354 Хенрик Изидор Рогацкий
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Bazylow L. Historia Rosji. Wrocław, 1969. S. 218.
Romanowowie. S. 136.
Ср.: Rogacki H. I. Jana Kotta księgi użyteczne. Wypisy i uwagi // Kronos.
2011. № 3.
Ср.: Roux J. P. Król. Mity i symbole / Tłum. K. Marczewska. Warszawa,
1998.
Uspienski B. A., Żywow W. M. Car i bóg / Tłum. H. Paprocki. Warszawa,
1992.
Ibidem. S. 69.
Billington J. H. Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej / Tłum. J. Hunia.
Kraków, 2008. S. 241.
Ср.: Żywczyński M. Historia powszechna. 1789−1870. Warszawa, 1964. S.
112.
Romanowowie. S. 136.
Bazylow L. Op. cit. S. 385.
Солженицын А. Красное колесо. Узел 1. Август Четырнадцатого. Кн. 1. С. 5 [Электронный ресурс] URL: http://bookz.ru/book.
php?id=69906&n=5&p_count…
Ejdelman N. Paweł I czyli Śmierć tyrana / Tłum. W. i R. Śliwowscy. Warszawa, 1990. S. 50.
Ibidem. S. 75.
Ibidem. S. 143.
Ibidem. S. 144.
Solski L. Wspomnienia 1893–1954. Kraków, 1956. S. 267–268.
Ср. экз. № 1518.
Ibidem.
Igor Śmiałowski opowiada… Warszawa, 1976. S. 60–61.
Ср.: Wiesław Sclavus (автор «Ugodowców»). Królobójcy. Lwów, 1905. S.
151−152; Carobójstwo 11 marca 1801 roku. Katalog wystawy. Palace Editions.
2001. S. 140, 148, 149. За информацию о выставке и предоставление ее
каталога выражаю сердечную благодарность д-ру Иерониму Грале из
Института истории Варшавского университета.
Balicki A. E. // Przegląd Polski. 1911. T. 179. S. 117.
Zagórski A. // Przegląd Wieczorny. 16.XII.1926.
(Pomian St.) Miesięcznik Literacki i Artystyczny. 1911. № 2. W. Pr. Nowa
Reforma. 1917. № 231.
Brumer W. Reżyser i aktor // Życie Teatru. 1927. № 1.
W. Pr. Op. cit.
Czas. 1917. № 231.
Dziennik Poznański. 1927. № 98.
Naprzód. 1910. № 291.
�Как создавался «Царь Павел I» Людвика Сольского 355
37
38
39
40
41
42
Цит. по: Górski R. Polscy zamachowcy — droga do wolności. Kraków, 2008.
S. 73.
Rzepecki L. Pamiętna noc listopadowa czyli Dzieje wojny narodowej z roku
1830 i 31-go wnukom opowiedziane przez żołnierza czwartaka. Poznań,
1923. S. 36.
Czas. 1910. № 572.
Rakowski K. // Czas. 1910. № 577.
Geszwind J. // Kurier Lwowski. 1926. № 88.
Noskowski W. // Dziennik Poznański. 1927. № 190.
�Диалог поэтов:
Чеслав Милош
Галина Санаева
(Ванкувер)
и
Тадеуш Ружевич
История диалога между двумя классиками польской литературы берет начало в 1948 г., когда была опубликована ода
Чеслава Милоша под названием «Тадеушу
Ружевичу, поэту». Поэтическая дискуссия
между Ч. Милошем и Т. Ружевичем возобновляется с новой силой спустя пятьдесят лет, с выходом сборников Т. Ружевича «Всегда фрагмент. Recycling» (1998) и
Ч. Милоша «Это» (2000).
Диалог между мэтрами польской поэзии сопровождался посвящением друг
другу произведений, рядом личных встреч
и корреспонденцией. Однако идея сопоставления творчества Милоша и Ружевича
в истории полонистики не была столь очевидна, как это кажется сейчас, поскольку
на протяжении десятилетий творчество
нобелевского лауреата находилось под запретом цензуры и имя его в официальной
литературной критике не появлялось. Следовательно, история данной поэтической
дискуссии представляет интерес не только
с точки зрения столкновения поэтико-философских концепций и мировоззрений
двух поэтов, но, безусловно, и как интереснейшая полемика двух неординарных
личностей и символических фигур польской литературы ХХ в.
Дебют Тадеуша Ружевича состоялся
в 1947 г. с выходом поэтического сборника
Санаева Галина Николаевна — кандидат филологических наук, Канада, Ванкувер, независимый исследователь
�Диалог поэтов: Чеслав Милош и Тадеуш Ружевич 357
«Беспокойство». Стихотворение «Уцелевший», ставшее наиболее известным в творчестве поэта, выразило настроение целого поколения,
пережившего войну — так называемого «поколения Колумбов». В простых, незамысловатых словах Ружевичу удалось сказать то, что многие
современники в онемении не смогли или не отважились выразить. Не
случайно дебют Ружевича был высоко оценен поэтами, относящимися
к совершенно разным направлениям, такими как Ю. Пшибось, Ч. Милош, Л. Стафф. 26-летний Ружевич точно определил состояние послевоенного общества как беспокойство, чувство тревоги не только за
собственное будущее, но и опасение за состояние культуры и страх
распада прежней системы ценностей: «Мне двадцать четыре года
/ я уцелел / отправленный на бойню. // Это названия пустые и однозначные: / человек и скот / ненависть и любовь / враг и друг /
тьма и свет»1. Однако затем доминирующий тон подавленности и растерянности меняется, и основной призыв Ружевича содержится в последних строках: «Я ищу учителя и пророка / пусть вернет мне зрение
слух и речь / пусть заново даст названия вещам и понятиям / пусть свет
отделит от тьмы»2. Еще совсем недавно боец партизанского отряда,
«уцелевший» поэт видит смысл жизни в том, чтобы прежним понятиям дать новые названия, почти что заново сотворить мир. Т. Ружевич
объясняет: «Я чувствовал: что-то навсегда закончилось для меня и для
всего человечества. Что-то, чего не сохранила ни религия, ни наука, ни
искусство… Мне, молодому поэту, который чтил живых и умерших великих поэтов как богов, слишком рано стали понятны слова Мицкевича
о том, что “сложнее прожить день, чем написать книгу”»3. В сознании
писателя слова обесценились, связи утрачены. Проблема кризиса языка
в творчестве Ружевича связана с темой личности, выжившей в условиях
войны, и опытом поэтического «очищения» от метафор.
Примечательно, что название стихотворения Т. Ружевича «Уцелевший» («Ocalony») перекликается с изданным двумя годами ранее
поэтическим сборником Ч. Милоша «Спасение» («Ocalenie»). Это не
случайное совпадение. В 1946 г. в редакции журнала «Одродзене» от
Ю. Пшибося Ружевич получил для рецензирования сборник Ч. Милоша. Как позже признал сам Ружевич, стихи произвели на него огромное впечатление, положив тем самым символическое начало дальнейшему общению двух поэтов.
«Спасение» Милоша было его третьей по счету книгой и последней изданной в Польше (в связи с принятым в 1951 г. решением остаться
во Франции). Основными мотивами сборника являются погружение в
воспоминания о детстве, тема совершенства природы, исчезнувшего
идиллического мира и память о нем (цикл «Мир. Наивные поэмы»).
�358 Галина Санаева
Автор размышляет о роли поэзии в послевоенной реальности. Несмотря на скорбь, отчаяние и апатию, Милош возлагает надежду на исцеляющее слово: «Как же мне жить в стране, / Где наступаешь на кости /
Непогребенные близких? / Кругом голоса, улыбки. А я не могу / Писать,
пятеро рук / Хватают мое перо, / Велят писать их историю, / Писать их
жизни и их смерти. / Затем ли я создан, чтобы стать / Плакальщицей
надгробной? <…> Оставьте / Поэтам мгновенье радости, / Не то погибнет весь мир»4. Принципиальное различие в мировосприятии Милоша и Ружевича становится очевидным с самого начала их творческого
диалога. Оба поэта задаются вопросами схожей проблематики, однако
каждый отвечает на них по-своему, исходя из различного жизненного
опыта, творческих идей и литературных влияний. Принадлежащий к
другому поколению, старше Ружевича на десять лет, Ч. Милош сохранил в памяти образ довоенной реальности, образ прежнего «идеального» мира, к которым он зачастую обращается в своих произведениях. В
свою очередь, Ружевич-поэт сформировался под впечатлением опыта
пережитой войны. Тем не менее, в воспоминаниях Ружевич называет
Милоша своим старшим братом: «Тогда в Париже я встретил поэта Чеслава М., мы виделись три раза <…> М. никогда не узнает, что он был
для меня старшим братом… это была братская любовь, основанная на
восхищении, зависти, ожидании, конкуренции, гордости… сейчас мы
уже пожилые люди, и наверняка никогда больше не встретимся»5.
Личная корреспонденция между поэтами начинается в 1947 г.
по инициативе Ч. Милоша. В своем письме он сообщает о том, что
перевел несколько стихотворений Ружевича на английский и цитировал их в своей лекции в Колледже Смит в США. Год спустя в письме
Е. Анджеевскому Милош также пишет: «Я очень высоко ценю Тадеуша Ружевича. Думаю, что это единственный настоящий поэт из
молодого поколения»6. В том же 1948 г. будущий нобелевский лауреат обращается к дебютанту одой «Тадеушу Ружевичу, поэту». Столь
щедрый аванс начинающему поэту — нечастое явление в литературной среде. В статье «О состоянии польской поэзии» Ч. Милош снова
называет дебютанта «самым большим талантом, появившимся после
войны»7. Несмотря на разногласия и споры, которые ожидают поэтов
в дальнейшем, спустя годы Милош прокомментирует оду в честь Ружевича: «Это стихотворение не было ошибкой, хотя было достаточно
ситуаций, когда оно казалось преувеличением»8.
Что касается истории личных встреч, то, согласно свидетельствам,
поэты виделись около шести раз9. Первая встреча в Кракове состоялась в
1949 г., накануне принятия важных жизненных решений: Милош решает покинуть страну, а в жизни Ружевича наступает период «внутренней
�Диалог поэтов: Чеслав Милош и Тадеуш Ружевич 359
гливицкой иммиграции». Краковская встреча поэтов состоялась в год V
Съезда литераторов Польши в Щецине, на котором «почти все польские
писатели <…> поняли, что цели [строительству социалистического общества] не соответствуют те художественные средства, которые были
распространены в польской литературе до сих пор»10, иными словами,
был объявлен курс на сталинизацию литературы. Тадеуш Ружевич в
съезде не участвовал, отреагировав на политическую ситуацию переездом в Гливице — городок на юге Польши. На протяжении почти двух
десятилетий поэт жил вдали от столичной жизни и литературной элиты.
Несмотря на регулярно издаваемые поэтические сборники, Ружевич занимал промежуточное положение между центром и периферией. Даже
крайняя — порой — нужда не заставила его вернуться в столицу. Благодаря «внутренней иммиграции» поэту удавалось сохранять верность
собственным принципам и практически всегда оставаться вне политики.
Милош в Париже также жил в стороне от активной литературной жизни. Положение эмигранта не давало поэту уверенности в завтрашнем
дне, а местное литературное общество не принимало его в свой круг. В
пронзительном эссе «Об изгнании» Милош размышляет о двойственной
природе чувства отчуждения, ссылаясь на парижский опыт11.
Именно в Париже в 1957 г. состоялась новая встреча поэтов. Ружевич впервые выезжает за пределы «железного занавеса», на Запад.
Париж, овеянный загадочной, мистической аурой богемности, для
Ружевича был, прежде всего, связан с памятью о брате Януше, погибшем во время войны. Братья договорились после окончания войны
в назначенный день и час три года подряд встречаться у памятника
Мицкевичу в столице Франции. Их связывали особенные отношения,
поскольку именно Януш стал для будущего поэта первым наставником. Старший брат Т. Ружевича увлекался литературой, писал стихи,
вел переписку с Ю. Чеховичем и К. Вежиньским.
Однако в дневнике Ружевич пишет: «Я смотрю на этот город,
будто… попал сюда после смерти… В моем безразличии есть что-то
неестественное, а может… просто я мертвый»12. В сознании поэта ценности культуры и искусства утратили свое значение и более не являются опорой для его мировосприятия. Однако под внешней маской
безразличия и провокационного нарочитого аскетизма поэтики Ружевича скрываются тревога и глубокие размышления.
Встреча в Париже стала символической, объединив двух поэтов
в их одиночестве, но в то же время обнажила принципиальные различия их мировосприятия. В дневнике Ружевич описывает впечатления
Милоша: «Он видел меня насквозь, мою омертвелость и сказал: “Я
смотрю на вас и беспокоюсь о польской поэзии… Ведь вы ко всему
�360 Галина Санаева
равнодушны… Вы не видите Парижа…” Он говорил это заботливо,
сочувственно…»13. На момент парижской встречи Милош был известен как автор «Порабощенного разума», «Морального трактата» и
нескольких поэтических сборников. Ружевич издал семь сборников
стихов. Почти в одно и то же время Милош опубликовал «Поэтический трактат», а Ружевич — «Открытую поэму». Общий настрой и
стиль поэтов принципиально различны. В отличие от насыщенного
аллюзиями и символами, рафинированного языка поэзии Ч. Милоша,
Ружевич прибегает к предельно лаконичному, лишенному недомолвок
и ухищрений стилю. Поэзия Ружевича «открыта» для всех, как зал
ожидания, уличное движение, напоминает суматоху прохожих: «Мы
спешим / мы движемся / все быстрей / и быстрей / мы бежим / по кругу
/ но центра нет / много домов / но центра нет / много дорог / но ни одна
не ведет / к центру»14. Мир поэта децентрализован, разбит. В своей поэзии Ч. Милош ставит те же вопросы, однако его мир не теряет опоры,
напротив, он ее обретает в теологических концепциях и философии.
Немаловажно, что сознание поэта сформировалось в довоенный период, в значительной степени под влиянием родственника, Оскара Милоша — жившего в Париже интеллектуала, поэта и философа.
О творчестве Ружевича критик Я. Блоньский заметил, что «сначала была война»15. По Ружевичу, после трагедии войны остался лишь
алфавит, все необходимо создавать заново: человеческие ценности, ориентиры, язык. Не вернуть ценности, а создать новые, как будто бы это
первый день творения, без бога и аксиологических основ. Поэтической
аскезе Т. Ружевича противопоставлено насыщенное значениями и образами творчество Ч. Милоша. По мысли Ружевича, поэзия Милоша «злоупотребляет» значениями и искусственными структурами, говорит
эзоповым языком, ее метафоры вводят в заблуждение, ибо молчанием
можно сказать гораздо больше, чем словами. Ружевичу была близка теория молчания Норвида как части речи, а также созвучно направление
мысли П. Целана, Л. Витгенштейна, Т. Адорно, Х. Гадамера, творчество
Ф. Кафки, т. е. философия молчания. В стихотворении «Ружевич» Милош находит точную метафору для поэта, который, подобно кроту, в
темноте и одиночестве прокладывает собственный путь к истине: «Он
роется в черной земле / он лопата и раненный лопатой крот»16.
В то время как Милош пытается найти опору в философских,
эстетических и теологических концепциях, Ружевич обнажает «правду жизни» и иронизирует над крушением идеалов в сознании современного человека. К основным темам сопоставления творчества двух
поэтов следует отнести тему военного опыта, осмысления культуры,
проблему добра и зла, веры, поэтического «молчания», а также до-
�Диалог поэтов: Чеслав Милош и Тадеуш Ружевич 361
верия художника к «слову». Опыту «уцелевшего» в поэзии Ружевича
противопоставлена вера в слово и надежду на спасение через обращение к вечным ценностям и прекрасному в творчестве Милоша.
На вопрос Милоша «Да чего стоит поэзия, если она не спасает /
народы и человека…»17 Ружевич с трагической иронией заявляет, что
слово поэта бессильно, красота тоже не является спасением, ибо красоты и идеалов больше не существует. Страшные события военных лет
вместе с верой в человека перечеркнули и веру в живое слово: «Пуповина, которая соединяла поэзию с метафизикой, была перерезана. Теперь
поэзия должна найти иной источник жизни, иную среду для развития.
Исключительно человеческую. Здесь и сейчас»18. Зачастую именно грубая природа становится источником поэтического вдохновения Ружевича. Не случайно свое творчество он сравнивал с картинами Ф. Бэкона
с их деформированными образами и шокирующими порой мотивами.
Концепция поэзии Ружевича заключается в противопоставлении
этики и идеального правде жизни. Его поэзия становится «антипоэзией», а показать безобразное, по Ружевичу, значит продемонстрировать
отсутствие гармонии: «Поэт мусорных баков ближе к правде / чем поэт
облаков / мусорные баки полны жизни / сюрпризов»19. Парадоксальным
образом отрицание в творчестве Ружевича не отрицает, а лишь констатирует факт, носит почти что «терапевтическую» функцию. Начиная
с дебюта поэта, его обвиняли в нигилизме и пессимизме, однако сам
Ружевич подобную особенность своей поэтики оправдывает гуманистическими задачами: «Наше современное Ничто — это совсем иное
Ничто по сравнению с Ничто прошлого. <…> Ничто второй половины
ХХ века. Это Ничто конструктивное и деятельное. Совершенно чуждое
нигилизму, активно противопоставляющее себя “небытию”»20. Однако
в поэзии Ружевича не содержится готового рецепта, его поэзия не поучает. Т. Ружевич размышляет, анализирует, пытается найти ответ и
высказывается в своих произведениях без тени дидактизма.
Одна из тем, которая занимает автора в области различных жанров на протяжении всего творчества — это тема поэтического осмысления биологии и физиологии в сознании человечества. К примеру, в
стихотворении «Ничто в плаще Просперо» польский поэт ведет диалог
с Шекспиром. Лирический герой редуцируется, маскирует остатки своего «Я». Автор исключает его из социума одновременно «вознесением»
в рай и низвержением «мордой в навоз». Герой шекспировской «Бури»
Калибан принадлежит как животному, низкому миру, так и райской
обители. Автора интересует проблема экзистенциального уровня: как
возникают новые формы в условиях повседневности, в пространстве
некоего социума, между «раем и навозом». Поэт, желая постичь взаи-
�362 Галина Санаева
мосвязь между двумя противоположностями, исследует образ человека-звероподобного существа и мотив жертвенного животного.
Используя противопоставление «тело — дух», Ружевич ищет
путь к созданию новых образов. Особенно оригинально данный мотив находит свое отражение в драматургии: в пьесе «Мышеловка»
автор создает образ западни истории, экзистенции и физиологии; в
«Естественном приросте» «прирост» человеческой массы и разведения животных является доминирующим мотивом; в пьесе «Старая
женщина высиживает…» человеческое тело и физиология выступают
как метафора плодородия и быта, но в то же время — ящика Пандоры,
источника всех несчастий.
Милошу, напротив, тема естественного, природы и биологии
была чужда и вызывала отвращение. Примечательно, что поэт не раз
заявлял о своем отношении к данной проблематике: «Почти каждый
день на Educational Television <…> идут передачи о природе. О пауках, рыбах, ящерицах, койотах, животных пустыни. <…> Высокое
качество снимков не заставит меня изменить мое мнение о том,
что это неприличные программы, поскольку все, что нам показывают, оскорбляет человеческие, моральные чувства. <…> Является ли охота друг на друга сутью Природы? Является, и поэтому я
ее не люблю»21. Поэт признается, что не ставит знака равенства между реальностью и человеческим воображением, пускай и научным.
Оба поэта — и Т. Ружевич, и Ч. Милош — утверждают, что современной культуре угрожает вульгарность и шаблонная простота, но
выход каждый из них видит по-своему. Милош уходит в мир эстетики, искусства и теологии, в то время как Ружевич высмеивает и доводит до абсурда явления массовой культуры, разоблачает мифы и подвергает сомнению идеалы. Получив образование в области истории
искусств, Т. Ружевич решается на подобный шаг осмысленно, дабы
показать в своей поэзии не возвышенное и идеальное, а повседневное
и порой неприглядное, чтобы заставить читателя задуматься, переосмыслить происходящее или даже шокировать.
К примеру, мотив путешествия в Италию, символизирующий
связи с прошлым, стремление к гармонии и эстетическим ценностям,
а также образ безмятежной Аркадии как символ духовного преображения, рождения заново в творчестве Ружевича сочетается с проблемой дезориентации в культурном пространстве и подмены понятий:
«21 мая в 12:00 / я осматривал термы Каракаллы / прошу прощенья за
хаос / но ведь мир возникал из хаоса / пусть все это возникает само /
по ходу движенья / или ты думала / что я оттуда вернусь / совершенно
преображенный / не надо притворяться // сколько искусства падает /
�Диалог поэтов: Чеслав Милош и Тадеуш Ружевич 363
на душу населенья»22. «Итальянское путешествие» в поэтике Ружевича становится метафорой разочарования. Гармония сменяется хаосом
и пресной рутиной, а путешествие оказывается бессмысленным блужданием среди утраченных иллюзий, бездумно заученных названий
из классики и копий без оригиналов.
В свою очередь, поэзия Милоша — это поэзия борьбы с отчаянием. Утверждать, что поэт безоговорочно принимал все стороны жизни
человеческого опыта и предназначения с оптимизмом, нельзя. Милош
пытался найти объяснения зла и несправедливости в обратной стороне каждого явления, в амбивалентности природы вещей. «Если Бога
нет, / не все человеку дозволено. / Ибо он сторож брату своему / и не
имеет права огорчать брата своего / рассказами о том, что Бога нет»23.
В корреспонденции Милоша 1960-х гг. встречается удачное определение отношений двух поэтов: «Я ношу в себе весь ад Ружевича».
Будучи участником литературной группы «катастрофистов» «Жагары» в 1930-е гг., нобелевский лауреат спустя годы отошел от мрачной
поэтики пророчеств неизбежной трагедии, отрицая в своем творчестве победу темной стороны жизни. Милош боролся с равнодушием и
упадком духа («я никогда не был последовательным нигилистом»24),
но Ружевич как «исследователь» данных материй был ему интересен,
привлекал эстетикой провокации. В отличие от Пшибося, Милош никогда открыто не критиковал Ружевича, напротив, вел с ним диалог.
В 1999 г., спустя почти полвека, состоялась последняя личная
встреча двух поэтов. Встречу организовала журналистка, критик и
писатель Рената Горчиньска (известная под псевдонимом Эва Чарнецка). Позже запись беседы Ружевича и Милоша была опубликована
в газете «Жеч Посполита». Впечатления от встречи нашли свое продолжение в поэтическом диалоге о природе зла и добра. Данная тема
выявляет принципиальные различия между поэтиками двух авторов.
В 2000 г. Милош публикует сборник «Это», два стихотворения
из которого посвящены Ружевичу: «Unde malum» — ответ на опубликованное двумя годами ранее стихотворение Ружевича с одноименным названием (сборник «Всегда фрагмент. Recycling») и «Ружевич». Строки «Unde malum» Т. Ружевича «откуда берется зло? / как
это откуда // из человека / всегда из человека / и только из человека»25
Милош использует как эпиграф и со свойственной ему рассудительностью мыслителя отвечает: «К сожалению, пан Тадеуш / добрая природа и злой человек / это романтическое изобретение <…> действительно пан Тадеуш / зло (и добро) берется из человека»26. По Милошу,
зло имеет философскую природу, и оно преходяще. Поэт считает, что
придет следующее поколение, которое также будет искать правду,
�364 Галина Санаева
источник зла и добра. Проблему зла и добра в жизни человека Милош
рассматривал как философ. К особенностям поэтики Ружевича «учитель» подходил с пониманием, видя в ней драматизм, принципиальность и напряженную работу мысли. В атеизме Ружевича ему также
удавалось увидеть «некоторую возвышенность».
Несмотря на сложную судьбу, поэт остался оптимистом, не отравленным язвительностью и дидактизмом. Живя в Калифорнии, душой
Милош оставался в Литве, а писал по-польски. Возможно, опыт эмиграции позволял ему относиться ко многим проблемам взвешенно, с
дистанцией (к примеру, решительное неприятие любого рода национализма). Кроме этого, родной Виленский край Милоша находился на пересечении культур, религий и языков, что также повлияло на широкий
диапазон мировосприятия поэта. В эссе «Мой Милош» С. Лем называет
поэта связующим звеном, а также писателем, по сравнению с которым
«никто так глубоко не мог постигнуть прошлое, чтобы связать его с сегодняшним днем»27. Сам поэт сравнивал себя с русским интеллигентом
XIX в., который сидит в салоне с самоваром и размышляет над тем, как
жить. На творчество Ч. Милоша оказали влияние традиции Э. Сведенборга, В. Блейка, мистика и религиозного философа Я. Беме, а также
идеи его родственника и наставника Оскара Милоша.
В то время как Милош верит в лучшее, надеется и ведет диалог с
философами и мыслителями, Ружевич исследует день сегодняшний,
здесь и сейчас. Истоки вдохновения «уцелевшего» — дух природы, а
не сложные философские концепции. Ружевич объясняет: «Исторический опыт, который я вынес из войны, оккупации, непосредственного столкновения с нацизмом и фашизмом, подталкивал меня в направлении материализма, реализма, социализма, а не к метафизике»28.
Сложно представить, чтобы для спасшегося от ужасов войны зло
по-прежнему оставалось абстрактной или философской категорией.
Но нет ли упрощения в том, что Ружевич видит источник зла лишь в
человеке? Быть может, поэт снова провоцирует? Теолого-мистические
концепции Милоша не слишком много объясняют «уцелевшему». В
стихотворении «Затмение света» Ружевич признается: «Дорогой Милош / благодаря Вам я стал читать / на старости лет / Сведенборга // ни
жарко ни холодно мне от него <…> книгу о небес и ада / я бросаю на
землю / засыпаю»29.
Даже на уровне языка произведения Т. Ружевича являются противоположностью поэзии Ч. Милоша. Наполненная символикой, аллюзиями и теологическими отсылками, ткань поэзии Милоша создает
уникальную фактуру, для постижения которой необходимо обладать
значительным багажом знаний. Ружевич, в свою очередь, немногосло-
�Диалог поэтов: Чеслав Милош и Тадеуш Ружевич 365
вен и краток, язык его произведений прост, а стихи лишены рифмы.
Часто произведения Ружевича напоминают реалити-шоу, записи в
интернет-блогах и действо хэппенингов, его герои изъясняются сбивчиво, то сленгом, то переходя на высокий стиль. Цель игры автора
состоит в «создании поэзии после Освенцима», в возвращении первоначального смысла словам, которые утратили свое значение в послевоенных реалиях. Поэт демонстрирует дисгармонию между внешним
и внутренним миром, а эстетическое наслаждение его лирического
героя от произведения искусства сменяется разочарованием и утратой
веры в идеалы. По Ружевичу, сущность искусства заключается в срывании масок и нарушении традиции, а не в поиске Аркадии. Зачастую
поэт провокационно обращается к реалиям повседневной жизни, создавая свою поэтическую материю из примет обыденности. Так, газетное объявление об исчезновении человека в интерпретации автора
может превратиться в исполненное драматизма обращение едва ли не
ко всему человечеству, выражающее тревогу о разрушении социальных связей и проблему глобального отчуждения.
Ч. Милош проходит путь от поэтики катастрофизма группы
«Жагары» к взвешенному, философскому осмыслению человеческого
опыта в контексте близких ему философских и теологических концепций. Поэт объясняет источник зла как нечто данное, заложенное самой
природой, а следовательно, как часть естественного баланса сил с надеждой на спасение и веру в лучшее. Нобелевский лауреат верит в то,
что «разобщенное соединится». Будучи дискуссией непримиримых
антагонистов, поэтический диалог Ч. Милоша и Т. Ружевича отразил
эволюцию основных направлений эстетической мысли ХХ в., а также
вечный спор неоклассического и авангардного течений в литературе.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
Ружевич Т. Уцелевший (пер. В. Британишского) // Ружевич Т. На поверхности поэмы и внутри. Вроцлав, 2001. С. 19.
Там же.
Różewicz T. Do źródeł // Różewicz T. Utwory zebrane. Proza. T. III. Wrocław, 2004. S. 144.
Милош Ч. В Варшаве (пер. В. Британишского) // Польские поэты
XX века. Антология / Сост. Н. Астафьева, В. Британишский. СПб.,
2000. Т. 1. С. 344–345.
Różewicz T. Tylko tyle // Różewicz T. Utwory zebrane. «Nasz starszy brat».
T. XII. Wrocław, 2004. S. 150.
�366 Галина Санаева
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Цит. По: Majchrowski Z. Różewicz. Wrocław, 2002. S. 112-113.
Miłosz Cz. O stanie polskiej poezji / Kuźnica. 1950. № 3. S. 3.
Miłosz Cz. Różewicz w roku 1996 // Tygodnik Powszechny. 1996. № 42. S. 7.
Gorczyńska R. Dialogi poetów: Czesław Miłosz i Tadeusz Różewicz //
Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Wrocław, 2011. S. 418.
Усневич Е. Польская литература в борьбе за социализм // Огонек. 1950.
№ 39 (1216). С. 24.
Милош Ч. Об изгнании (пер. Б. Дубина) // Иностранная литература.
1997. № 10. С. 103.
Różewicz T. Tylko tyle. S. 149.
Ibid. S. 150.
Ружевич Т. Мы спешим… (пер. А. Базилевского) // Сделано в Польше.
Век — ХХ. Антология. М., 2009. С. 451.
Błoński J. Szkic portretu poety współczesnego // Poeci i inni. Kraków, 1956.
S. 221.
Miłosz Cz. Różewicz T. (пер. Г. Санаевой) // Милош Ч. Это. М., 2003. С.
150.
Miłosz Cz. Przedmowa (пер. Г. Санаевой) // Miłosz Cz. Wiersze. Kraków,
1985. T. 1. S. 151.
Różewicz T. Do żródeł. S. 149.
Różewicz T. Opowiadanie dydaktyczne (пер. Г. Санаевой) // Różewicz T.
Utwory zebrane. Poezja. T. VII. Wrocław, 2004. S. 298.
Różewicz T. Przygotowanie do wieczoru autorskiego. Warszawa, 1971. S.
121.
Miłosz Cz. Rok myśliwego. Kraków, 1991. S. 58–59.
Ружевич Т. Et in Arcadia ego (пер. В. Британишского) // Ружевич Т. Избранное. М., 1979. С. 52.
Милош Ч. Если нет (пер. А. Базилевского) // Сделано в Польше. Век —
ХХ. Антология. С. 952.
Conversations with Czeslaw Milosz by E. Czаrniecka and A. Fiut. San Diego; New York; London, 1987. P. 135.
Różewicz T. Recycling (пер. Г. Санаевой) // Różewicz T. Utwory zebrane.
Poezja. T. X. Wrocław, 2006. S. 65.
Милош Ч. UNDE MALUM (пер. А. Ройтмана) // Милош Ч. Это. С. 147,
149.
Лем С. Мой Милош (пер. В. Язневича) // Мой взгляд на литературу. М.,
2009. С. 789.
Różewicz T. Do żródeł. S. 149.
Różewicz T. Zaćmienie światła (пер. Г. Санаевой) // Różewicz T. Utwory
zebrane. Poezja. T. X. Wrocław, 2006. S. 65.
�Инесса Свирида
(Москва)
Многоязычный Вильно
и
иностранные художники
Свирида Инесса Ильинична — доктор исторических
наук, Россия, Москва, Институт славяноведения РАН
Выражение «многоязычный Вильнюс» (или «Вильно», если подойти исторически) принадлежит к числу весьма
употребительных. Это неудивительно
для многовековой столицы Великого
Княжества Литовского. В середине XIII в.
оно образовалось на территориях, которые в результате активных этнокультурных процессов, совершавшихся в открытом Ф. Броделем «длительном времени»
истории, стали местом формирования
целого ряда новых этносов. Объединение
земель Великого Княжества Литовского
и Короны Польской в Речь Посполитую
(1569) не ослабило стремления населявших ее народов к самоидентификации и
привело, наряду с другими факторами, к
возникновению нескольких государств,
территория которых некогда полностью
или частично находилась под властью
Великого князя Литовского (Беларусь и
Литва в первом случае, Латвия, Польша,
Россия, Украина — во втором). Тем самым предопределилась особая сложность
этнокультурных процессов и явлений на
указанных землях, которые во многих
случаях затруднительно приписать одному народу. Это касается также произведений искусства и их авторов.
К невербальной сфере визуальных
искусств определение «многоязычный»
�368 Инесса Свирида
может быть отнесено лишь метафорически, если исключить надписи на разных языках, которые в соответствии с каким-либо замыслом
художника вносились в само изображение, становясь частью его художественного текста. В иконе они обычно не были многоязычными,
так как адресовались определенной аудитории верующих. На православных иконах надписи делались на местном или греческом языке,
на католических — на латыни. В искусстве авангарда автор мог свободно следовать своему выбору1.
Сами же мастера, занимавшиеся различными искусствами и ремеслами, издавна принадлежали к числу тех, благодаря кому Вильно с эпохи Средневековья становился все более многоязычным городом. «Многоязычной» делалась и его застройка. С конца XIV в.,
после принятия в Литве христианства (1387), сюда начали приходить
строители разных национальностей. Одни из них — греческие, сербские, болгарские мастера — принадлежали к греко-византийскому
вероисповеданию и несли с собой южную византийскую традицию,
следом чего является Пятницкая церковь (построенная в XIV в., в
настоящее время она имеет стилизованные формы архитектуры середины XIX в.) Другие мастера представляли культуру западноевропейского ареала. Заключение династического союза между Великим
Княжеством Литовским и Польшей (Кревская уния 1385 г.) открыло возможность сближения литовской культуры с латинским типом
развития. Формы северогерманской кирпичной готики, использовавшейся в сакральном и крепостном строительстве, распространили здесь немецкие мастера.
Если романский стиль, господство которого в Европе приходится на XI‑XII вв., т. е. на дохристианское для Литвы время, не
нашел места на ее землях, то готика, надолго задержавшаяся в восточноевропейском ареале, пришлась на время прямого сближения
Литвы и Польши. Готическая застройка распространялась на их
территориях, в особенности с середины XIV до середины XVI вв.
и была отмечена появлением такого шедевра, как миниатюрный
Храм Святой Анны в Вильно, столице Великого княжества Литовского. Ранее считавшийся постройкой гданьского (тогда — данцигского) архитектора Михаэля Энкингера, теперь он все чаще приписывается Бенедикту Рейту, архитектору Ягеллонов, строившему
для представителей этого королевского рода на Пражском граде и
краковском Вавеле2.
Разные народы приносили в Литву свои верования — законодательство Речи Посполитой предоставляло права всем официально
признаваемым конфессиям. В старом Вильно католические, право-
�Многоязычный Вильно и иностранные художники 369
Костел Св. Анны. Вильнюс.
Старая фотография
славные, евангелические храмы
тесно соседствовали с караимской
кенасой (также кенеса, кенасса), еврейскими синагогами и татарской
мечетью, формируя единое урбанистическое пространство. Это прослеживается и в современном Вильнюсе, который, наряду с храмами
основных религий, имеет молельные дома также нетрадиционных и
мало распространенных конфессий.
Свои строительные приемы сюда
принесли представители многих народов, оседавшие здесь на протяжении веков. Так что если бы вильнюсские стены действительно умели
говорить, они заговорили бы на множестве языков.
Ст и л е вое м ног оя зы ч и е
Виленской архитектуре было свойственно многоязычие особого рода — стилевое. Оно возникало в результате соединения разнотипных явлений не только в пространстве города, но и в одной
постройке, когда она многократно преобразовывалась под влиянием различных причин — военных разрушений, пожаров или смены
вкуса. Многоязычие появлялось и из-за более позднего принятия
христианства, в результате чего архитектура и искусство Литвы с
задержкой вступили на общеевропейский путь и проходили его с
ускорением, что характерно, как в свое время показал Г. Д. Гачев, и
для литературного процесса.
Вследствие этого рождались особые синкретичные формы —
готическая конструкция соединялась с ренессансными признаками,
последние, не приобретя классической чистоты, сливались с напластованиями уже начавшего свою экспансию барокко. В архитектуре
Вильно сам этот стиль был представлен полифонически, в его разновидностях, включая иезуитское (римское) барокко. Вместе с тем в
середине XVIII в. возник особый тип построек, сформировавшийся в
храмовой архитектуре Иоганна Христофа Глаубица, немца по происхождению, тридцать лет работавшего в Вильно.
�370 Инесса Свирида
Этот тип получил название «виленское барокко», хотя постройки такого рода распространились также на белорусских и украинских землях3. Их появление было связано с соседством здесь двух
конфессий, в том числе со спецификой их богослужения (отсюда второе название — «униатское барокко»), что отразилось, прежде всего,
в интерьерах. Внешне главным отличием виленского барокко стали
стройные, устремленные вверх изящные башни фасадов храмов. Благодаря этому их здания выделяются в панораме углубленной низины
города — прекрасный вид на нее открывается с окрестных живописных холмов. Виленское барокко выступило своеобразным явлением
в европейской архитектуре, которая первоначально дала ему важнейшие импульсы (среди них исследователями выделяются северо-итальянские влияния4).
Барокко, оставив в архитектуре Вильно наиболее прочные следы, бесконфликтно перешло в рококо. Легкость, естественность этой
метаморфозы запечатлелась в университетском архитектурном ансамбле и в его соборе, посвященном двум Иоаннам — Крестителю и
Евангелисту. Фасад собора принято считать произведением Глаубица
(1738–1749).
Новый стиль предвещала завершенная в начале XVIII в., по-барочному изобильная, но более легкая по характеру декорация белоснежного интерьера костела Петра и Павла на Антоколе5. Итальянцы,
работавшие над оформлением храма, наполнили его не только характерной для итальянской школы лепниной, но и итальянской речью,
которая красиво звучала под его высоким куполом.
Классицизм, утверждавшийся в Вильно в конце XVIII в., сразу же соединился с так называемым авангардным течением в архитектуре, представленным во Франции сооружениями и проектами
архитекторов К.-Н. Леду и Э.-Л. Булле, у которых в Париже учился
Вавжинец Гуцевич (лит. Laurynas Gucevičius; 1753–1798) — создатель классицистического образа Вильно. Благодаря таким его антикизирующим постройкам, как Кафедральный собор и Ратуша, Вильно называли Афинами еще до того, как Наполеон сказал, что это
Иерусалим. (Вероятно, император отреагировал не на множество
виленских башен и куполов, что было характерно для восприятия
иностранцами златоглавой Москвы; скорее, на него произвела впечатление многочисленность еврейского населения, которое Наполеон мог наблюдать на улицах города. Там и многие русские впервые
увидели представителей этого народа.) Многоязычная и многоликая
столица Великого княжества Литовского будила самые различные
ассоциации.
�Многоязычный Вильно и иностранные художники 371
Костел св. Екатерины.
Реконструкция И.К. Глаубица. 1741–1773.
Вильнюс. Фото Октанпл
И но с т ра н н ы е п р о фессора
Многоязычие Вильно проявлялось и иначе. Йозеф Франк, профессор-медик из Вены, имевший, кроме должности в университете,
большую частную практику, писал в своих мемуарах, что после обеда
у кабинета его регулярно ожидало около сорока пациентов разных социальных уровней — от шляхты до плебеев, — среди которых были
люди разных национальностей и вероисповеданий — христиане, иудеи, магометане, наполнявшие приемную своею речью6. Русский и
французский языки активно, хотя и не одновременно, зазвучали в городе во время пребывания там войск России и Франции, сменявших
друг друга в 1812 г.
В Виленском университете эти языки, наряду со многими другими, постоянно включались в речевой поток. Университет был истинно
�372 Инесса Свирида
многоязычным местом. Хотя официально преподавание там велось на
польском, иностранные профессора, не владея им, читали свои лекции или на латыни, или на французском, а часто и на своем родном
языке, если это был, например, немецкий.
Многоязычие в старейшем в восточной части Европы и крупнейшем тогда в Российской империи высшем учебном заведении
возникало и в результате того, что здесь издавна преподавались не
только современные европейские языки, но и древние — еврейский,
греческий, латынь, — а также восточные. Лишь сопротивление университетских властей не позволило ввести в учебную программу
китайский язык.
Университет, реформированный в 1781 г. Комиссией национальной эдукации «сообразно степени познаний у просвещенных народов
Европы», в 1803 г. получил статус Императорского. С этого времени
он начал финансироваться из государственной казны дополнительно
к бенефициям, которые он традиционно получал от своих земельных
владений. Это расширило возможности приглашать иностранных
профессоров, которым предоставлялись прекрасные условия: им давали подъемные, зарплату, в университете выплачиваемую золотом
(ее задержали только в связи с войной 1812 г.), бесплатную квартиру и
пожизненную пенсию (в размере оклада)7.
Профессора обладали свободой в определении программ преподавания и в личной работе. Их положение было престижным. Работали они в большинстве случаев на совесть, как профессионалы своего
дела. Все это обеспечивало хороший уровень обучения, прежде всего
в гуманитарных дисциплинах, не требовавших особой технической
базы. В результате выпускники университета пользовались признанием и за пределами Литвы, в частности, становясь заметными фигурами в Петербурге.
И но с т ра н н ы е и от е ч ес т ве н н ы е х удож н и к и
По ряду причин особая ситуация была у художников. Среди итальянцев, французов, немцев, австрийцев, которые попадали в Вильно
(часто по дороге в Петербург), не было крупных мастеров. На пороге романтизма изменился тип путешествующего художника. В XVIII в. передвижение мастеров по различным странам стало характерным фактом их биографии. Возник тип художника-гастролера. Информацию об
их приездах и отъездах, о выполненных ими заказах давали частная
корреспонденция и пресса. Однако время гастролеров, писавших свои
картины в соответствии с нормативными принципами классицизма,
�Многоязычный Вильно и иностранные художники 373
прошло. Военные события рубежа XVIII–XIX вв. в целом мало способствовали путешествиям по Европе. Вместе с тем изменился тип художника — романтик хотел ездить по миру в поисках не заработка, а
впечатлений, отправляясь в экзотические страны, а также по родным
землям. Увлечение национальной исторической тематикой, отечественными преданиями также не предполагало поиска работы за рубежом.
В Вильно с момента создания при Университете художественной
школы на факультете словесности и изящных искусств (1797) ведущее
положение занимали художники, связанные с Польшей и Литвой. Сначала это был живописец Франтишек Смуглевич, получивший должность профессора уже как автор исторического полотна «Присяга Тадеуша Костюшко на Краковском рынке» (1797, Национальный музей
в Познани). С этого времени можно говорить о зарождении в Вильно
общественного интереса к искусству, что происходило на фоне событий, связанных с Третьим разделом Речи Посполитой (1795).
В области архитектуры был важен, прежде всего, Вавжинец Гуцевич, о постройках которого уже говорилось. Только скульптурным
классом первоначально руководил иностранец — француз Андре Лебрен, однако он получил эту должность как бывший многолетний придворный скульптор короля Станислава Августа. В целом же Университет придерживался линии приглашения отечественных мастеров.
Поэтому иностранным художникам, приезжавшим в Вильно, доставались только частные ученики. По совместительству они занимались продажей картин и других художественных товаров. Француз
Августин д’Абри (прозванный здесь Дабрий), который был поручиком
«бывших польских войск», «обучался свободным наукам в Брукселе,
вояжировал в чужих краях, поселился в Литве от 32-х лет». Он содержал пансион, где изучались польский, французский и немецкий языки, рисунок и танцы8. В виленской гимназии французский и рисунок
преподавал Лоран Д’Аранкур («Laurent d’Arencourt maître de la langue
française et du dessin»9).
В числе иностранных художников, приезжавших в Вильно, был
неизвестный по имени Верне, вероятно также француз, «живописец
миниатюр в малой пропорции», согласно сообщению в газете. Он делал «портреты для медалей, табакерок, перстней», писал также портреты пастелью и акварелью «по цене от 2 до 20 червонных злотых»10.
П ри е з ж и е п р од а вц ы к а р т и н
В начале XIX в. художественный рынок в Вильно находился в
зачаточном состоянии и еще долго оставался таким11. Отношения
�374 Инесса Свирида
художников и заказчиков были мало опосредованы, носили личный
характер. Поэтому на успех здесь рассчитывали иностранцы, продававшие картины (возможно, и свои, и чужие). Однако приехавший в
1804 г. из Италии Джованни Потеста не смог распродать свой художественный товар. Сначала он приглашал смотреть во дворце графа
Поцея, где он остановился, привезенные им картины за плату в полрубля и разрешал за условленную цену их копировать. Затем он устроил аукцион всей коллекции, а потом продавал полотна поштучно. В
заключение он предлагал картины по цене «самой умеренной, какая
может быть». Возможно, невостребованными оказались и его предложения реставрировать картины, снимать старый лак и покрывать
новым, а также дублировать на другой холст12.
Известен итальянец Джованни (Ян) Молинари (не петербургский
портретист и приятель Александра Орловского, некогда вдохновивший
Э. Т. А. Гофмана заняться живописью, а миниатюрист и торговец картинами, поселившийся в Вильно в 1806 г., где и умер в 1849 г.13). Университет в 1823 г. приобрел у него фигуру Меркурия (12 руб.) и 5 гипсовых
голов (Цирера, Антиной, Гомер, 2 головы Христа, все по 2 рубля)14.
Произведения искусства попадались и в неспециализированных
магазинах. В 1816 г. Йозеф Копш, согласно объявлению, продавал
вина, чай, ноты для пения, а также знаменитую серию «Виды Рима»,
состоящую из 70 гравюр, выполненных Пиранези, за 75 рублей серебром. Это были также «Игры и обычаи Россиян» в 100 гравюрах
во французских и английских переводах на «велиновой»15 бумаге in
folio за 50 рублей серебром16. В его магазине предлагались также золоченые рамы17.
«Гравюры, картины, дорогие предметы дамского туалета» наряду с фарфором, английским серебром, ювелирными изделиями и музыкальными инструментами можно было приобрести на распродаже
в доме Карла Шварце18.
Издавна продавали художественную продукцию, в том числе
свою, граверы и литографы, например, Ян Фусс19. Магазин с художественными товарами в Кардиналии на Замковой улице имел Исидор
Вейсс, несколько лет преподававший гравюру в Университете20.
Графические листы продавались на ярмарке, организовывавшейся в Вильно с 1826 г. Как писала мемуаристка Габриэля Пузынина,
«ярмарка… строила свои деревянные ларьки около кафедрального
собора… собирая множество покупателей и любопытствующих. Турки с саблями, Мальцев со стеклом21, Мухин из Москвы с перкалем
и полотном… Были и киоски с литографиями, однако… торговец…
дремал в пустой лавке»22. Так что многоязычная речь звучала и здесь.
�Многоязычный Вильно и иностранные художники 375
А н гл и ч а н и н в Ви л ьно
Хотя иностранные художники занимали определенное место
в художественной жизни Вильно, не они влияли на ее направление.
Исключением стал англичанин Джозеф Саундерс (1773–1854) — одна
из наиболее крупных, хотя и полузабытых фигур среди иностранных
мастеров, связанных с восточноевропейским ареалом23. Блестящий
гравер и интеллектуал, в 1810 г. он был приглашен в Виленский университет князем А. Е. Чарторыйским (тогда попечителем Виленского
учебного округа) в качестве профессора гравюры, истории искусства
и английской литературы. Ранее, с 1796 г., он работал в Петербурге,
где при его активном участии было награвировано два тома картин
Эрмитажа. Саундерс зарекомендовал себя также как автор блестяще
гравированных портретов. Он был и прекрасным мастером книги,
украсившим своими виньетками публикацию поэзии Державина и
другие русские издания. Именно его ученик, Винцентий Смоковский,
позднее сделает гравюры к «Витольрауде» Ю. И. Крашевского, написанной по мотивам литовского эпоса.
На посту руководителя гравюрного класса Саундерс успел подготовить себе смену в лице своих лучших учеников. Как историк искусства он оказался в числе первых в Европе университетских профессоров новой дисциплины. Знакомство с виленской периодикой
того времени позволило обнаружить тексты Саундерса, которыми он
фактически заложил основы этой области знания в Литве и Беларуси.
Их публикация (1815 и 1816 гг.) совпала по времени с выходом книги
польского историка искусства Станислава Костки Потоцкого «Об искусстве у древних, или Польский Винкельман» (1815)24.
Саундерс также наметил национальную программу развития искусства и начал реализовывать ее, соответственно направляя своих
учеников. Они совершенствовались в «пейзажах и истории», как говорилось в отчете Саундерса Университету, гравировали исторические
сюжеты (под ними тогда понимались и сцены из Ветхого и Нового Завета), а также изображения литовского ландшафта. Студенты занимались и прикладным гравированием — изготовляли образцы шрифтов
для школ, делали географические карты, вырезали ноты.
Благодаря Саундерсу мало популярный тогда английский язык
начал звучать на лекциях по истории английской литературы. В 1810–
1820-е гг. в университете было введено преподавание литовского и
русского языков25. Так расширялось виленское многоязычие.
Поэт Федор Глинка, автор «Писем русского офицера», возвращаясь в 1813 г. из парижского похода и остановившись на ночь на подъез-
�376 Инесса Свирида
де к Вильно в еврейской корчме, описал свое состояние такими словами: «Сквозь шум весенней непогоды слышу звон колоколов в городе
и, при слабом мерцании луны, вижу остроглавыя высоты, которыя,
подобно рядам исполинов, стоят на вечной страже сидящей в долине
Вильны. Кажется слышу, как город движется, шумит и разговаривает»26. Был ли этот разговор многоязычным, Глинка не отметил. Возможно, это было для него само собой разумеющимся. Что же касается
«остроглавых высот виленских исполинов», то он, несомненно, имел в
виду вытянутые вверх башни храмов виленского барокко, которые до
сих пор охраняют свой многоязычный город.
П ри м е ч а н и я
1
Русские иконы с надписями, подписями и датами. Каталог выставки.
СПб., 1990; Злыднева Н. В. Изображение и слово. М., 2008. С. 105–
110.
2 Бенеш или Бенедикт из Лоун // Энциклопедический словарь Брокгауза
и Ефрона. СПб., 1891. Т. 3(5). C. 436; Poche E. Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha, 1975;
3
Кулагин А. Н. Архитектура и искусство рококо в Белоруссии: В контексте общеевропейской культуры. Минск, 1989; Габрусь Т. В. Стылістычныя аспекты архітэктуры віленскага барока // Барока ў беларускай
культуры і мастацтве / Пад рэд. В. Ф. Шматава. Минск, 1998. С. 14–166.
4
Historia sztuki polskiej / Pod red. Т. Dobrowolskiego i Wł. Tatarkiewicza.
Kraków, 1963. T. 2. S. 323.
5
Стукковые рельефы выполнены итальянцами Джованни Пьетро Перти
(Перетти), Джовани Мариа Галли и мастером из Вильно Мацеем Жилевичем (М. Жилявичюс) в 1677–1685 гг. Работы над лепными украшениями продолжались другими мастерами до 1704 года. Автором
центрального нефа и сакристии, как полагают, является итальянский
живописец К. М. Паллони, по другим сведениям — Мартин де Альто-Монте из Рима (при вероятном участии Паллони).
6
Frank J. Pamiętniki. Wilno, 1913. Т. 1. S. 109.
7
Пенсию назначали и вдове в случае смерти мужа еще на профессорском посту (в других случаях вдовы оставались ни с чем). — Beauvois D. Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich. 1803–1832. Rzym;
Lublin, 1991. T. 1. S. 111.
8
Сборник материалов для истории просвещения в России. СПб., 1893.
Т. 1. С. 258–259. Среди преподавателей был Юзеф Олешкевич. Этот воспитанник Ф. Смуглевича в Виленском университете, затем француз-
�Многоязычный Вильно и иностранные художники 377
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ской школы, в частности, Ж. Л. Давида, в Петербурге получил известность как портретист.
Фр.: «учитель французского языка и рисунка». См.: Сборник материалов для истории просвещения в России. Т. 1-4. С. 533; см. также: Łopaciński E. Nieznane dane archiwalne do historii sztuki Wilna // Prace i materiały sprawozdawcze Sekcji Historii sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w
Wilnie. Wilno, 1898. Т. 3. S. 74.
Doniesienia // Gazetа Litewska. 1804. № 25. S. 27–31. Остановился он сначала на Немецкой улице, а позднее на Великой в доме Слендзиньского — эта фамилия получит известность в истории искусства Литвы.
Свирида И. И. Польская художественная жизнь конца XVIII–XIX вв.
М., 1978. С. 206–214; Она же. Между Петербургом, Варшавой и Вильно. Художник в культурном пространстве. XVIII — середина XIX в. М.,
1999. С. 241–243.
Gazeta Litewska. 1804. № 25, 26, 34; 1805. № 15, 18.
Łopaciński E. Op. cit. S. 87.
Государственный исторический архив Литвы. Ф. 721. Оп. 1. Ед. хр. 915.
Л. 11.
Правильно: веленевая бумага (от фр. vélin, лат. vellum — калька) — высокосортная (чисто целлюлозная, без древесины) прозрачная бумага,
подобная пергаменту и тонко выделанной коже млекопитающих, использовалась для книгопечатания и рукописей, а также для оттисков с
наиболее ценных гравированных досок, как в данном случае — Джованни Баттисты Пиранези.
Речь о широко известном тогда альбоме Джона Августа Аткинсона
«A picturesque representation of the manners, customs and amusements of
the Russians», London: Bulmer 1803–1804. Текст Джеймса Уокера.
Dodatek // Kurier Litewski. 1816. Nr. 99; 1819. Nr. 90.
Ibid. 1819. Nr. 35 и др.
Ibid. 1819. Nr. 239.
Z Günterów Puzynina G. W Wilnie i w dworach litewskich. 1815–1843. Wilno, 1928. S.129.
Ю. С. Нечаев-Мальцев, знаменитый производитель русских стеклянных изделий, финансировавший строительство здания Музея изящных искусств.
Ibid. S. 127.
Свирида И. И. Восстанавливая идентичность забытого мастера: Джозеф Саундерс // Victor Chorev — Amicus Poloniae. К 80-летию В. А. Хорева. М., 2012. С. 85–87. Svirida I. Joseph Saunders: making biography
(historiography and sources) // The History of Art History in Central, Eastern and Southern-Eastern Europe. Toruń, 2012, Vol. I, p. 17–30.
�378 Инесса Свирида
24
25
26
Potocki S. K. O sztuce dawnych czyli Winkelman Polski / Opr. J. A. Ostrowski, J. Śliwa. Warszawa, Kraków, 1992. Cz. 1.
Beauvois D. Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich. Rzym–Lublin, 1991. T. 1. S. 261–266.
Глинка Ф. Письма русского офицера… Фрагменты. [Электронный ресурс]. URL: http://www.russianresources.lt/archive/Vilnus/Glinka_1.html.
�Виктория
Сливовская
(Варшава)
К вопросу
о западных откликах
на польские ссылки
(1815–1881)
Сливовская Виктория /
Śliwowska Wiktoria — Dr.
hab., профессор, доктор ho
noris causa РАН, Польша,
Варшава, Институт истории
ПАН — Dr. hab., профессор,
доктор honoris causa РАН,
Польша, Варшава, Институт
истории ПАН
В этой статье будет больше вопросов, чем ответов, я скорее буду привлекать внимание к тому, что и как доходило
до Европы о судьбах поляков, сосланных
в Сибирь (как известно, Сибирь никогда
не была географическим понятием, этот
топоним обозначал всю ту территорию
Российской империи, а позднее СССР, где
насильственно, помимо своей воли оказывались поляки), чем приводить свидетельства из прессы или фрагменты из книг. Несколько подробнее я остановлюсь лишь на
трех примерах.
Провал Ноябрьского восстания, на
плыв его участников в Германию и Фран
цию, их триумфальное шествие в неизвестность — в эмиграцию, вызвали кратковременный интерес к «польскому вопросу».
Это известно и неоднократно описано.
Предпринимались и попытки ознакомить общественное мнение с судьбами
участников восстания, которые не смогли
или не захотели покинуть родину. Кроме самих приговоров уголовного суда, о
судьбах осужденных было известно мало.
Что стало с массой рядовых солдат Польского войска, попавших в российскую
армию, было неизвестно тогда и, по сути
дела, неизвестно по сей день. Где они проходили службу, сколько их навсегда осталось в России, создав новые семьи, сколь-
�380 Виктория Сливовская
ко вернулось — на эти вопросы не смог ответить Веслав Цабан в своей
основанной на глубоком исследовании монографии1, впрочем, они не
были в центре его интересов.
О приговоренных к каторге ходили самые фантастические легенды, их главным героем был князь Роман Сангушко, которого изображали на литографиях прикованным к тачке в подземной шахте.
Прочие литографии также были плодами фантазии, как, например,
работа Давида Жюля, которая украшает обложку моего «Словаря
ссыльных»2. Конечно, судьба осужденных была незавидной: Николай I сначала лично приговорил Сангушко за дерзкий ответ на суде к
отправке в Сибирь пешим этапом, но потом милостиво заменил каторгу службой в армии. Условия, в которых Сангушко ее отбывал, были
далеки от тех, какие стали уделом простых солдат: разумеется, трехкомнатная квартира в Тобольске не была похожа на дворец в Славуте,
однако князю не были запрещены ни охота, ни езда верхом, а слугой
у приговоренного был другой ссыльный. Сангушко получал из дома
суммы, которые позволяли ему постоянно помогать деньгами своим
товарищам; он продолжал заботиться об их судьбе и когда — по собственному желанию — был переведен на Кавказ, где за битвы с горцами получил повышение и награды, что позволило ему, уже оглохшему
от взрывов, вернуться в Славуту.
Я не изучала прессу тех лет — вопросом солдат и ссыльных после Ноябрьского восстания (а также пленных 1812 года) еще предстоит заняться — поэтому не могу сказать, что и как писали о насмерть
забитых палками (отметим, что физические наказания применялись и
в других армиях, например, в британской — еще во время Крымской
войны), о ссылавшихся в Оренбургский корпус и на Кавказ.
Поразительно, что, одной стороны, до общественного сознания
доходили ужасающие известия о страданиях каторжников, с другой
— когда появлялся свидетель, который писал и рассказывал о том,
что он пережил, его сообщения подвергались сомнению. Речь идет,
конечно, об исключительно продуманном и детально описанном удачном побеге Руфина Петровского. Достоверность его воспоминаний
бесспорна3, вопреки тому, что долгое время говорилось в эмиграции,
где не верили даже тому, что Петровский на самом деле бежал из Сибири. Это его задевало больше, чем недоверие, высказывавшееся на
страницах немецкой прессы. Подвергалась сомнению подлинность
его сообщений о мученической смерти священника Яна Генриха Серочиньского, который был «именем закона» приговорен к наказанию
палочными ударами и вместе с товарищами забит до смерти, или о
не менее жестоких репрессиях, которые пережил герой восстания
�К вопросу о западных откликах на польские ссылки... 381
Петр Высоцкий. Их называли «сказками», носящими «признаки неправдоподобности или даже невероятности». Петровский ответил зарубежным авторам на страницах «Le Constitutionnel»4 в номере от 18
декабря 1846 г., поклявшись «Богом и своей честью», что все, что он
описал — правда. В январе следующего года на собрании польских
эмигрантов в Париже Петровский рассказывал присутствовавшим
— как доносил своему начальству агент III отдела Собственной Его
Императорского Величества канцелярии Яков Толстой — о том, что
он пережил, «и даже обнажал руки и спину, чтобы показать шрамы,
оставшиеся со времени заключения и пребывания в Сибири»5. Это недоверие соотечественников, с которым он столкнулся после возвращения в эмиграцию, навсегда осталось в его памяти. Спустя долгое
время, в Блоне под Тарновом, где Петровский провел почти четыре
года в качестве учителя юного Йордана, сына владельцев поместья,
он рассказывал им, что когда он наконец добрался до Парижа, преодолев тысячу километров и обретя свободу только благодаря помощи
разных «порядочных» людей, его ожидало одно из самых больших
разочарований: «соотечественники не хотели верить в его побег. Он
это крайне болезненно переживал, пока кто-то не вернулся из Сибири
по какой-то амнистии и не рассказал о побеге Руфина, полагая, что он
наверняка погиб в столь тяжкой дороге. И тогда они поверили в правдивость слов Петровского, который жил в нищете»6.
Поверили, но все-таки ни трагическая история омского заговора, ни судьба Петра Высоцкого не произвели впечатления на земляков
из Великой эмиграции: когда Руфин Петровский появился на берегах
Сены, шел 1846 год. Публикации под названием «Московская жестокость по отношению к полякам в Сибири» на страницах «Национального Дневника» («Dziennik Narodowy», № 292 от 14 ноября 1846 г.) не
заметил никто из «поэтов-пророков», хотя темой Сибири интересовался как создатель «Дзядов», так и автор «Ангелли». Для написанного в 1849–1850 гг. дневника не нашлось тогда издателя — явно потому,
что, за исключением уже опубликованных фрагментов, он не носил
мартирологического характера и содержал много критики в адрес
эмиграции. Поэтому отклик был невелик и ограничивался одной публикацией на страницах «Le Constitutionell» (номер от 15 декабря)
и одной — в «Augsburger Allgemeine Zeitung» (№ 257 от 23 декабря
1846 г.), с упомянутым редакционным комментарием, ставящим под
сомнение правдивость описываемых фактов.
Всемирную известность получили воспетые в поэзии и прозе
жены декабристов — одиннадцать прекрасных женщин (десять русских и одна француженка), которые последовали в Сибирь за осу-
�382 Виктория Сливовская
жденными участниками восстания 14/26 декабря 1825 г. Им посвящены десятки публикаций, статей, книг, стихов и романов7. О более
чем тридцати польках и одной француженке, которые в период между
восстаниями проделали тот же путь — без знания языка и родственных связей, облегчающих устройство на новом месте, — зарубежный
читатель не знал ничего (польский тоже имел весьма слабое представление). Несколько больше писали о значительно более широком круге
женщин, отправившихся в ссылку после Январского восстания8.
Единственным исключением была Ева Фелиньская (урожденная
Вендорф), секретарь и доверенное лицо Шимона Конарского, высланная в административном порядке за организацию женского отделения
Содружества Польского Народа сначала в Березов Тобольской губернии, а затем в Саратов.
В ссылке родилась Фелиньская-писательница, первая «туристка
поневоле», которая описала и опубликовала свои впечатления в Вильнюсе в 1852–1853 гг.9, сразу получив популярность не только в Польше, но и за границей. Написанная с целью публикации на родине и,
следовательно, подвергавшаяся самоцензуре, книга стала настоящей
литературно-общественной сенсацией: читатель узнавал не только
о самой писательнице и ее переживаниях, но и о ее сотоварищах, о
тяжелобольном Северине Кшижановском, сосланном за участие в
Патриотическом Обществе. В 1852–1854 гг. вышло целых три английских издания под интригующим названием «Revelations of Siberia by
a Banished Lady» («Откровения ссыльной женщины о Сибири») в переводе К. Ляха-Ширмы и одно датское (1855). До русского читателя
книга не дошла, разве лишь до знающего польский язык, что тогда не
было редкостью. Три издания свидетельствуют о популярности книги
Фелиньской, однако нам не известно, что писали о ней в прессе, ибо
такого исследования не проводилось. Этой книгой пользовался — не
упоминая имени автора — американский журналист Томас Уоллес
Кнокс в весьма пространно озаглавленном описании своего путешествия 1866–1869 гг.10, которому посвящена опубликованная в 1995 г.
статья Анны Пек11.
Позднее настоящим «бестселлером польско-сибирской литературы» стали недооцененные в 40-х гг. воспоминания Руфина Петровского. На основании полного трехтомного издания «Дневников
пребывания в Сибири» («Pamiętniki z pobytu na Syberii»), вышедшего
в Познани в 1860–1861 гг., Юлиан Клячко подготовил сокращенный
вариант на французском языке, который был опубликован с его предисловием в 1862 г. в популярном солидном журнале «Revue des Deux
Mondes», а в следующем году вышел отдельной книгой в издатель-
�К вопросу о западных откликах на польские ссылки... 383
стве «Hachette» (в том же 1863 г. появился сокращенный русский перевод, на который А. Герцен написал рецензию в «Колоколе»). Уже в
1862 г. вышли датское и немецкое издания, в 1863 — два английских,
в 1864 — голландское. В роскошном французском издании 1870 года,
помимо портрета Петровского, было помещено десять гравюр, передающих атмосферу книги и не являвшихся лишь плодом воображения
художника, поскольку они создавались под наблюдением самого автора. В 1888 г. книгу вновь переиздали, и находившийся под глубоким
впечатлением от нее Кнут Гамсун в 1934 г. выступил инициатором
ее перевода на норвежский язык. То, что в свое время, когда Петровский оказался в Европе, вызывало сомнения у эмигрантов (и журналистов — например, способ зимовки в выкопанных в снегу ямах), было
абсолютно понятно скандинавам! Таким образом, книга стала широко известна, причем не только в Европе: ею пользовался уже упоминавшийся Т. У. Кнокс и, конечно, не он один. В это же время вышел
французский перевод воспоминаний Максимилиана Ятовта, писавшего под псевдонимом Якуб Гордон12. И снова мы не знаем, какой была
читательская аудитория этой книги, писали ли о ней в прессе, и если
да, то что именно.
Еще раз приходится признать, что наши сведения о том, что писали на тему польских ссыльных XIX в., крайне ограничены. (Несколько больше внимания уделялось народникам и социалистам, особенно
по причине покушений на жизнь высокопоставленных лиц, но этот
вопрос уже выходит за рамки данной статьи.) Не подлежит сомнению,
что нужно подробнее изучить восприятие в Европе польской литературы о ссылке, чтобы понять, сложился ли и там миф о Сибири как о
крае мучеников или, возможно, в связи с наплывом предпринимателей, заинтересованных в использовании сибирских богатств, — миф
о Сибири как о крае больших возможностей. Здесь следовало бы, в
частности, обратиться к замечательному труду Дж. Кеннана13, который оказал значительное влияние на общественное мнение в Европе
и Америке. В качестве отрицательного примера можно назвать книгу
Ж. Фенне «Les Goulag des Tzars» (Париж, 1986), которая претендует на
жанр научной монографии, но при этом основана на скудном источниковом материале (главным образом, французском), полна фактических ошибок (на что уже обращала внимание Э. Качиньская14) и, что
самое главное, содержит абсолютно абсурдную параллель между царской и советской репрессивными системами.
В завершение я хочу сказать несколько слов об авантюристах,
чьи дневники на протяжении многих десятилетий воспринимались
некритически. Подозрения эмигрантов, что среди возвращающихся из
�384 Виктория Сливовская
ссылки могут скрываться царские агенты, в первой половине XIX в.
были скорее беспочвенными. Во всяком случае, я не могу назвать ни
одного имени человека, который сотрудничал бы с заграничной агентурой Третьего Отделения, с ее главным представителем и информатором Яковом Толстым. Однако эти подозрения давали о себе знать,
и не исключено, что именно они были причиной того, что беглецы из
ссылки так редко брались за перо…
Ситуация радикально изменилась во второй половине века:
среди эмигрантов после Январского восстания появились настоящие агенты, о деятельности которых много написано, поэтому я не
буду повторяться. В Галиции появилось много «ложных сибиряков»,
о которых предупреждала пресса, выпрашивающих пожертвования,
рассказывавших невероятные истории о своих мучениях. И не только рассказывавших. Охотно приводимый исследователями дневник
Якуба Котона «Побег из Сибири» («Ucieczka z Syberyi»), вышедший
в 1891 г. в Кракове и описывающий трехкратное бегство автора из самой Якутии, является самым очевидным апокрифом. Приводимые в
нем сведения о якутах и их обычаях — полный вздор; ни в одном из
документов, касающихся около 40 тысяч ссыльных после Январского
восстания, нам не встретилась фамилия автора, а в архиве Якутска не
обнаружилось информации о ком-либо, кто бежал бы оттуда трижды. Более того, в полицейских архивах, где искали упоминания об
этом беглеце после получения агентурной информации о выходе его
дневника, также не обнаружили никаких следов пребывания Котона
в Сибири! Агент, в частности, уведомлял, что дневник вышел также
по-немецки, однако до сих пор нам не удалось обнаружить его экземпляр ни в одной из библиотек, к которым мы имели доступ. Нам также
неизвестно, написано ли что-нибудь на эту тему. Агентурное прошлое
было и у автора «Разрозненных страниц дневника беглеца из Сибири» («Luźne karty pamiętnika zbiega z Sybiru»), опубликованных под
анаграммой Кс. Пурк в Лейпциге в 1877 г., Станислава Крупского15,
которого и в эмиграции не без оснований подозревали в продолжении
этого сотрудничества… И эти дела попадали сначала в суды, а позже — иногда на страницы европейской прессы.
Очевидно, существует обоснованная необходимость проведения
исследований прессы XIX века: можно заранее предполагать, что на ее
страницах найдется не только официальная информация — например,
о приговорах по делу о событиях на байкальской дороге в июне–июле
1866 г., — но и отклики на упомянутые, равно как и не упомянутые
здесь книжные издания.
(Перевод Е. Кузнецовой)
�К вопросу о западных откликах на польские ссылки... 385
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Caban W. Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach
1831–1873. Warszawa, 2001.
Śliwowska W. Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie
XIX wieku. Słownik biograficzny. Warszawa, 1988.
Очень убедительно о «достоверности» дневников Р. Петровского пишет З. Й. Вуйчик: Wójcik Z. J. Rufin Piotrowski i jego ucieczka z Syberii w
1848 roku [верно: 1846. — В. С.]. Bestseller literatury polsko-syberyjskiej //
Przegląd Wschodni. 1997. T. 4. Z. 4. S. 805–818; там же есть информация
о польских и зарубежных изданиях дневника; см. также: Śliwowska W.
Rufin Piotrowski w świetle nieznanych materiałów policyjnych // Wrocławskie Studia Wschodnie. 1997. № 1. S. 11–31.
Там же появился его текст о Серочиньском и Высоцком. Перевод под
названием «Martyr du Prieur Siericinski. Extrait des Mémoires de Mr Rufin
Piotrowski publiés à Posen dans les journal “Goniec Polski”» находится в
архиве Чарторыйских в Кракове (rkps. 5660, k. 331–350).
Этот фрагмент рапорта Я. Толстого добавлен к делу Р. Петровского
(Центральный Державный Историчный Архив Украины в Киеве. Собр.
442. Т. 259. Ч. 2. Л. 43–44).
Biblioteka Jagiellońska. Dział Rękopisów. II 9793. K. 24–26.
См.: Декабристы и Сибирь. Иркутск, 1985. С. 106–109.
Исследования, проводимые в Институте Истории ПАН для создания
«Картотеки польских ссыльных в XIX веке» и компьютерной базы
данных ссыльных участников Январского восстания, позволяют точно
определить число отправившихся в ссылку женщин и представить их
судьбы, деятельность в изгнании, а также количество вернувшихся на
родину или навсегда оставшихся в империи по причине смерти или замужества.
Felińska E. Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i Saratowie… Wilno, 1852–1853. T. 1–3.
Knox T. W. Overland through Asia. Pictures of Siberian, Chinese and Tatar
life. Travels and adventures in Kamchatka, Siberia, Chine, Mongolia, Chinese Tartary and European Russia with full accounts of the Siberian exiles,
their treatment, condition and mode of life, a description of the Amoor River
and the Siberian shores of the Frozen Ocean. San Francisco, 1871.
Peck A. Polacy na Syberii — w relacjach amerykańskiego dziennikarza Thomasa Wallace’a Knox’a // Universitas Gedanensis. 1995. № 12. S. 50–61.
Gordon J. Mes prisonns en Russie. Leipzig, 1861.
Kennan G. Tent Life in Siberia. Adventures Among the Koraks and Other
Tribes in Kamtchatka and Northern Asia. New York, 1970; многочислен-
�386 Виктория Сливовская
14
15
ные последующие издания, а также переводы на польский язык. Ср.:
Filipowicz M. Amerykanin odkrywa Syberię i Sybir. Zapomniany George
Kennan // Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim / Pod red. E. Niebelskiego. Lublin; Warszawa, 2008.
Kaczyńska E. Syberia największe więzienia świata (1815–1914). Warszawa,
1991. S. 175, 308.
См. о нем в: Śliwowska W. Ucieczki z Sybiru. Warszawa, 2005. S. 235–380.
�Анна Собеская
(Варшава)
Русские цыганские
романсы
в «Заколдованном кабаке»
поэзии Галчиньского
И жизнь, как пенье,
Как прежний тон
струны моей цыганской,
Прекрасный, словно облаков
кипенье…
К. И. Галчиньский,
«Возвращение к Эвридике»1
Собеская Анна / Sobieska
Anna — Dr., Польша, Варшава, Институт литературных
исследований ПАН
О польской поэзии межвоенного периода писали, что, разорвав связи с западной культурой, она «стала… колонией русских влияний»2. Такой «колонией»
российской литературной империи была,
несомненно, и поэзия Константы Идельфонса Галчиньского. Диалог, который автор «Бала у Соломона» вел с литературой
страны Пушкина, можно назвать одним
из самых удивительных примеров литературных взаимосвязей той эпохи. Однако глубокая укорененность творчества
Галчиньского в русской литературе, хотя
и признаваемая повсеместно, до сегодняшнего дня не становилась предметом
серьезных и детальных исследований. Все
согласны, что в произведениях Галчиньского слышны голоса Пушкина, Блока,
Есенина, Гоголя, Пастернака и Маяковского, но точно неизвестно, как и откуда
они исходят3.
Важно обратить внимание еще на коечто. Русская лирика, как отметил процитированный выше Ст. Черник, «могла бы
быть исследована как разновидность текстов, ставших источниками для польской
послевоенной поэзии» (речь идет о поэзии
после Первой мировой войны), а значит, и
для творчества Галчиньского: «дух Бальмонта, Брюсова, Блока, Маяковского и Есенина витал» также и над ним4. При этом по-
�388 Анна Собеская
эзия великого «Мага в цилиндре» (определение Януша Рохозинского5)
является необычайно ценным и интересным свидетельством популярности в межвоенной Польше не только русской классической литературы, но и русской массовой культуры, русской музыкальной культуры — в первую очередь, цыганских романсов. В то время известные
мотивы русской «цыганщины» звучали не только в кафе и клубах белой
эмиграции в Варшаве, Гдыне или Вильно. Эту музыку популяризировали крупнейшие польские звукозаписывающие студии, издавая большими тиражами пластинки с записями русских и польских исполнителей красивейших русских и цыганских романсов. В частности, в этой
серии вышли такие шлягеры, как «Хризантемы», знаменитые «Забыты
нежные лобзанья» на слова Анатолия Ленина, «Песня цыганки» («Мой
костер в тумане светит») на музыку Я. Ф. Пригожего и слова Я. П. Полонского, романсы «Эх, раз пошел» («Черные очи, белая грудь»), «Уголок» («Дышала ночь восторгом сладострастья»), «Тигренок», «Успокой
меня» (известный также по-польски под названием «Wrуж mi spokуj,
wrуж»), «Мне все равно! Дни сулят лишь печали», «Не таи рыданья»,
«Не замолчу», «Вчера я видел Вас во сне».
Русские цыганские романсы в свое время пели «польская Марлен Дитрих» Станислава Новицкая, Павел Прокопени (Павло Прокоп)
из Полесья, Тадеуш Фалишевский (исполнявший Вертинского), Стефан Витас и Мечислав Фогг (по-русски исполнял среди прочих песню «Помни обо мне», произведения из репертуара Петра Лещенко:
«Скучно», «Синяя рапсодия», «Марфуша», «Сердце», «Марш веселых
ребят» и русские фокстроты: «Танцуй, Машка…», а также «Смейся,
Гришка…» на музыку Оскара Строка и слова Владислава Штенгла).
Русские цыганские романсы можно было услышать в польских фильмах — достаточно вспомнить Адама Астона (Адольф Левинсон), исполнявшего подражающий русскому цыганский романс «Jak trudno
jest zapomnieж…» («Как трудно забыть…») в фильме «Manewry
miіosne6» («Любовные маневры»), или Ольгу Каменскую (Ольга Фависевич из Грозного, примерно с 1920 г. жившая в Польше), популяризовавшую русские песни и цыганские романсы в фильме «Hanka»
(«Ханка», 1934; Каменская выступала с хором Семенова). Были широко известны и русские исполнители цыганских романсов — знаменитый Юрий Морфесси, певец, эмигрировавший из России в 1921 г. и
оставшийся в Польше, Иван Никитин, Георгий Семенов и его русский
хор (Иван Петин-Бурлак, Михаил Ольховый, Александр Пухальский,
Дмитрий Дубровский), Алла Баянова, Надежда Белич, русская капелла «Волга» под руководством Левицкого с такими вокалистками, как
Галина Каренина и Варя Ласка.
�Русские цыганские романсы в «Заколдованном кабаке»... 389
Для нас важнее то, что мотивы русских цыганских романсов в
это время слышны также и в поэзии — в лирике Юлиана Тувима, в
«Dancing» Марии Павликовской-Ясножевской7, в поэзии Казимежа
Вежинского, но больше всего у Галчиньского. Это именно тот последний «греческо-цыганский поэт», как назвал его Владислав Броневски8,
который наиболее близко связан с русской цыганской темой, с атмосферой декадентских романсов, с настроением этого музыкально-поэтического жанра. Сами читатели автора «Сапфирового романса» отчетливо это чувствовали. Ежи Загорский, редактор журнала «Їagary»,
вспоминал, например, как в 30-х гг. читали в Легачишках под Вильно
в так называемой «Академической колонии» поэму «Конец света» и
присутствовавший на вечере Милош, захваченный ее мелодичностью,
заметил в ней некий отзвук ритмов, встречающихся «в популярной
полупольской, полурусской песне»9. Чувствительный к мельчайшим
отзвукам связей с русской литературой Кароль Виктор Заводзиньский, рецензируя изданные в 1937 г. «Поэтические произведения»
автора «Порфирона», даже назвал его по этой причине «веселым декадентом а la russe», показывая, насколько сильное влияние оказал на
его формирование «темный морок цыганских песен»10. Об отношении
Галчиньского к цыганским романсам писали также многочисленные
родственники и друзья поэта — Стефан Фуликовский подчеркивал,
например, что стихотворение «Надену черные брюки»11 по своей идее,
по авторскому замыслу является «смесью сентиментального лиризма
и сатирической пародии… [Это был] романс, высмеивающий романс,
издевка над модными шлягерами. Глумление над всякой хандрой и
сплином»12. А дочь Галчиньского вспоминает, как в их доме из-за пристрастия женщин, влюбленных в «кокаиновые» песни Вертинского
(они были во вкусе жены поэта Наталии и его дочери), звучал «Сумасшедший шарманщик», что вызывало насмешки и издевательства
отца13. Здесь важно подчеркнуть, что восприятие русской цыганщины
в поэзии Галчиньского оказалось вписано в рамки — свойственные
поэтике этого автора — сатирическо-гротескных тенденций, а также «общепринятой интертекстуальности» (термин Эразма Кузьмы14),
проявляющейся в аллюзиях на популярную культуру и карнавальные
жанры. Одним словом, его реакция в значительной мере была продиктована пародированием русского цыганского романса, этого определенного рода «ресторанного экстракта» русской культуры.
Среди разнообразных аспектов вопроса, связанного с восприятием
русских цыганских романсов и русской «цыганщины», особенно важно обратить внимание на один: у Галчиньского часты стилизованные
вставки, вводящие в поэтические произведения фрагменты (названия,
�390 Анна Собеская
отдельные строки или рефрены) русских народных песен и цыганских
романсов. Обычно они взяты в кавычки и цитируются в оригинале,
по-русски, поэтому их легко идентифицировать в тексте. Однако есть и
такие, которые сложнее обнаружить, так как они представлены в виде
парафраза и сильно отличаются от первоисточника, а бывает и так, что
связаны с ним только аналогичной эмоциональной атмосферой. Вводимые таким образом в текст цитаты функционируют как символы, как
сущность русскости, знаки, обращающие на себя внимание, обладающие исключительной силой вызывать самые различные ассоциации,
складывающиеся из авторского видения культуры России. Эти русские
мотивы часто появляются на фоне гротескной насмешки, хотя при этом
в них есть и лиризм, и задумчивая нежность. Важно рассмотреть детально эти русско-цыганские элементы, создающие интертекстуальную сеть смыслов. В бутафорских «Пяти доносах» (1934) речь идет,
например, о невыносимых соседках — пяти вдовах «генералов армии
царской», у которых — «едва на небе месяц блеснет» — слышна игра на
гитаре и пение «Разбей бокал!»15 (в польском тексте — «Razbiйj bakбі!»).
Инкрустированная в повествование фраза на чужом языке вызывает
ассоциации с одной из наиболее характерных деталей русских романсов, в текстах которых часто говорится о бокалах, разбитых на счастье,
или, чаще — о том, как их разбивают вдребезги в порыве нестерпимого отчаяния. Восклицание «Разбей бокал!» исходит из популярного
«жестокого» романса «Налей бокал», написанного Львом Дризом еще
до революции и в 20-х гг. ставшего широко известным в исполнении
знаменитого (жившего тогда в Польше) Юрия Морфесси. В этом романсе несколько раз повторяется это исполненное чувства глубокой безнадежности самоубийственное напоминание о бессмысленности жизни
после потери возлюбленной, которая ушла с другим:
Ах, если в жизни все вино
Любви твоей испито,
Разбей бокал свой — все равно
Вся жизнь уже разбита.
Разбей бокал! В нем нет вина.
Коль нет вина, так нет и счастья.
В вине и страсть, и глубина,
Забвенье мук и призрак счастья16.
Галчиньский наверняка знал этот романс, тем более что он, вероятно, напоминал ему одно из его любимых стихотворений Блока из
�Русские цыганские романсы в «Заколдованном кабаке»... 391
цикла «Страшный мир» — той же невротической атмосферой, состоянием отчаяния. В нем есть строки о том, как в «кабинете ресторана /
За бутылкою вина» среди «визга цыганского напева и дальних скрипок вопля туманного» падают слова:
Жизнь разбей, как мой бокал!
Чтоб на ложе долгой ночи
Не хватило страстных сил!
Чтоб в пустынном вопле скрипок
Перепуганные очи
Смертный сумрак погасил.
(А. Блок «Из хрустального тумана…», 6 октября 1909 г.) 17
В поэзии Галчиньского, в стилистике (как в «Пяти доносах»)
лирической насмешки и иронии в отношении русского декадентства,
скрывающего уже не высмеиваемый, а настоящий блоковский, романтическо-русский надрыв, также встречаются отзвуки других известных романсов. В стихотворении «Audycja dla inteligencji» («Передача
для интеллигенции», 1933) на волшебный музыкальный образ зимней
вьюги, появляющийся в воображении рассказчика, мечтающего о снеге, оказался наложен ностальгический образ польской луны: «как еврейская мелодия в русском сердце эмигранта-саксофониста»18 и нота
из популярного романса «Гай-да тройка! Снег пушистый»19. Это песня о тройке, мчащейся рысью куда-то далеко в серебристую, заснеженную ночь, чтобы потом ранним утром отвезти домой смущенную
влюбленную, которая сомневается в истинности любви, подозревая о
недолговечности чувств и о неискренности страстных поцелуев. Важно подчеркнуть, что луна, вьюга, снег, ветер, фонари, дрожки с трупом поэта, обморочное отчаяние, замерзшее или размытое в пронизывающем холоде метели «свинское лицо мира» и ненависть ко всем
этим оппортунистам, «которым живется сегодня лучше всего…», в то
время как другие «мрут без работы…» — все эти мотивы не только
типичны для русских романсов, но и уподобляемы благодаря этим
мотивам блоковским хмурым видениям зимнего демонического Петербурга с проститутками — такого, каким город предстает в циклах
«Страшный мир» или «Город». Эти тексты сближает похожее ощущение проигранного и бунт, связанный с осознанием безуспешности,
бунт против не угасшего до конца отчаяния.
Среди других строк, относящих нас к русским романсам и песням, на которые стоит обратить внимание, можно упомянуть следую-
�392 Анна Собеская
щие: татаро-монгольский запев-вставка в стихотворении Галчиньского «Россия» «Ай, дербень-дербень-калуга»20 из известной частушки
«Тульская гармонь»; строки «Ах, какая тоска» и «Бей по струнам» (из
стихотворения «Романс»21), как будто взятые из романсов Лещенко (в
1939 г. в Польше его привозные пластинки были доступны); рефрен
«не гневайся, прижми меня к груди и не выдай миру» («nie gniewaj siк,
/ weџ mnie na piersi i nie wydaj њwiatu») из поэмы «Бал у Соломона»
— напоминающий знаменитое «поцелуем дай забвенье» (из романса
Николя Зубова «Под чарующей лаской твоею»); рефрен колыбельной «спи, младенец мой прекрасный. / Баюшки-баю» («Колыбельная
писателей»), характерный для русских колыбельных в стиле «Баю,
баю, мил внучонок» А. Островского и В. Н. Кашперова, «Колыбельной песни» К. Бальмонта на музыку Н. Римского-Корсакова; наконец,
гротескно утрированные ее приметы в «Песне начальника гробовщиков», где есть и Тамара, и несчастный любовник, стоящий под ее
окном с гитарой (как в цыганском вальсе Я. Ф. Пригожего «Милая»),
револьвер, лопнувшие струны, угроза: «Еще заплачешь, / когда меня
в гробу увидишь» и восклицание: «Прощай» (см. романс Есенина
«Зеленая прическа»). К этому списку можно добавить также русские
аллюзии из более поздних стихов 40-х гг., обратив внимание на стихотворение «Если» (1946), содержащее характерное словосочетание
«Волга-Волга» («Волга, Волга!») из песни «Стенька Разин», известной
как «Из-за острова на стрежень»22; а также стихотворение «Романсик
с бубенцами “Твои пальцы пахнут ландышами”», прямо отсылающий
к песне Вертинского «Ваши пальцы пахнут ладаном».
Перечисление можно продолжить и показать, например, как поэт
перенимает некоторые основные темы, мотивы романсов, когда говорит о воспоминаниях, забвении, или о ночи, луне, соловьиных трелях,
о садах и беседках — местах встреч влюбленных. Но речь не идет о
создании каталога романсово-песенных аллюзий в стихах Галчиньского. Подчеркнуть следует тот факт, что многие произведения поэта,
такие как «Сапфировый романс» (1935), «Романс о трех сестрах-эмигрантках» (1928), «Серенада» (1939), а особенно «По дороге столбовой» (1938), «Песня начальника гробовщиков» (1936) и «À la russe»
(1937), совершенно очевидно наследуют или апеллируют к исполнявшимся в межвоенный период декадентским цыганским романсам (как
правило, в переводе Софии Байковской, но зачастую и в оригинале),
например, «Не уходи», «Хризантемы», «Калитка», «Пара гнедых» или
«Уголок». Аллюзии, вызванные этими текстами, возникают не только вследствие прямого цитирования (как, например, делал это Блок,
инкрустировавший свои стихи эпиграфами из «Утра туманного») или
�Русские цыганские романсы в «Заколдованном кабаке»... 393
посредством создания аналогичного мелодраматического антуража:
гитара или балалайка, самоубийства, алкоголь, любовные происшествия, помогающие создать надрывную атмосферу сентиментальных
страстей, — но и через уподобление стихотворного размера романсовой форме. Именно поэтому у Галчиньского встречается обилие
восклицаний типа: «Гей, на люблинском тракте», «Небо в тоске. И
какой!» («А larusse»), «По столбовой дороге — один на один с гармонью» и «Гей, звезды» («По столбовой дороге»), «Эх, раззадорило
бедолаг…» («Бал у Соломона»), «Гей, по дороге вольной, не панской»
(«Сапоги Шимона»23), «Ах, какая тоска» («Романс»). Это и типичный
запев русских романсов — «Ну же, ямщик, поскорей», «Ну, быстрей
летите, кони», «Ах, люби меня без размышлений», «Ах, я влюблен
в глаза одни», «Эх, ямщик, гони-ка к Яру», «Эх, душа моя, мы с тобой не пара», «О, верь моей любви»; известные «О, говори хоть ты со
мной», «Ох, тошно мне» и др.
Насыщенность романсов восклицаниями усиливает экспрессивность сюжетов, придает им пафос, драматизирует их. Кроме того, это
является в некотором роде доказательством искренности и истинности описываемых переживаний. Междометия, служащие выражениями вздоха, стона, смеха или плача – это знаки невыразимых чувств,
добавляющие им динамику и силу. Галчиньский, чьи стихи, по словам Йозефа Чеховича24, рождались «из эмоциональных источников»,
явно использовал эту магию эмоций, скрытую в восклицаниях, а также применял их бесценные качества для звукописи.
Важно указать на еще один элемент, сближающий (в определенной мере, потому что эта черта может свидетельствовать и о другом)
некоторые произведения Галчиньского с русскими романсами, — драматизирующий лирический нарратив обращения к адресату, делающий стихотворение похожим на диалог (на эту черту романсов и лирики Блока указывал в свое время Ю. Тынянов). Например: «Ты меня не
любишь, я это знаю», «У меня револьвер есть. Ты знаешь. / Ты хорошо
знаешь, Тамара», «Еще заплачешь», «А вот увидишь», «Прощай, Тамара» («Песня начальника гробовщиков»); «Ну-ка, рвани меха», «Песню
сложи» («По столбовой дороге»). Типичный романс всегда использует
обращение «ты», всегда прибегает к императиву, как писал исследователь этого жанра: «каждый романс — это как бы сжатая мелодрама,
спетая в стихах одним участником другому»25.
Параллели с русскими романсами не ограничиваются, однако, в
творчестве Галчиньского дословными и пародийными цитатами или
парафразами из популярных шлягеров, каковыми в межвоенный период были русские цыганские песни. Они также не заключаются толь-
�394 Анна Собеская
ко в имитации их песенно-романсовой мелодичности, достигаемой с
помощью восклицаний или ономапоэтической стилизации песни под
гитару, как, например, в «Романсе» («Женский голос в березах…»)
или во фрагменте из «Бала у Соломона», в котором появляется Гулистан и где есть попытка подражания перебору струн, а слово говорит
(mуwi) — как замечательно отметил Чехович — звучит как аккорд, и
«уже начинается серебряная музыка слова»26.
Еще одним важным аспектом, на который необходимо обратить
внимание, можно считать создание поэтом — чаще всего на уровне
пародии, стилизации — эмоциональной атмосферы, этого неотъемлемого атрибута жанра, включающей две характерных особенности,
которые Пушкин назвал «разгульем удалым» (в переложении Адама
Важика — «дикая гулянка») и безбрежной «сердечной тоской» (в переводе Важика — «тревога»27). При этом речь идет не только о палитре
чувств, используемых в романсах, но и об их интенсивности. Свойственный каноническим романсовым текстам особый чувственный
пафос, мощная эмоциональность сопутствовали также определенного
рода максимализму, который можно выразить тремя словами: везде,
всегда, никогда — или строкой из уже забытого романса Н. Северского: «Ведь для меня и муки, / И рай… все — вы!»28. Если речь заходила
о любви, то только о такой, которая до гроба, навсегда, единственная
на свете. Если о нарушении клятвы — то только о самом жестоком и
самом неожиданном, превращающем все в пустую игру. Если о памяти — то непременно с упоминанием клятвы, что обо всем забудется,
и только об одном — никогда невозможно будет забыть… Этим максималистским принципам вторило фаталистическое мировоззрение,
диктующее автору популярного романса «Чудный месяц плывет над
рекою», например, такую фразу: «Нам теперь уж с тобой не сойтися, /
Верно, так уж угодно судьбе»29. «Роковая страсть», «роковая любовь»,
«роковой час», «роковые обстоятельства», «роковое свидание», «поединок роковой», «дар судьбы», «не судилось», «так суждено» — вот
неотъемлемые признаки «жестокого романса»30.
Многие из уже названных стихов Галчиньского укладываются
в эти правила — создавая структуры, уподобляющие их типичной
для романса мозаике отчаяния, депрессивной тоски, редкой надежды. Особенно это касается текстов с мотивом, который можно назвать
кабацко-алкогольным, таких, например, как элегия «На странный и
неожиданный отъезд поэта Константина», «Сервус, Мадонна», «Бал у
Соломона» или «Виленское имброглио» и вообще стихи из виленского цикла. Действительно, стремление представить (скрыть?) отчаяние
(через стыдливость?) под маской гротеска приводило к непониманию.
�Русские цыганские романсы в «Заколдованном кабаке»... 395
Ведь были читатели, не способные постичь глубины этого «блоковско-романтического» надрыва, этого «неподъемного чемодана отчаяния» («Заметки о неудавшемся говеньи») (см. высказывания Яна
Блоньского, отрицавшего декадентские смыслы в цыганской ипостаси
Галчиньского). Были и те, кто досконально прочувствовал скрытую
под маской клоуна и насмешника правду. Один из таких внимательных читателей записал: «Существует однако определенная категория
творцов, которые, кажется, способны менять установленный порядок,
скрывать страдание за ритмами веселого менуэта и улыбаться от боли.
Так улыбались Моцарт и Мюссе. Похоже улыбается Галчиньский…
Необходимо сначала ухватить главную нить его творчества, понять
таинственное смещение чувственных знаков, чтобы за улыбкой буффона и насмешника открылась бездна грусти, страдания и тревоги»31.
Так же писал об этом и К. Выка, видя за фигурой пересмешника попытку избавиться от чар всевластного страха32.
Отзвуки русского декаданса, запечатленные в цыганском романсе, должны были представляться Галчиньскому не только лучшим отражением русской души, но и экспрессией наиболее сильных и одновременно глубоко потаенных сердечных истин. В противном случае
реки в лирике Галчиньского не рыдали бы «черно, темно, по-русски»
(«czarno, ciemno, po rosyjsku», «Ночь в Вильно»), русская девушка не
была бы той, которая знает тайны грусти («Пять доносов»), а музыка
бы не завывала, «как вурдалак, всласть насосавшийся цыганской крови» («Бал у Соломона»).
(Перевод Е. Кузнецовой)
П ри м е ч а н и я
1
2
3
Пер. с польского А. Нехая.
Czernik S. Wstкp do dziejуw polskiej poezji powojennej // Okolica Poetуw.
1937. Z. 4. S. 148.
До этого момента не было исследований по данной проблематике.
В нашем распоряжении имеются только короткие комментарии и
единственный текст, принадлежащий перу профессора Виктора Хорева.
См. краткие примечания на тему русских источников в творчестве
автора «Зачарованных дрожек» в таких текстах, как, например:
Wspomnienia o K. I. Gaіczyсskim / Przedmowa i redakcja A. Kamieсska,
J. Њpiewak. Warszawa, 1961. S. 86, 87, 101, 107, 158, 173, 176, 234, 365,
429, 565; Zawodziсski K. W. Wesoіy dekadent а la russe // Wspomnienia
�396 Анна Собеская
4
5
6
7
o K. I. Gaіczyсskim. S. 403; Drawicz A. Konstanty Ildefons Gaіczyсski //
Ibid. S. 23, 30, 73, 84, 137, 193, 214, 239, 245, 271; Bazylewski A., Rosja
w їyciu i twуrczoњci Konstantego Ildefonsa Gaіczyсskiego // Poezja. 1987.
Nr. 11/12. S. 162; Wyka M. Wstкp // Gaіczyсski K. I. / Wybуr poezji, oprac.
M. Wyka. Wyd. 6, zmien. Wrocіaw, 2003. S. 43, 63; Gaіczyсska K. Srebrna
Natalia. Warszawa, 2006. S. 117, 137. Среди упомянутых незначительных
отступлений и примечаний на данную тему важно обратить внимание
на комментарии из монографии о писателе выдающегося ученого и
переводчика русской литературы Анджея Дравича (Drawicz А. Konstanty Ildefons Gaіczyсski. Warszawa, 1968). В этой работе можно найти
такие ценные замечания, как: «нота цыганско-блоковских напевов
осязаема в стихах Галчиньского, она многое определяет» (S. 23); «под
бессмысленной карнавальной феерией масок, обезьяньих ужимок,
импровизированных выступлений, шарлатанских фокусов, цыганских
напевов лицо поэта, “шута-импровизатора” часто искажено гримасой
боли, голос надрывается отчаянием» (S. 137). К сожалению, как я
отметила, изучение этих цыганско-блоковских мотивов не получило
продолжения, а между тем они, несомненно, «многое определяют», и
потому важно внимательней к ним присмотреться.
Czernik S. Op. cit. S. 148.
Rohoziсski J. Sіowo wstкpne // Mag w cylindrze. O pisarstwie Konstantego
Ildefonsa Gaіczyсskiego / Pod red. J. Rohoziсskiego. Puіtusk, 2004. S. 6.
Это определение связано, конечно, с одной из немногих сохранившихся
фотографий Галчиньского — в плаще, на террасе усадьбы Недзельских
в Щледзеёвицах под Величкой (снимок сделан летом 1946 г.)
Адам Астон выступил в фильме Конрада Тома в роли поющего Цыгана
и исполнил романс «Jak trudno jest zapomnieж…», на музыку Генриха
Варса и слова Ежи Юрандота. В этом фильме есть еще одна интересная
«цыганская» сцена — товарищи поручика Нико (из гусарского
полка) веселятся на постоялом дворе с цыганками и поют некий неопределенный романс по-русски. А самому поручику (Александр
Жабчинский) хочет погадать Цыганка (Мария Жабчинская), тоже
как-то затягивающая по-русски «Powrуїyж, panoczku? Prawdu chce
tobi powiedzieж…» Тему присутствия цыганских или, скорее, русско-цыганских мотивов в польском и российском кинематографе оставим
за рамками данной статьи, но необходимо отметить, что эти фильмы
пользовались огромной популярностью — см. например, польскую
реакцию на фильм П. И. Чардынина «У камина» с Верой Холодной в
главной роли (напр., реклама фильма в кинотеатре «Рокосо» на ул. Новый Свет, 63 — см.: Kurier Polski. 1924. Nr. 91. S. 10).
Pawlikowska-Jasnorzewska M. Dancing. Karnet balowy. Warszawa, 1927.
�Русские цыганские романсы в «Заколдованном кабаке»... 397
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Хотя необходимо при этом обозначить, что в самом томе речь идет о
фокстротах, банджо, саксофоне, джаз-бэнде, блюзе, чарльстоне, танго,
а не о цыганских романсах.
Broniewski W. Pamiкci K. I. Gaіczyсskiego // Idem. Poezje zebrane / Оprac.
F. Lichodziejska. T. 3: 1946–1962. Pіock; Toruс, 1997. S. 113.
Zagуrski J. Prawdy i legendy // Wspomnienia o K. I. Gaіczyсskim. S. 225.
Zawodziсski K. W. Wesoіy dekadent а la russe // Idem. Wњrуd poetуw /
Oprac. W. Achremowiczowa. Krakуw, 1964. S. 403. Впервые опубликован
в: Wiadomoњci Literackie. 1938. Nr. 14 (753). S. 4.
Пер. А. Гелескула (Иностранная литература. 1999. № 9.)
Flukowski S. Konstanty, њwiat, muzy // Wspomnienia o K. I. Gaіczyсskim.
S. 109–110.
Gaіczyсska K. Srebrna Natalia. Warszawa 2006. S. 145.
Kuџma E. O intertekstualizmie miкdzyobiegowym. (Na przykіadzie «Koсca њwiata» K. I. Gaіczyсskiego) // Acta Universitatis Wratislaviensis. Folia
Litteraria. 1992. T. 2. S. 25–43.
Gaіczyсski K. I. Piкж donosуw (1934) // Idem. Dzieła w pięciu tomach /
Pod red. K Gałczyńskiej, B. Kowalskiej. Warszawa, 1979. T. 1. S. 281.
«Налей бокал», слова В. Овчаренко, Л. Дризо, музыка Л. Дризо в:
Тени Минувшего. Старинные романсы. Для голоса и гитары / Сост.
А. П. Павлинов, Т. П. Орлова. Санкт-Петербург, 2007. Привожу текст с
сайта http://a-pesni.org/ (Хотя есть и текст Р. Бернса «Так пусть не стоят наши кружки пустыми…», в котором эти две строфы включены в
текст).
Блок А. Собр. соч. в 8 т. М., 1962. Т. 3. С. 11. С. М. Салиньский вспоминает, как когда-то автор «Двух гитар» спонтанно прочитал этот стих в
собственном переводе, но тогда, к сожалению, никто не подумал, чтобы
его записать. См.: Saliсski S. M. Gwiazda // Wspomnienia o K. I. Gaіczyсskim. S. 87.
«Jak їydowska melodia w rosyjskim sercu emigranta saksofonisty» (Gaіczyсski K. I. Audycja dla inteligencji [1933] // Idem. Dzieіa w piкciu... S. 225).
«Гай-да, тройка! Снег пушистый…» Музыка и слова «короля романса»
рубежа XIX и XX вв. М. К. Штейнберга. Наиболее известен романс был
в исполнении Анастасии Вяльцевой. См.: Антология русского романса.
Серебряный век / Ред. В. Калугин. Москва, 2006. С. 615–616.
Зинзивер. 2010. № 2(18). Пер. А. Домашева. см.: [Электронный ресурс].
URL: http://magazines.russ.ru/zin/2010/2/ga12.html. Дата последнего обращения — 30.09.2013.
Пер. А. Гелескула.
Польским слушателям было известно, что песни о Волге были очень
популярны в России, а выражение «Волга-матушка» встречалось в них
�398 Анна Собеская
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
очень часто. См.: Антология русского романса. Серебряный век / Ред.
В. Калугин. Москва, 2007. С. 636.
«Аlarusse», «По столбовой дороге», «Бал у Соломона», «Сапоги Шимона» — пер. А. Гелескула.
Czechowicz J. Dwa aspekty // Idem. Wyobraџnia stwarzaj№ca. Szkice literackie / Wstкp, wyb. i oprac. T. Kіak. Lublin, 1972. S. 182.
Петровский М. «Езда в остров любви», или что есть русский романс //
Вопросы литературы. 1984. № 5. С. 83.
Czechowicz J. Op. cit. S. 183.
Puszkin A. Droga zimowa / Przeі. A. Waїyk // Idem. Wybуr wierszy / Opr.
B. Galster. Wrocіaw, 1982. S. 234.
«Едва меня узнали…», муз. А. Абазы, сл. Н. Северского // Очи черные.
Старинный русский романс. М., 2004. Цит. по: [Электронный ресурс].
URL: hhtp://a-pesni.org/romans/abaza/edvamenia.php.
Романс «Чудный месяц плывет над рекою…» был написан на стихи В. И. Немировича-Данченко «Ты любила его всей душою…»
(1882). Цит. по: Песни и романсы русских поэтов / Вступ., ред., прим.
В. Гусева. М.; Л., 1965 — [Электронный ресурс]. URL: http://lib.rus.
ec/b/368907/read; Романс № 700 см.: [Электронный ресурс]. URL: http://
az.lib.ru/n/neizwestnye/text_0250.shtml.
Ср.: Петровский М. Указ. соч. С. 72.
Miciсski B. Pochylmy siк nad wierszami Gaіczyсskiego // Prosto z Mostu.
1936. № 13. S. 4. См. Также мнение В. П. Шиманского в статье: Szymański W .P. K. I. Gałczyński. Wjazd na wielorybie // Liryka polska. Interpretacje / Red. J. Prokop, J. Sławiński, Kraków, 1966. S. 63–64.
См.: Wyka K. Pogranicza powieњci; Tragicznoњж, drwina, realiz. Krakуw,
1989.
�Людмила Софронова
(Москва)
Воображаемый
автопортрет
Яна Хризостома Пасека
Софронова Людмила Александровна — доктор филологических наук, Россия,
Москва, Институт славяноведения РАН
«Записки» Яна Хризостома Пасека —
это синтез различных жанров субъективной литературы. В них просматриваются
структура сборника смешанного типа (silva rerum), элементы путевого дневника,
воспоминаний, биографии. «Типология
жанров “человеческого документа” исключительно разнообразна — от автобиографических признаний до хроникальных
описаний общественно-политических событий той или иной эпохи»1. Автор декларировал биографичность своего текста: «я
пишу о своей жизни, а не об истории Речи
Посполитой»2; «Вот московские экспедиции; не пишу о них, потому что это не хроника, а только течение (dukt) моей жизни»
(S. 424). Но его центр он сместил в сторону истории и истории культуры, в чем нет
ничего неожиданного. Не предполагал он
найти свой круг читателей. «Записки» —
это факт рукописной литературы. Очевидно, что Пасек не отрицал возможной их
популярности среди той части общества, в
чьем культурном обиходе присутствовала
так называемая «бумажная» литература.
Общее свойство жанров субъективной литературы состоит в том, что пишущий обычно не становится главным
объектом повествования и не адресует
текст самому себе3. Иначе обстоит дело
в «Записках». Пасек не вышел за преде-
�400 Людмила Софронова
лы текста и не забыл о себе. Он появляется на их страницах как автор и как герой. В роли автора он занят налаживанием отношений с
читателями: призывает придерживаться предписанных правил поведения, следовать его примеру, прислушиваться к советам, рассеянным по тексту. Кроме того, он организует этот текст как единое
целое, обильно снабжая клишированными связками, что должно
было облегчить задачу читателя. Это не снимало фрагментарности
«Записок» — фрагментами прежде всего были рассказы. Пасек же
выступал в роли рассказчика, т. е. его авторские функции как бы
удваивались. Он был автором целостного повествования, а внутри
него — автором рассказов. Также он охотно пересказывал рассказы других. Стихия устного слова отличает его сочинение от других
эго-документов эпохи. Рассказывал Пасек о себе и о других, т. е. становился в ряд героев, которых выводил на страницах своего сочинения. Отделить рассказчика от героя, которым он себя представляет,
довольно трудно, он обычно не разрывает эти две свои ипостаси.
Также сложно верифицировать его развернутые сообщения, которые
то достигают уровня полноценного художественного произведения,
то остаются сухими реляциями о перемещении войск, людских потерях, о количестве добычи. В каждом случае они не обходятся без
упоминаний об авторе как участнике многих событий.
Отказавшись от составления подробной и последовательной биографии, Пасек говорит о себе то как бы случайно, то преднамеренно, всякий раз стараясь выставить себя в наилучшем свете. Не только
факты его жизни, протекавшей на поле боя или в хозяйственных заботах, но и его собственные представления о себе самом вычленяются
из текста. Пасек составляет свой автопортрет, который можно назвать
мозаичным, на двух уровнях — на событийном и на уровне индивидуального самосознания. Событийный уровень определяет сюжеты
историй, которые автор рассказывает. Они — условно говоря — служат подтверждением тезисов, сформулированных в слове. Это слово
публичных речей, диалогов, самопредставлений. Автор пишет о себе
как о части целого — народа, сословия, рода, а также войска. Частная
его жизнь, мир чувств рефлексии не подлежат. Его заботят проблемы
национальной, сословной, родовой идентичности, которые определяют концепт сарматского рыцаря. Они очевидным образом сплетаются
между собой и взаимодействуют.
Национальная самоидентификация проводится в опоре на оппозицию свой / чужой. Автор не раз повторяет, что он не в чужой земле
рожден и находится в одном ряду с заслуженными сынами отчизны.
Он — поляк и служит своей родине-матери, Речи Посполитой поль-
�Воображаемый автопортрет Яна Хризостома Пасека 401
ской, а не венгерской или немецкой. Он — ее сын, а не пасынок, и
никогда не бросит в трудную минуту. Высокое звание истинного сына
требует забыть о частных интересах, а также о личной выгоде: «Pro
patria (для родины) я всегда делал quantum potui (все, что мог); contra
patriam (против родины) никогда раньше и не теперь, потому спокойно
могу называться ее сыном, а не пасынком» (S. 279). Принадлежность
к польской нации определяет систему базовых ценностей и правила
поведения: «К татарскому роду я, видно, приехал, а не к тому народу,
который всегда политес соблюдает и старается для гостей свободные
оставлять квартиры (для постоя. — Л. С.)» (S. 367).
Значимость национальной принадлежности для автора «Записок» столь велика, что затмевает собой принадлежность конфессиональную, которая в эпоху сарматизма была доминирующим признаком польской идентичности. Так, противостояние с противниками
ведется в «Записках» не по вере, как можно было бы ожидать, а по
внешним признакам, как, например, с русскими. О православии Пасек
вспоминает лишь в связи с дорогим крестом; это его добыча на поле
боя. О турецкой вере речь также не идет. Только гданьские (но не датские) «лютеры» возмущают автора, так как желают победы туркам
под Веной. Все радовались военным успехам христиан, только не они,
просившие у Господа поражения католиков, чем, по словам Пасека,
страшно Господу надоедали.
Не меньшее значение для автохарактеристики Пасека имеет его
шляхетство. Конечно, он не какой-нибудь «привозной» шляхтич, в
его жилах течет польская кровь. Он — поляк по рождению, а по происхождению равен другим панам-братьям, что повторяет при всяком
удобном случае: «Что я раньше говорил, и теперь скажу <…> что я
здесь каждому равен происхождением своим» (S. 274). Мотив равенства — ключевой в комплексе значений сарматизма. Он определяет
распространенное обращение — пан-брат — и наименование офицера
товарищем. Пасек раскрывал их внутренний смысл в декларативных
выступлениях не только перед сенаторами, но перед простыми служаками. Для него понятия чести и шляхетства связаны неразрывно.
Например, он так мотивирует требование вернуть награбленное: «“А
Вам-то что?” — Отвечаю: “То, что и я шляхтич”. <…> Не полагается
(Bo to nie moda) в своей отчизне дворы шляхетские грабить, особо
если стоишь на постое» (S. 317, 319). Так шляхетская этика противопоставляется смутным представлениям о чести казаков, находящихся на
службе то у русских, то у поляков. Ведь честь — понятие врожденное:
если его нет, ничто не удержит человека от дурных поступков. Если
есть, он никогда не нарушит пароль, данный Господу.
�402 Людмила Софронова
Как положено настоящему шляхтичу, Пасек осознает значимость
рода, о которой пространно пишет в стихах о гербе Фр. Ланцкоронского. «Запечатленной историей Рода являются герб, галереи портретов
предков, дневники, silva rerum»4. Про свой род он упоминает редко, но
все же утверждает, что все его представители, чье шляхетство не подлежит сомнению, в случае чего всегда подтвердят его невиновность. Пасек предпочитает говорить о семье, внутри которой каждый шляхтич
чувствовал себя полностью защищенным. Он не забывает сообщить,
как родители благословляют его на войну, полагаясь на волю Божию,
всячески помогают материально, например, в таком важном деле, как
покупка коней. Не раз в «Записках» называются многочисленные дядья
и братья автора по женской и по мужской линии. Без них он не принимает жизненно важных решений. Не менее важны отношения с соседями, которых он мирит, судит и которым помогает улаживать дела самой различной сложности. Все это отнимает у него много времени, но
Пасек помогает всем и, конечно, своим друзьям. Друзья окружали его
наравне с родственниками. Например, как только он появлялся дома,
тут же приезжали «родственники, соседи и добрые друзья» (S. 363).
Друзья занимают важное место в жизни Пасека. Дружба ко многому обязывает, она связывает между собой благородных людей: «Я
знаю, что дружба многих мне может пригодиться, как и моя им» (S.
285). Так в Польше было всегда, но все же постепенно дружеские отношения утрачивали свою значимость: «Еще лет пятнадцать тому назад могли мы насчитать несколько десятков сенаторов, которые жили
между собой в искренней дружбе и любви и сообща выступали и на
защиту отчизны нашей, и чести своей. <…> Теперь и двух в сенате
не сыщем, которые бы между собой приятельские чувства сохраняли,
а среди шляхты и вовсе такие перевелись», — писал Ш. Старовольский5. Пасек же знал цену дружбе и никогда не бросал в беде своих товарищей. Однажды даже переболел тифом, заразившись от больного
друга, которого взял к себе на квартиру.
Воин и шляхтич — неразрывно связанные характеристики Пасека: «Utraque civis, bom i szlachcic, bom i żołnierz (я двоякий гражданин, я и шляхтич, я и солдат)» (S. 274). Он радуется, когда слышит
справедливые слова о себе как о бедном добродетельном шляхтиче и
солдате, который не изменяет своему слову и верно служит. Гордится принадлежностью к войску: «Я солдат на службе Речи Посполитой, состою в реестровых войсках, и не пристало мне перед Вами, пан
полковник, отчитываться, кто я такой и куда я иду» (S. 318). Хоругвь
(отряд) для него — родная мать: «…никогда не видели меня позади
шеренг, а всегда там, где требуется, с хоругвью, матерью моей» (S.
�Воображаемый автопортрет Яна Хризостома Пасека 403
260). Он сам — один из шестидесяти тысяч солдат, которые, невзирая
на жестокие холода и не помышляя о выгоде, бросаются в сражения.
Пасек никогда не покидал войско, даже в самые трудные времена, когда солдаты редко ели и часто сражались. Ничто не могло его заставить уйти со службы, чтобы сладко пить и жирно есть. Очевидно, что
противопоставляются здесь не война и еда, а война и мирная жизнь,
подразумевающая гастрономическое изобилие. Точно так же соотносятся язык войны и мирной жизни. Настоящему воину, оказавшемуся
заграницей, не нужно знать такие слова, как Pierla italiano; cлышит он
только окрики стражи: Werdo.
Свидетели славы Пасека — его шрамы (cicatrices) и соратники
(commilitony). Он не щадит живота своего, отзываясь на грозные звуки марсовых труб, а не изящного менуэта. Он всегда там, где льется кровь, а не сладкие ликеры, и непременно разделяет с товарищами счастье побед и горечь поражений. Как только наш автор взял в
руки оружие, то уже не помышлял ни о каких выгодах, хотя он, как и
другие, имел большие заслуги перед родиной и мог рассчитывать на
достойное вознаграждение. Он никогда не записывался в чьи-нибудь
любимцы и храбро сражался вместе со всеми: «Если должно умереть,
умрем, лишь бы достойно, и не может быть лучшей смерти, чем та, которой погибает человек за свои добродетели и любовь к родине. <…>
Кто на войне служит, тот смерть презирает, он ее ищет, а не она его.
Искал я смерти, еще в молодости, за Днепром и Одрой, за Эльбой и
около океана, у Балтийского моря» (S. 276). Истинные воины не страшатся смерти и презирают ее: «Им не жаль погибать, так как не знают
они иных радостей»6. В переводе на простой и жесткий язык войны
эти метафорические построения означают примерно следующее: наш
автор попадал под обстрелы, с саблей бросался на врага, от грома пушечных канонад терял слух, всегда выполнял приказы командиров и
вел солдат в бой.
Как всякий шляхтич, Пасек не только сражался: «За мной сеймики, за мной трибуналы, за мной круг генеральный…» (S. 274). С
удовольствием он писал о том, какую решающую роль играл в выборах короля Михала Корыбута Вишневецкого: «Сразу я вышел из
ряда, подскочил к сандомежанам; и все за мной ринулись; пришлось
двинуться и хорунжим со знаменами. Тут и ввели мы его (Михала Корыбута Вишневецкого. — Л. С.) счастливо в круг» (S. 477). Не боялся
он вступать в споры с сенаторами и противоречить им. Одному из них
напомнил, что в свое время тот тоже был товарищем, т. е. офицером,
как и сам Пасек, и только потом занял кресло сенатора. Так что он зря
так гордится своим положением.
�404 Людмила Софронова
Автор не обходится только прямыми характеристиками. Присутствуют в «Записках» косвенные высказывания о нем, всегда лестные.
Обычно они принадлежат сильным мира сего. Сам король Ян Казимир, к которому он вхож даже в частные покои, говорит и пишет о Пасеке как о человеке благородном, справедливом, ему верном, опытном
в военных делах, проявившем мужество во многих сражениях. Гетман
Чарнецкий усиленно его хвалит, например, называет знатоком натуры
человеческой, а не только храбрым воином, который на полях войны
расписывается не черными чернилами, а собственной кровью. Киевский епископ Томаш Уейский в своей речи называет Пасека человеком
воспитанным, образованным, скромным, с хорошими манерами. Дворянин королевский, пан Станиславский, готов замолвить о нем слово
при дворе. В общем, всем известно, что он добродетельный шляхтич
и добрый солдат.
Набрасывает автор и свой психологический портрет, конечно, неполный. Как уже было сказано, свой эмоциональный мир он не делает
объектом повествования, но все же выделяет одну его черту. Она определяет модальность его отношения к миру и является отнюдь не только свойством натуры. На страницах «Записок» Пасек предстает тем
самым веселым поляком, о котором писали русские этнографы XIX в.
Веселость, легкий нрав они считали «нравственным» качеством поляков, доминантной чертой их темперамента, во многом определившей польский национальный стереотип7. «“Поляки — народ веселый,
общежительный и гостеприимный”, — говорится об отличительных
особенностях западнославянского племени Российской Империи»8.
Пасек распространяет понятие веселости и употребляет определение веселый в самых неожиданных, с современной точки зрения,
контекстах. Оно относится не только к человеку. Веселый, веселье
оказываются синонимичными счастью, удаче: «Воевода весело ехал,
потому что почти необыкновенно было, как взял он такую крепость
без пушек и пехоты» (S. 125); это для всех «была веселая победа, потому что после всех несчастий она принесла отчизне первое счастье»
(S. 215), «Состоялась эта счастливая победа 12 сентября и развеселила
весь христианский мир, развеселился император, уже отчаявшийся и
только на Бога уповавший, развеселился народ немецкий, особенно
жители Вены» (S. 539).
Отметим, что в «Записках» не раз встречается слово fantazyja. Говорится о фантазии польских рыцарей прошлых времен: «…должен в
нас весь мир видеть бессмертную славу и фантазию наших предков»
(S. 115). Из контекста следует, что под фантазией подразумевается
храбрость и мужество воинов прошлого. Обладает фантазией лю-
�Воображаемый автопортрет Яна Хризостома Пасека 405
бимый полководец Пасека Чарнецкий: «была у него (Чарнецкого. —
Л. С.) такая фантазия, чтобы никому не кланяться и чтобы вся слава
ему доставалась» (S. 125). Очевидно, что здесь фантазия по смыслу
близка такому понятию, как нрав. И гордость, и любовь к славе, характерные для воеводы, входят в комплекс ее значений.
Сам Пасек также наделен фантазией: «Ни угрозы, ни просьбы не
смогут преодолеть мою фантазию» (S. 293). И воинская честь, и верность, и бесстрашие заключены в этом слове. В других случаях круг
значений фантазии сужается: «И ну давай пить назло этим гордым
людям; такая фантазия со мной вместе уродилась, чтобы все наперекор делать («durum contra durum»), хотя <…> и себе во вред» (347348). Конечно, автор имеет в виду упрямство. За гораздо более широко понятую фантазию Пасека пьют недавние союзники-противники,
офицеры войска гетмана Сапеги. За фантазию хвалит его сам король
Ян Казимир. Ведь только благодаря этой своей черте он всегда безупречно вел себя при любых обстоятельствах и был способен постоять
за королевскую честь. Слово это означает и храбрость, и отвагу, и мужество, и буйство, и веселость нрава.
В «Словаре польского языка» приводятся следующие его значения: «wesołość, humor, werwa, ochota, rezon, animusz, odwaga»9. В
примечаниях к тексту «Записок» фантазия определяется как отвага.
Именно в таком смысле употребляет это слово маршалек Жеромский,
когда говорит о Пасеке и сопровождающих как о людях «z dobrą fantazyją» (S. 349). То же значение сохраняется за фантазией и в речи
Пасека о двух храбрых рыцарях, умерших в один день: «и были они
одной фантазии» (S. 181). Хотя здесь, возможно, присутствует и понятие нрава. Также фантазия означает характер человека. У врагов
тоже есть своя фантазия: «…как мы на него (на Долгорукого. — Л. С.)
начали наступать, сразу улетучилась его фантазия» (S. 220). Трусы
обладают этим свойством, имеющим неуловимые значения: есть такие люди, которые, «не посчитавшись со своей фантазией, вступают
в войско, а лучше им было бы дома кур на яйца сажать и от цыплят
соколов отгонять» (S. 197). Очевидно, что это фантазия совсем другого рода, она похожа на ничем не объяснимый задор или излишнюю
уверенность в своих силах.
Фантазия совершенно разных личностей всегда дополняется
особой модальностью: никто из них не унывает и уверен в своих будущих победах, хотя некоторым из них фантазия ничем в жизни так и
не помогла. Таким образом, значения веселости как особого способа
восприятия мира существенно дополняет спектр значений фантазии.
Он может расширяться и дополняться рядом смысловых коннотаций.
�406 Людмила Софронова
Конечно, как веселый поляк, наш автор умел радоваться жизни и, кроме того, хвалил за такое умение соотечественников. В любую минуту он был готов пуститься в пляс или схватиться за оружие, забыть обо всем и слушать речи своих товарищей о недавних
победах. Не нравилось ему, как благонравные датчане справляют
масленицу; у поляков это «веселые» дни: «Проведя дни Бахуса в
славной компании, с добрыми соседями <…>, двинулся я к хоругви,
хотя ехать не очень хотелось» (S. 174). На другой год снова славно
веселились, ездили на кулиги на русских санях и у себя гостей принимали. Таких кратких замечаний в «Записках» много, как и подробных описаний визитов к соседям, которые — по обычаям того
времени — растягивались на несколько недель. Знал Пасек толк в
медах и винах и всегда поровну делил содержимое фляжек со своими соратниками. Пьянство называл настоящей польской модой. По
этой моде, радуясь встречам с друзьями, он обязательно напивался,
чего никогда не делал в одиночестве: «… несколько дней тому назад побывав в лагере и хорошо попрощавшись с доброй компанией,
поехал домой» (S. 266). Он легко расставался с деньгами и старался
их не считать. Никогда не предавался унынию и всегда был готов
веселиться, несмотря на то, что счастье не раз обходило его стороной. Так бывало на военном поприще, и не только. Не всегда Пасек
был удачлив в торговле и в хозяйстве, не продвинулся он в общественной жизни. Все это не мешало ему считать себя человеком
удачливым, в том числе и потому, что жизнь сводила его с представителями богатых и знатных родов, с людьми выдающимися, с
королями и гетманами.
Свой нрав, от которого, по его мнению, зависит течение его
жизни, он — по существовавшим тогда традициям — представлял в
терминах фортуны, которая подчинялась Господу. В ее необыкновенности он был уверен: «Была у меня фортуна такая хваткая, такая горячая, что люди вокруг удивлялись, но ведь, как бы я ни решил, хуже
или лучше, всего того Бог хотел» (S. 452–453). Он твердо знал, что
человек никогда не должен отчаиваться, когда фортуна хмурится, а не
улыбается ему, «так как и человеком, и фортуной распоряжается Бог:
введет в уныние, когда захочет, утешит, когда на то будет его святая
воля» (S. 309). Перемен фортуны он не страшился, так как ему было
известно, что несчастье, как тень, ходит за счастьем: «…большое счастье обычно тащит за собой великие несчастья, но после них Бог взирает на человека ласковым оком» (S. 306). Не сомневался наш автор в
том, что Господь, на которого он всегда полагался, его защитит: «Не
думаю я, что должен бояться несчастья, которое меня вчера миновало;
�Воображаемый автопортрет Яна Хризостома Пасека 407
тот, кто меня вчера спас, тот и завтра меня сохранит» (S. 140). Кто же
еще мог ему помочь и в сражении, и на дуэли: «Был я в тот день под
защитой Господа, спас он меня от поражения, когда сражался с тремя
кавалерами» (S. 195). Вышние силы всегда брали власть над одной из
популярных аллегорий эпохи барокко.
Таким образом, хотя Пасек и скрывался за живописными «картинками» сражений и пиров, хотя «линия» его жизни осталась не четко прочерченной, его автопортрет явно присутствует в «Записках».
Очевидно, что он не совсем соответствует реальности, что «художник» что-то себе приписывал и о чем-то умалчивал. Всякий автопортрет условен, в нем, например, легко вычитывается завышенная или
заниженная самооценка портретируемого; последнее явно Пасеку не
свойственно. Он пишет о себе таким образом, что перед нами предстает портрет «вторичного» автора10, который пока только собирается в
«Записках», находящихся на пути от субъективной литературы к подлинно художественной. Но и здесь уже «Образ автора способен распадаться, так как автор, создающий текст, отличается от образа автора,
присутствующего в тексте»11.
Рассматривая этот автопортрет, можно понять, каким хотел видеть себя Пасек, который не раз проговаривался о себе самом, когда погружался в реалии быта. В «Записках» явно просматриваются
его индивидуальные черты, но не они доминируют в автопортрете.
Свою индивидуальность он проявляет в слове. Пасек написал портрет усредненный, в котором личность автора сливается с идеальным портретом сармата, им самим также написанным, что возвышает его среди прочих персонажей «Записок», а также указывает на
то, что его «Я» еще не оторвалось от «Мы»12. Одновременно, благодаря этому слиянию, его «особые приметы» становятся трудно
различимыми. Таким образом, в прозе Пасека наблюдается ситуация, аналогичная той, которую описала Л. И. Тананаева, анализируя
польский портрет XVII в.13 Но эти приметы разглядели романтики,
среди которых был сам Мицкевич. Они увидели в Пасеке конкретное воплощение вольного польского духа, сарматской свободы и
рыцарских добродетелей. Увидели они его в повседневном быту,
который принялись поэтизировать. Литературные герои, особенно
писателей следующих поколений, обратившихся к польской истории
XVII в., вообще стали похожими на нашего автора-героя: «Можно
смело утверждать, что если бы «Записки» не сохранились, то трилогия (Сенкевича. — Л. С.) не состоялась бы в той форме, которую она
имеет, а Кмичиц и Заглоба не стали бы столь яркими и полнокровными персонажами»14.
�408 Людмила Софронова
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Хорев В. А. Автопортрет Ежи Анджеевского в дневнике «Изо дня в
день. Литературный дневник 1972–1979» // Текст славянской культуры.
К юбилею Людмилы Александровны Софроновой. М., 2011. С. 180.
Pasek J. Ch. Pamiętniki. Warszawa, 2009. S. 232. Далее сноски на это издание даются в тексте, в круглых скобках указываются только страницы.
Михеев М. Дневник как эго-текст (Россия. XIX–XX). М., 2007. С. 5.
Лескинен М. В. Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М, 2002. С. 59.
Цит. по: Лескинен М. В. Мифы и образы сарматизма. С. 84.
Chmielewski B. Nowe Ateny [Электронный ресурс]. URL: http://literat.
ug.edu.pl./ateny/index.htm.
Лескинен М. В. Поляки и финны в российской науке второй половины
XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности. М., 2010. С. 195–202.
Там же. С. 195.
Słownik języka polskiego. / Red. W. Doroszewski. Warszawa, 1960. T. 2. S.
812.
Бахтин М. М. Из записей 1971–1972 годов // Он же. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 353.
Софронова Л. А. О проблемах идентичности // Культура сквозь призму
идентичности. М., 2006. С. 19.
Вдовин Г. В. Персона — Индивидуальность — Личность. Опыт самосознания в искусстве русского портрета XVIII в. М., 2005. С. 27.
Тананаева Л. И. Сарматский портрет. Из истории польского портрета
эпохи барокко. М., 1979.
Tazbir J. Pasek jako kronikarz XVII wieku // Pasek J. Ch. Pamiętniki. S. 30.
�Надежда Старикова
(Москва)
Из истории
словенской полонистики:
Тоне Претнар*
Автор моей книги –
польский язык.
Тоне Претнар
Старикова Надежда Николаевна — доктор филологических наук, Россия,
Москва, Институт славяноведения РАН
В 2012 г. не стало выдающегося российского полониста Виктора Александровича Хорева. В этом же году исполнилось
20 лет, как ушел из жизни талантливый
словенский переводчик и стиховед Тоне
Претнар. Принадлежащие к разным поколениям, граждане разных государств,
они не были знакомы при жизни, вряд ли
знали труды друг друга, но при этом были
объединены одним чувством — любовью
к польской литературе, одним стремлением — обогатить своим знанием родную
культуру.
Словенско-польские культурные связи имеют давнюю историю, восходящую к
началу XIX в. Научные контакты упрочились в ХХ в., чему в немалой степени способствовало открытие в Любляне первого
национального университета (1919), где на
философском факультете начали успешно развиваться славистические дисциплины. Польский язык как специальность
появился здесь в 1947 г., в 2003 г. на отделении славистики была открыта кафедра
* Автор выражает благодарность заведующей
библиотекой отделений словенистики и славистики философского факультета Люблянского
университета г-же А. Золлнер-Пердих за предоставленные библиографические материалы.
�410 Надежда Старикова
польского языка и литературы, возглавляемая профессором Н. Ежем.
Одним из ключевых ее направлений является подготовка высококвалифицированных переводчиков, потребность в которых за последние
годы возросла. У истоков формирования словенской университетской
полонистической школы перевода стоял выдающийся филолог Тоне
Претнар (1945–1992). Со студенческих лет судьба связала его с Польшей — несколько раз он проходил стажировку в Варшаве, в качестве
лектора словенского языка преподавал в университетах Кракова и
Катовиц, в соавторстве с Э. Токажем выпустил практическое пособие
«Словенский язык для поляков» (1980), востребованное до сих пор, был
соавтором словенско-польского словаря (1986), в 1988 г. защитил в Институте литературных исследований ПАН докторскую диссертацию на
тему «А. Мицкевич и Ф. Прешерн». Занимаясь со студентами Любляны, Граца, Дубровника, Триеста, Осиека, Целовца, Кракова теорией и
практикой перевода, Претнар много и плодотворно переводил сам, был
членом жюри международного литературного фестиваля «Виленица»
(Словения). За переводы с польского он был в 1991 г. удостоен премии
имени Антона Совре — высшей национальной переводческой награды.
На практике осуществляя словенско-польские культурные связи, Претнар стремился не только продвигать польскую литературу на родине,
но и приблизить словенские художественные достижения польской
аудитории — переводил современных словенских поэтов на польский
язык. В память о Тоне Претнаре в 2004 г. в Словении была учреждена
международная премия его имени, которую присуждают за вклад в популяризацию словенской литературы и языка в мире. Сегодня словенские переводчики хранят и развивают традиции, начатые Претнаром.
Об их отношении к Мастеру говорят изданные после его смерти книги
переводов и научные труды, в подготовке которых принимали участие
Н. Еж, М. Хладник, Х. Добровольц, С. Козаров, В. Дорник, В. Жерьял,
И. Стропник, А. Белчевич, П. Драгар, М. Селишкар, З. Претнар, М. Павичич. «Тому, кто имел счастье знать Тоне Претнара лично, — пишет
М. Селишкар, — не нужно слов, чтобы его вспомнить. Он остался с
каждым из нас навсегда… Взрослых и детей, одноклассников и преподавателей, словенцев и поляков — всех, кого он хоть раз встречал, с кем
общался, он одаривал своей особой, неповторимой душевной теплотой.
Доверчивостью, добрым словом, остроумной шуткой к месту…»1.
По свидетельству сестры Тоне Звонки, интерес и уважение к печатному слову проявились у брата довольно рано: будучи завсегдатаем городской библиотеки, он еще в младших классах подрабатывал
доставкой книг в труднодоступные деревни близ родного Тржича. В
четвертом классе Тоне уже активно сотрудничал в школьном изда-
�Из истории словенской полонистики: Тоне Претнар 411
нии «Круги», пробовал писать стихи и переводить. Первые переводы Ш. Бодлера и А. Рембо, сделанные учеником выпускного класса
краньской гимназии Тоне Претнаром, были опубликованы в местной
газете «Снованья» в 1964 г. В этом же году юноша стал студентом
философского факультета Люблянского университета, выбрав славистику — словенский и русский языки, к которым вскоре присоединился и польский. Однокурсник Миха Мохор, имевший привычку
рисовать прямо на полях конспектов, вспоминает, как сосед тянул к
себе тетрадь и делал под рисунками смешные подписи в стихах. Некоторые из них сохранились до сих пор. «Из такой вот игры постепенно вырастала страсть Тоне к сочинению стихов “на случай”, которые
сам он потом назвал “графоманиями”»2. Это легкое рифмоплетство
отточенной формы, обращенное к реальным событиям или посвященное реальным персонажам (тогда с акростихом) стало, с одной стороны, уникальным свидетельством времени, той атмосферы, в которой
жила словенская университетская интеллигенция в 1980–90-е гг., с
другой же, поддерживало тонус и тренировало форму Претнара-переводчика, давало ему необходимую психологическую разгрузку перед
погружением в Большую Поэзию:
Графомана слышен лепет:
Страстью рифмы обуян,
По заказу вирши лепит
Тоне Претнар, графоман3.
Иронические, веселые, печальные, нежные, часто смелые по исполнению, имеющие острый подтекст «графомании» отредактировал
друг, коллега и адресат автора, профессор Люблянского университета
М. Хладник. Они вышли в трех выпусках — в 1982 г., 1983 г. и посмертно — в 1993 г.4 Благодаря комментариям редактора был сохранен
документальный контекст, без которого многие забавные, порой анекдотические повороты остались бы непонятными читателю.
Интерес к стиховедению, истории метрики, ритмике и строфике
поэзии ХХ в. проявился у Претнара на старших курсах, его первая
серьезная работа была посвящена одному из выдающихся словенских поэтов второй половины ХХ в. Г. Стрнише5, затем он занимался допрешерновским стихом6, по окончании университета — поэзией А. Градника7. По сути, в поле его зрения оказалось все генеалогическое древо словенского стиха, вся его эволюция, обусловленная
сменой художественных направлений. Отдельные статьи, заметки,
лекции и выступления Претнара по данной проблематике были впо-
�412 Надежда Старикова
следствии собраны и отредактированы профессором Люблянского
университета А. Белчевичем и вышли в отдельной книгой в 1997 г.8
Подготовленная друзьями книга «Прешерн и Мицкевич: о словенском
и польском романтическом стихе» (1998), в основу которой положен
текст докторской диссертации Претнара, открыла новую страницу
компаративных стиховедческих исследований в Словении9. Наконец,
его научные наблюдения и методологические предложения стали на
родине достоянием широкой научной аудитории.
После университета первым боевым крещением для молодого
слависта оказалась русская поэзия — будучи редактором фабричного
издания «Текстильщик» (г. Тржич), он, твердо убежденный в великой
силе поэтического Слова, перевел и напечатал в рабочей газете С. Есенина, М. Цветаеву, Б. Пастернака, В. Хлебникова. Потом этот ряд пополнили В. Ходасевич, Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам,
В. Набоков, Г. Айги, И. Бродский, Л. Лосев и др. (в общей сложности
около двадцати русских поэтов). Вообще лозунг «Искусство — в массы!» Претнар всю жизнь воспринимал как руководство к действию,
охотно отдавая свои переводы не только в крупные столичные литературные журналы или на Люблянское радио, но и в маленькие провинциальные издания. После его смерти по большей части именно из этой
мозаики Н. Еж и И. Светина собрали книгу переводов «Ветер давних
роз. Антология поэтических переводов 1964–1993» (1993)10, куда вошло около пятисот стихотворений 145 авторов.
Полугодовая стипендия ЮНЕСКО, полученная в начале 1970-х гг.,
дала Претнару возможность стажироваться в Варшаве, что окончательно определило вектор его профессиональных и художественных интересов: главным делом его жизни стала польская поэзия. Благодаря переводам Претнара словенские читатели познакомились с творчеством
поэтов практически всех эпох: от Миколая Рея (1505–1569) до Бронислава Мая (р. 1953). А. Мицкевич, Ю. Словацкий, З. Красиньский, Ц. Норвид, С. Выспяньский, Ю. Тувим, Ч. Милош, К. Войтыла, Т. Ружевич,
З. Херберт, С. Мрожек, В. Шимборская — в вышеупомянутую антологию переводов вошло семьдесят четыре польских имени. Большая
заслуга Претнара-переводчика состояла также в том, что достоянием
словенской культуры становились и самые последние завоевания польской поэзии: одним из первых он привлек внимание соотечественников
к поэтам «новой волны» — А. Загаевскому, Э. Липской, С. Бараньчаку.
Особое отношение было у Претнара к З. Херберту, чьи стихи знаменуют начало и финал его «польской летописи»: в 1972 г. была опубликована первая претнаровская подборка Херберта, в 1998 г. именно его
перевод вошел в получившее европейскую известность издание «Песнь
�Из истории словенской полонистики: Тоне Претнар 413
Орфея. Антология мировой поэзии в подборке словенских поэтов», составленное действующими национальными авторами. Претнар вместе
с Ежем принимал участие в подготовке книги лирики Херберта «Белый
рай всех возможностей» (1992), был также составителем, переводчиком
и автором предисловия сборника Норвида (1985), одним из переводчиков и редактором книги Милоша (1987), участвовал в работе над антологией «Тревога. Польская поэзия 1939–1945» (1992). Много говорит о
душевной щедрости Претнара его готовность работать в коллективе,
делиться с коллегами своими решениями и находками — над некоторыми изданиями он работал вместе с такими крупными словенскими
поэтами, как Л. Кракар и Борис А. Новак.
Кроме представителей польской и русской лиры, Претнара вдохновляли и другие славянские авторы, видное место среди них занимают Я. Сейферт, Я. Скацел, В. Парун, Л. Палетак. Последним его
увлечением стала после поездки в Вильнюс в 1990 г. литовская поэзия.
1992 г. обещал быть удачным. Вышли две книги (Херберт и «Тревога»), были поездки в Словакию и Италию, блестящие лекции на XXVIII семинаре словенского языка, литературы и культуры в Любляне. В
октябре снова Польша — начались занятия со студентами из Катовиц.
В середине ноября, договариваясь с ними о встрече, Претнар вдруг сказал: «Давайте не будем назначать точное время. Кто знает, что случится
в понедельник…» В понедельник, 16 ноября, на железнодорожной станции Сосновец у Претнара остановилось сердце. Ему было 47 лет. Последние переводы брата подготовила к печати Звонка — книга «Тихо
говорю тебе: дневник переводчика» вышла в 1993 г.11
Переводчик, поэт, преподаватель, Тоне Претнар сочетал в себе одаренность и трудолюбие, эрудицию и стремление к эстетической свободе, одержимость творца и знание ученого. Любил переводить стихи по
памяти — любимые подлинники помнил наизусть. И при этом был убежден, что работа «почтовых лошадей просвещения» — всегда движение, всегда поиск, всегда «стимул искать новый опыт и новые формы»12.
Своей переводческой практикой он обогатил выразительные возможности современного словенского литературного языка, достигнув гармонии между воссоздаваемым оригиналом и динамикой живой речи.
П ри м е ч а н и я
1
2
Seliškar M. Kdor je imel srečo // Verzi Toneta Pretnarja (1945–1992). Ob
šestdeseti Obletnici Rojstva / Izbr. in ured. Mojca Seliškar. Celje,2005. S. 5.
Ibid. S. 158.
�414 Надежда Старикова
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ibid. S. 10–11.
См.: Antona Pretnarja zbranih grafomanij 1. snоpič / Ured. Miran Hladnik.
Tžič, 1982; Antona Pretnarja zbranih grafomanij 2. zvezdič / Ured. M. Hladnik. Ljubljana, 1983; Stkal sem ga iz štirih norih rim. Antona Pretnarja
zbranih grafomanij 3. zvezek / Ured. M. Hladnik. Ljubljana, 1993.
Pretnar T. Gregor Strniša: Samorog: poskus interpretacije // A-diplomska
naloga iz slovenske književnosti. Ljubljana, okt. 1970. – 221, XXIII f.
Pretnar T. Iz zgodovine slovenskega verznega oblikovanja do Prešerna. Magisterska naloga. Ljubljana, 1980.
Gradnik A. Zbranodelo / Priprav. in opombe napisala Miran Hladnik in Tone
Pretnar. Ljubljana, 1984. 1986. Knj. 1–2.
Pretnar T. Iz zgodovine slovenskega verznega oblikovanja / Izbr., zatisl priprav. in spremno besedo napisal Aleš Bjelčevič. Ljubljana, 1997.
См.: Pretnar T. Prešeren in Mickiewicz: o slovenskom in poljskem verzu /
Prev. Niko Jež in Mladen Pavičič. Ljubljana, 1998.
Pretnar T. Veter davnih vrtnic. Antologija pesni ških prevodov 1964–1993.
Ljubljana, 1993.
Pretnar T. Tiho ti govorim: prevajalski dnevnik / Ured. Zvonka Pretnar. Ctlovec, 1993.
Цит. по: Seliškar M. Op. cit. S. 9.
�Тадеуш Сухарский
(Слупск)
О первой польской попытке
понять советский мир,
или Размышления о книге
Станислава Мацкевича
«Мысль в тисках»
Сухарский Тадеуш / Suchar
ski Tadeusz — Dr. hab., профессор, Польша, Слупск,
Поморская Академия
Со времени появления книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли
мир» и практически на протяжении всего
межвоенного периода — между Первой
и Второй мировыми войнами — новая,
большевистская Россия была чрезвычайно
популярна и, как правило, — за некоторыми исключениями — западная литература
питала к ней соответствующую симпатию.
В многочисленных книгах и репортажах,
появившихся в результате поездок писателей, журналистов, «fellow-travellers»,
которых насмешники язвительно называли «полезными идиотами», создавался, а
часто и подтверждался образ «потемкинской» действительности, сформированный
советской пропагандой. В первое межвоенное десятилетие поляки принципиально не
участвовали в европейском «паломничестве» на «родину пролетариата». Тогдашние путешествия поляков имели совершенно иной характер и другое направление.
Чаще всего это было полное драматизма
бегство в западном направлении с тех территорий, где веками проживали многочисленные поколения их предков. Однако это
не означает, что в общеевропейском советском хоре вообще отсутствовал голос поляков. Просто у него был совершенно иной
характер, он звучал изнутри этого мира и
был голосом свидетеля разрушения мно-
�416 Тадеуш Сухарский
говековой цивилизации, часто — голосом жертвы. Поэтому, согласно
оценке этих самых «fellow-travellers», он звучали фальшиво, был диссонансом. Этот польский голос раздавался, в основном, со страниц мемуаров писателей, которые жили в царской России, гибнущей в пожаре
революции, уничтожаемой гражданской войной. Эти книги составили
большой репортаж, отразивший конец света, — причем отнюдь не в
метафорическом смысле слова, — как правило, сквозь призму польских
судеб. В них скорее преобладал взгляд назад, в российское прошлое
(и в польское прошлое на этих землях), чем размышления о специфике и будущем большевистской России. Вследствие использования для
описания сумерек этого мира формы репортажа, в этих произведениях
отсутствуют глубокие размышления историософского характера, что
отнюдь не умаляет их значения. Поэтому здесь стоит упомянуть названия некоторых книг и их авторов. Свои воспоминания оставили помещики, изгнанные из собственных имений (М. Дунин-Козицка — «Буря
с Востока. Воспоминания о Киевщине»; З. Коссак-Щуцка — «Зарево»);
писали поляки, прочно укорененные в российской жизни (Ф. Оссендовский — «Тень мрачного Востока», «По стране людей, зверей и богов»;
Э. Малачевский «Конь на холме»); писали польские военнопленные из
австро-венгерской армии, интернированные в России (Я. Парандовский — «Большевизм и большевики в России», книга вышла почти одновременно с произведением Дж. Рида; Р. Дыбовский — «Семь лет в
России и в Сибири»; Ф. Гётель — «Через пылающий Восток»); наконец,
писали беженцы из Галиции (Е. Бандровский — цикл квази-романов:
«Пилигримы», «Красная ракета», «Бешеные псы»). Серьезное рассмотрение русско-советской проблематики в польской литературе обрывается в середине 20-х гг. В течение длившегося несколько лет перерыва,
удивительного для польской словесности, традиционно «переполненной» темой России, появлялись второстепенные исторические произведения, выполнявшие компенсаторную функцию и нейтрализовавшие
польские комплексы по отношению к восточному соседу. Российская
проблематика, вытесненная на периферию художественной литературы, выйдет на первый план в сфере публицистики и репортажа только в
30-е гг. ХХ в. Начало этому мощным аккордом положит книга Станислава Мацкевича «Мысль в тисках. Исследование психологии советского общества», изданная в 1931 г. За ней последуют другие, появление
которых стало возможным благодаря нормализации отношений между
II Речью Посполитой и СССР, увенчанное подписанием в июле 1932 г.
пакта о ненападении.
Договор этот, несомненно, имел фундаментальное, хотя и кратковременное — ибо действовал всего семь лет — политическое значе-
�О первой польской попытке понять советский мир или... 417
ние, поскольку, наряду с двусторонней декларацией об отказе от «войны как инструмента национальной политики» в отношениях между
двумя странами, способствовал существенному «сближению»1 между
обоими государствами, которые с момента подписания в Риге в марте
1921 г. договора об окончании войны, de facto продолжали оставаться
в состоянии если не войны, то, по крайней мере, дипломатической неприязни. Этот договор принес, что в данном случае особенно важно,
плоды в виде обмена визитами между представителями прессы, а также
способствовал «попыткам, поддерживаемым правительствами, установить более тесные контакты между литературными и художественными кругами обеих стран»2. Таким образом, поляки присоединились к
европейским путешествиям на «родину пролетариата», к процессу ее
познавания в Европе. В то время СССР посетили, а затем опубликовали
впечатления о своих поездках несколько известных писателей (Антони
Слонимский, Мельхиор Ванькович, Зыгмунт Новаковский), журналистов и публицистов (Мечислав Лепецкий, Александер Янта-Полчиньский, Тадеуш Блешиньский). Подобные визиты вежливости — ибо, как
писал Слонимски, ничего более не допускали «микробы из ГПУ»3 —
давали весьма слабую возможность узнать на деле, государство ли это
«красного террора» или «живого социализма, о котором ведь каждый
из нас мечтал с детства»4. Но несмотря ни на что, у них была надежда,
что именно Польша, как писал Александер Янта, станет той страной,
которая первой сможет верно разгадать «ребус серпа и молота» и тем
самым докажет «свою современность»5. Ему вторил Тадеуш Блешиньский, доказывавший, что поскольку «поляк знает Россию довоенную,
военную, революционную и нынешнюю Россию “пятилеток”, то, обладая знанием русской культуры и языка, он ориентируется в ситуации
лучше других иностранцев»6. Впрочем, он не добавил, что эта польская
«ориентированность», убежденность в «лучшем» или более полном
знании поляками России, часто выражавшемся в проявлении атавистической русофобии, препятствовала познанию специфики новой системы. Часто она приводила к поискам аналогий между «белым» и «красным царизмом» в духе Яна Кухажевского7.
Первопроходцем в польских «экскурсиях», в польских попытках
разгадать советский «ребус» был Станислав Мацкевич, который оказался в Советском Союзе в марте 1931 г. после двухлетних упорных и
решительных усилий получить визу. Эту поездку ему, несомненно, облегчили польско-советские переговоры, ставшие подготовительным
этапом к подписанию договора. Ведь его первая попытка получить
разрешение на въезд, предпринятая в 1929 г., окончилась неудачей,
хотя несколько польских журналистов получили в то время въездную
�418 Тадеуш Сухарский
визу8. Таким образом, Мацкевич побывал в СССР раньше, чем большинство писателей, и раньше них поделился своими впечатлениями о
поездке, публиковавшимися на страницах виленского «Слова», редактором которого он был. Кем же был их автор?
Каждый литературовед, исследующий тему России в польской
литературе ХХ в., несомненно, должен принять во внимание творчество братьев Мацкевичей — Станислава и Юзефа. Безусловно, более
значительным из них был младший, Юзеф (1902–1986), которого Чеслав Милош назвал «наиболее русским среди польских писателей»9.
Его перу принадлежат очень важные романы «Дорога в никуда», «Не
надо громко говорить», «Контра», «Дело полковника Мясоедова» и
«Левой, марш!», посвященный польско-большевистской войне. Именно этот писатель, занимающий совершенно исключительное место
среди польских авторов, видел в дореволюционной России мир, в котором хочется жить, рассматривал царскую Россию как пространство
свободы. Но к глубоким размышлениям о различиях между царской
и советской Россией, о психологии «советского общества» первым
обратился уже Станислав Мацкевич (1896–1966), писавший под псевдонимом Кэт, то есть кот, который гуляет сам по себе и никогда не
известно где, из рассказа Редьярда Киплинга10. Есть даже все основания полагать, что старший брат влиял на направление мысли младшего именно своими очерками, которые практически сразу же после
журнальной публикации вышли отдельной книгой под названием
«Мысль в тисках».
До момента выхода этой книги Мацкевич был известен прежде
всего как редактор издававшейся в Вильно ежедневной газеты «Слово». Е. Ярузельский в своей монографии о виленском публицисте
справедливо отметил, что он «превратил провинциальную газету
провинциального города в общепольскую газету»11. Несомненно, основной причиной известности Станислава Мацкевича в межвоенный
период стала эта виленская газета и появлявшаяся на ее страницах политическая публицистика. Но он был также политиком в течение двух
созывов, будучи депутатом Сейма II Речи Посполитой. Политическую
активность он сохранил и в годы послевоенной эмиграции, достигнув пика карьеры в июне 1954 г., когда был назначен на должность
премьера лондонского правительства, которую занимал в течение
двенадцати месяцев. Через год после отставки он вернулся в Польшу.
Он не скрывал своего критического отношения к польской эмиграции: в одном из писем после своего назначения на должность главы
правительства он писал, что «вообще-то тут нужен не премьер, а ветеринар для больных павианов»12. Прекрасным доказательством такой
�О первой польской попытке понять советский мир или... 419
оценки стала книга, озаглавленная «Лондонщина», в словотворческом
неологизме самого заглавия которой уже отражается крайне негативное эмоциональное отношение автора к «польскому» Лондону. Стихией Мацкевича была политическая публицистика, он, несомненно,
был великолепным публицистом (в этой области он достиг большего,
чем в политике), смелым полемистом, но эта публицистичность, некоторая поспешность в суждениях часто оборачивались недостатком
глубины, «крикливостью» и декларативностью, нередко завершаемой
чрезвычайно удачной остротой13. Впрочем, эта черта его творчества
проявилась также и в его исторических («История Польши от 11 ноября 1918 до 17 сентября 1939») и биографических («Станислав Август
Понятовский»; «Ключ к Пилсудскому») книгах; даже в его, бесспорно, самом выдающемся произведении — «Достоевский», где, наряду
с ценными и новаторскими фрагментами, легко можно обнаружить
сплетни, порой даже довольно непристойные.
Еще в период предпринимаемых им безуспешных попыток получить визу Мацкевич в одной из своих статей в «Слове» четко обозначил, чту именно его более всего интересует в новой России. Это
заслуживает внимания, поскольку польские путешественники, писатели и журналисты ставили перед своими поездками разные цели,
хотя основной называли «беспристрастное любопытство», «желание
увидеть и показать правду»14. Для тех же, кого, как Мацкевича, связывало с Россией рождение и воспитание, было особенно важно увидеть
изменения в том, недавно столь близком, но ставшем невероятно далеким, мире. Писатель уже тогда задумывался, «не создал ли этот новый
rйgime и совершенно новую советскую национальную психологию»,
в отличие от царской эпохи, когда «почти каждый житель страны в
большей или меньшей степени был антигосударственником»15. Поэтому Мацкевича менее всего интересовали достижения промышленности, великие стройки социализма, Магнитогорск, Днепрогэс, Донбасс.
Хотя и эти темы нашли в его книге отражение — но как бы мимоходом.
Зато его интересовал социопсихологический, если не сказать прямо
антропологический эксперимент, попытка сформировать «нового»
человека, послушного системе, безвольного «раба». Наверняка тут решающее значение имели воспоминания об атмосфере жизни в царской
России, о позиции представителей дореволюционной интеллигенции,
которые «не позволяли ничего себе навязывать, постоянно критически анализировали, достаточно ли они свободны»16. Для Мацкевича,
впрочем, как позже и для Слонимского и Ваньковича, единственным
декларируемым критерием познания был человек. Автор «Мысли в
тисках» остался верен этой декларации, в то время как Ванькович дал
�420 Тадеуш Сухарский
себя обмануть картиной «могучего созидания», отодвинув ценность
отдельного человека в этом «созидании» на задний план.
Вместе с визой Мацкевич получил в советском посольстве довольно неожиданное свидетельство доверия к себе. Так, советский
консул, несмотря на не скрываемые писателем монархические взгляды, выразил надежду, что он «напишет только правду». Возможно,
дипломат в этих взглядах писателя неожиданно усмотрел гарантию
правдивости, достоверности книги, решил, что монархист не изменит своим принципам. Можно предположить, что очарование ancient
regim’a не утратило привлекательности в глазах советского бюрократа. Такое же заявление делает в своей книге публицист, обещая
писать «правду, только правду и ничего, кроме правды»17, всячески
открещиваясь от антибольшевистской пропаганды, хотя и осознавая,
что для понимания большевистского мира «надо пройти через какие-то судороги психического полубезумия»18. И он сдержал свое слово,
не «изменил» правде, хотя она кардинально отличалась от «правды»,
подразумеваемой и ожидаемой властями СССР, и в их глазах наверняка не была правдой. Ибо уже само по себе отображение советской
действительности могло быть — и наверняка было — воспринято как
голос в антисоветском хоре. В очерке, открывающем книгу, Мацкевич приводит слова человека, встретившегося ему в первый день его
визита и прекрасно разбиравшегося в существовавших в СССР порядках. По его мнению, здесь фундаментальным принципом организации
жизни является ложь, и писатель почти сразу же убедился в точности этого диагноза. Он расширил его, выявил следствия господства
лжи, вирусом которой было заражено общество, «сплоченно говорящее вранье в глаза иностранцам»19. Здесь стоит привести отрывок из
ценной рецензии белорусского поэта Франтишека Олехновича (Франц
Олехнович; белор. Францішак Аляхновіч), семь лет просидевшего в
соловецком лагере и, следовательно, познавшего СССР с той стороны, которая недоступна туристу из Европы. Он написал: «Я никогда
бы не предположил, что в этой стране, где столь тщательно скрывают
правду от глаз иностранца, польский журналист, перемещающийся в
удобном экспрессе, сможет разглядеть суть вещей за всеми “достижениями”, которые ему на каждом шагу суют в глаза. Наблюдательность
автора повергла меня в изумление»20.
Мацкевич действительно намеревался сопоставить антисоветские «байки» с реальной общественной жизнью в этом государстве,
он хотел исправить и исправлял ложные суждения об СССР, он подверг сомнению распространенное убеждение в том, что там существует абсолютная свобода, даже эротическая распущенность. Он,
�О первой польской попытке понять советский мир или... 421
впрочем, довольно быстро понял, в чем заключается трудность при
осуществлении этого намерения. Дело в том, что познавательные
критерии, применяемые человеком, находящимся вне пределов советского государства, оказались абсолютно непригодными, не столько
даже не адекватными реальности, сколько просто неприменимыми.
Мацкевич подчеркивает, что заданный в Польше «ясный, понятный и
нормальный» вопрос окажется в советской России «невероятно сложным и запутанным»21. Поэтому публицист оказался перед проблемой,
какой избрать язык, если советская действительность превзошла самые ужасающие представления о ней, если она не вписывается ни в
одну из доступных категорий познания и форм описания. Как объяснять явления повседневности, чтобы они могли быть поняты читателем, находящимся географически недалеко, но совершенно чуждым
по менталитету. Именно опыт Мацкевича-публициста, преодолевающего языковые трудности в описании уже окрепшей, «вмонтированной» в Россию «советскости», подавления мысли и порабощения
разума, положил в нашей литературе начало попыткам отыскать форму описания мира, подвергнутого советизации, которые станут одним из основных течений в польской литературе ХХ в. Спецификой
повествования Мацкевича, а возможно, и его искусства наблюдать и
комментировать действительность стало обуздание эмоций, спокойствие, проистекающее из основного убеждения, что «ничему не следует удивляться в стране, где Демьян Бедный может считаться поэтом
лишь потому, что он — рабочий»22. Не всегда писателю это удается,
да и не может удаться, ведь для этого ему пришлось бы принять и одобрить эту систему антиценностей, и у него инстинктивно появляются
недоумение, возмущение, а иногда и отвращение.
Поездка Мацкевича отличалась от упомянутых «экскурсий»
Мельхиора Ваньковича, Зыгмунта Новаковского, Антония Слонимского не только тем, что состоялась раньше, но и своей продолжительностью, которая сделала возможным более объемные наблюдения и
более глубокое осмысление увиденного. Если названные писатели
могли в течение недели поездить только по Москве — в рамках строго
установленного порядка, — то у Мацкевича была возможность находиться в Стране Советов несколько недель23. Благодаря этому он мог
не только увидеть жизнь в «белокаменной», но и посетить — спустя
почти двадцать лет — свой родной город, переименованный в Ленинград. Интересно, что возвращения писателя в один и тот же «град»
всегда были приездами в города с разными названиями: он уехал из
Петербурга, в 1914 году недолгое время был в Петрограде, а спустя
семнадцать лет оказался в городе Ленина. Он побывал также в Ниж-
�422 Тадеуш Сухарский
нем Новгороде, куда приплыл по Волге, посетил Минск и Киев — «истинно русский город»24, где за два дня не услышал ни слова по-украински, а чаще слышал польский язык. Он был и в Казани. Таким образом, он увидел и столицу, и «глубинку», а выводы, отразившиеся в его
очерках, имели под собой солидную эмпирическую почву.
Сочинения Мацкевича стоит сопоставить также с путешествиями
западных светил литературы и культуры на рубеже 20–30-х гг.: Джорджа Бернарда Шоу, Бертрана Рассела, Анри Барбюса, Андре Жида,
Луи-Фердинанда Селина. Однако принципиально разными были цели
поездок нашего Мацкевича и западных авторов. Его не привлекал
образ «пролетарского рая», застившего свет писателям Запада, которые демонстрировали свою левизну. Автор произведения «Мысль в
тисках» на пару месяцев опередил Джорджа Бернарда Шоу, картину
пребывания которого в июле 1931 г. в атмосфере обожания Вождя попытался реконструировать Рональд Харвуд в пьесе «Чай у Сталина».
Западные авторы тянулись в Мекку «истинного равенства», куда их
манила, с одной стороны, большевистская пропаганда, а с другой —
перспектива издания своих произведений огромными тиражами на
русском языке. Своеобразными шорами для части интеллектуалов
послужил утопический и вместе с тем привлекательный образ справедливого мира «диктатуры пролетариата», суливший в перспективе
немалые авторские гонорары. Не желая замечать явления, ставящие
под сомнение идеологические принципы, они видели только то, что
увидеть хотели25. Они охотно верили — ибо хотели поверить — в благополучие, в развитие сельского хозяйства, в эффективность педагогических методов Макаренко. Даже их посещение трудового лагеря не
открыло им глаза. Описание этого опыта мы находим в послевоенной
книге Ежи Гликсмана «Tell the West» (сокращенная версия на польском
языке носит название «Скажи Западу»). Он приводит слова французского кинорежиссера, который, посетив лагерь для «беспризорных»,
заметил, вздохнув: «Мир действительно мог бы быть лучше, чем он
есть»26. Пожалуй, эти слова лучше всего отражают суть позиции этих
«полезных идиотов», энтузиастов советской системы. Андре Жид был
честен, писатель отправился на «родину пролетариата» как человек,
явно симпатизирующий коммунизму, но сопоставление идеалистических представлений с настоящей действительностью вызвало в нем
глубокое разочарование27, которое он выразил в книге 1936 г. «Возвращение из СССР» (переведенной на польский язык годом позже). Нечто подобное произошло с Селином и с его книгой-«памфлетом» «Mea
Culpa», в которой он безжалостно разоблачал большевистский режим.
Имеет смысл сравнить оценки, данные Мацкевичем и А. Жидом, что-
�О первой польской попытке понять советский мир или... 423
бы не поддаться искушению приписать это польской русофобии, в которой вряд ли можно обвинять автора книги «Мысль в тисках», или
польскому антикоммунизму, который несомненно был близок Мацкевичу28. Ибо не убеждения предопределяли возникновение у них именно такого образа СССР, а личные впечатления от увиденного.
Взгляд из Вильно, в котором жил писатель, принципиально отличался от лондонских, парижских или берлинских наблюдений. Но
и в Вильно неприятие удручающей картины польской действительности начала 30-х гг. вызывало тоску по «советскому раю». И в самой
Польше советская агитация и пропаганда находили благодатную почву. Мацкевич им не поддался, и это объяснялось не только зоркостью
взгляда ближайшего соседа, но и основательностью его подготовки к
поездке. В Советскую Россию отправлялся человек, которого сформировала в значительной мере русская культура, детство и юность которого прошли в Российской империи. Он родился в Санкт-Петербурге,
здесь же он пошел в школу, учебу продолжил в русских гимназиях в
Вильно (в том числе в знаменитой классической гимназии Виноградова). Ему близка была «старая Россия», теперь он стремился узнать, что
такое «Большевия» — именно так он обычно называл СССР. Поэтому
говоря о себе в первом абзаце своего первого очерка как о человеке,
который «неплохо знал историю, литературу, быт довоенной России»,
он тут же добавляет, что «детально» освоил также «историографию
революции»29. Кроме того, он ежедневно читал советскую прессу и
узнавал издательские новости, почти на память выучил Конституцию
СССР и тщательно изучил тексты всех великих большевистских вождей: Ленина, Троцкого, Бухарина, Сталина и Луначарского. Первый
свой очерк он завершает следующим выводом — именно изучение
текстов этих «классиков» порождает «превратное, юмористически
ошибочное понимание поляками» своего восточного соседа.
Очерки из Советского Союза, публиковавшиеся в форме небольших газетных репортажей, пользовались такой большой популярностью, что за четыре года переиздавались три раза. Книгу назвали «одной из самых успешных в польской послевоенной литературе»30. Но
следует особо отметить, что в мире «виленской богемы», к которой
принадлежал, в частности, Чеслав Милош (заметим: он публиковал
свои произведения в издаваемой Мацкевичем газете), тезис автора
книги «Мысль в тисках» о смерти свободы воспринимался, как это
метко сформулировал Ежи Ярузельский, «разумеется, реакционной
бредятиной»31. Поэт, ставший впоследствии нобелевским лауреатом, а
в те годы бывший «более радикальным, чем Жданов — и вероятно —
чем сам Сталин»32, верил, что за восточным кордоном, чуть более ста
�424 Тадеуш Сухарский
миль на восток от Вильно, открывается «мир прогресса» и само «будущее», что СССР — это «страна, где найдены решения всех терзающих нас проблем — и только эта страна может дать спасение от бед»33.
Так думал находившийся тогда в Вильно молодой поэт, который двадцать лет спустя поставил один из важнейших диагнозов «диамату» и
Новой Власти. Следует обратить внимание на сходство, почти семантическую тождественность названий книг обоих виленских авторов:
у Мацкевича — «Мысль в тисках», Милош назовет свою книгу «Порабощенный разум». Так, в обоих случаях внимание писателей оказалось сосредоточено на процессе завладения человеческим сознанием.
Книга «Мысль в тисках» очень быстро стала международным
бестселлером. Через год после первого польского издания она вышла
на английском языке под названием «Russian Minds in Fetters» (Лондон, 1932). Критики, причем не только польские, отмечали объективность Мацкевича. Разумеется, следует с осторожностью отнестись к
вошедшим в третье издание фрагментам рецензий, поскольку они носят явно маркетинговый характер. Но следует также помнить, что они
попали как раз в то издание, которое уже свидетельствовало об огромном успехе книги. Рецензент издания «The Spectator» отмечал, что
Мацкевич, «в отличие от любого иного писателя, пишущего о России,
не только старается быть беспристрастным, но и преуспел в этом»34. В
шотландской газете «Glasgow Evening News» отношение Мацкевича к
большевистской России назвали «рыцарским и настолько справедливым, что следует рекомендовать его всем остальным журналистам».
Стоит процитировать еще одно мнение, опубликованное в журнале
«The Truth», в котором рецензент констатировал, что книга «Мысль
в тисках» — «самая интересная» среди «многочисленных книг о России», а ведь ему было из чего выбирать.
Еще до отъезда [в Россию] Мацкевич старался четко понять и вербализовать для себя главные проблемы, которые должны были стать
«компасом» в его странствиях по Стране Советов. Он стремился перешагнуть порог актуальности, он не хотел оказываться под влиянием
«пятилеточного» взгляда. Он мечтал найти «статические элементы» в
Советском Союзе. Еще находясь в стране, он осознал наивность этих
вопросов, но не отступил от намерения дать на них ответ. И таким
ответом стала его книга, скомпонованная, надо признать, довольно хаотично. Однако в этом композиционном хаосе следует видеть попытку
отразить динамику познавания, а также возникавшие трудности с упорядочением сведений, почти не поддающихся упорядочению. Очерки,
которые он писал, так сказать, по горячим следам, «на коленке»35, часто
не до конца продуманные, даже, может быть, с литературной точки
�О первой польской попытке понять советский мир или... 425
зрения плохо обработанные (хотя, возможно, именно таким и был замысел писателя, который дистанцировался от художественного изложения), представляют собой запись блужданий, стремления найти и
понять логику в государстве непоследовательности и алогизмов.
Попробуем внимательно рассмотреть те самые фундаментальные вопросы Мацкевича. Он размышлял над тем, как жители советского государства поведут себя в момент нападения на их пролетарскую родину. И он задавался вопросом, вызовет ли, возродит ли такая
война патриотическую позицию или же будет склонять к контрреволюции. Уже в первые месяцы после нападения гитлеровской Германии на СССР стало ясно, что вопрос этот был весьма своевременным
и важным. Таким образом, писатель размышлял над тем, есть ли у
нового государства шанс выжить перед лицом угрозы. С этими размышлениями связан и вопрос о соотношении российского и советского. С этим же связывал Мацкевич и вопрос о зависимости между
большевистским, российским централизмом и националистическими
тенденциями. В своих исследованиях он стремился к охвату перспективы советского мира в целом; он размышлял и над третьим вопросом — о влиянии Азии на большевистскую систему, об изменениях
в направлении экспансии русского, затем советского империализма.
И лишь на четвертое место он поставил вопрос о «воспитании» молодого поколения «в духе полной безнравственности»36, в отрыве от
религии. Наконец, последней проблемой, интриговавшей Мацкевича,
была концепция России как палимпсеста, что на практике сводилось
к ряду вопросов: смог ли «красный лоск» скрыть под собой «исконно
русский слой», жива ли любовь к традициям, существует ли «тоска
по исторической русской культуре»37. Оказавшись в СССР, он признал
неуместность этого вопроса, что было, пожалуй, лишь данью ожиданиям польского читателя.
Такая иерархия проблем представляется в наше время довольно
неожиданной и, быть может, не очень интересной. Но надо помнить,
что она отражает систему взглядов публициста до путешествия в советскую Россию, то есть демонстрирует состояние знаний в области
польской «советологии» в конце двадцатых годов, когда вопрос относительно мощи советского государства и потенциальной угрозы с его
стороны для Польши являлся наиболее важной темой с публицистической точки зрения. Лишь на втором плане находился вопрос относительно уровня и качества жизни в СССР, относительно изменений
в сфере быта и свободной любви. Однако Мацкевич в своей книге,
о чем однозначно свидетельствует само ее название и подзаголовок,
изменил иерархию проблем, переместив на второй план политические
�426 Тадеуш Сухарский
аспекты, чтобы заняться прежде всего социопсихологической проблематикой. На первый план у него безусловно выдвинута своего рода
психологическая вивисекция гражданина Советского Союза.
Переориентироваться именно в таком направлении Мацкевич
был вынужден исходя из наблюдений, которые были им сделаны уже
в первые часы пребывания в советской стране. Ему пришлось решительно пересмотреть принципы и план построения композиции, которые им были приняты a priori. Буквально на каждом шагу писатель
убеждался, что в советском государстве в начале 30-х гг. разворачивается великая революция, которая затрагивает гораздо более значительное число жителей государства, причем гораздо болезненнее, чем
та революция, которая произошла чуть более десяти лет тому назад.
Именно эта революция после «передышки» в период НЭПа ведет страну, эту «житницу Европы», к нищете и голоду. Именно она должна
изменить Россию необратимо, чтобы сделать невозможным возвращение к прежнему порядку. Это несомненно стало важнейшим открытием Мацкевича. Он увидел зарю той атмосферы, которая будет
доминировать в советской повседневности в трагические 30-е гг. Ее
главную черту он назвал «революционной истерией»38. Именно она,
эта истерия, наряду с психологическим террором, заставляет учащихся учиться, рабочих работать и всех вместе бороться против «врагов»,
которые притаились даже среди самых близких. Таким образом, Мацкевич близко знакомит польского читателя с атмосферой советской
жизни и при этом с отвращением констатирует, что там «топят в грязи
человеческое достоинство»39.
Мацкевич как наблюдатель вовсе не односторонен, он способен
смотреть беспристрастно, не выискивая доказательств для заранее
выбранных концепций. Он в самом деле внимательно наблюдает.
Благодаря этому он смог заметить существенную поляризацию советского общества. Широко представляя фон условий и возможностей жизни гражданина СССР, он дает характеристику различным
общественным группам и их позиции. По его наблюдениям, «старые»,
то есть представители дореволюционного российского общества,
«лишенцы», крайне критически относятся к новой власти. Писатель
прямо утверждает, может быть, даже с излишней уверенностью, что
они составляют 70–80% общества, их объединяет ненависть к новой
системе власти, но они не в состоянии эту ненависть трансформировать в организованное сопротивление. Мацкевич характеризует эту
позицию как «бессильную ненависть». Он пытается наглядно показать трагическую повседневность такого «лишенца», человека, который действительно лишен элементарных средств к существованию и
�О первой польской попытке понять советский мир или... 427
обречен на медленную гибель. Он проводит аналогию между жизнью
и положением рабов в Либерии и «бывших» людей в СССР. Но если
по отношению к первым «прогрессивное» общественное мнение всего
мира выражает свое сочувствие и стремится помочь им в их несчастной доле, то ко вторым оно испытывает неприязнь как к врагам, мешающим построению системы всеобщего счастья. Принимая, таким образом, точку зрения и «аксиологию» большевиков, Мацкевич смотрит
иначе, он подчеркивает, что приговоренность к статусу «лишенца»
всегда предопределяется «накалом и направлением борьбы, накалом и
направлением большевистской агитации»40. Поэтому начало «новой»
революции означает их неминуемое поражение. И польский писатель
с грустью констатирует конец интеллектуальной формации, которая
сыграла существенную роль и в формировании его мышления. Автор
книги «Мысль в тисках» пишет также о последовательном уничтожении советской властью религии, о стремлении окарикатурить ее, он
замечает, что участие «лишенцев» в богослужениях являет собой акт
отваги. Он соотносит эту позицию с поведением людей, живущих в
мире религиозной свободы, которые утратили милосердие веры, потребность в молитве. А вид молящихся русских людей позволит им
обрести убеждение в том, что она полна глубокого смысла.
По другую сторону советской баррикады у Мацкевича находятся
молодые люди, которых система успешно отрезала от всего того, что
существует вне советского мира, которые не знали жизни «при царе».
Именно их сознание подверглось и продолжает подвергаться постоянному процессу порабощения, их мысль зажата в клещи тисков. Они
стали яростными поборниками новой власти. Писатель показывает их
подлинную веру, их «религиозное отношение к труду»41, их самозабвенное служение социалистическому «строительству». Ради этого
идеала они готовы вынести трудности повседневности, отсутствие
элементарных вещей, относятся с презрением к позиции, в основе которой лежат потребительские желания. Для них все заслоняет образ
светлого коммунистического будущего. А для писателя, который не
жалеет для них слов восхищения, они — попросту жертвы беспощадной пропаганды, поэтому их позиция получает у него меткое определение: «жизнь морфиниста». Однако он также знает, что «общество,
которое кормят исключительно морфием»42, долго существовать не
сможет. И в этом он видит некоторые проблески надежды на крах
системы, которая не только лишает человека возможности удовлетворять элементарные потребности, не только морит его голодом, не
только не позволяет ему одеться, как подобает, но и порабощает его
разум, его мысли.
�428 Тадеуш Сухарский
Мацкевич старается реконструировать процесс подчинения личности «законам» коллектива, выделяя отдельные этапы этой преступной процедуры. В самом ее начале он говорит об ограничении, почти
ликвидации частного жизненного пространства путем принуждения
к существованию на общей коммунальной кухне, к пользованию общим туалетом. Параллельно происходит ликвидация индивидуального мышления как акта, враждебного советскому народу, принуждение к обязательности общего, одинакового, запрограммированного
мышления. И снова писатель соотносит эту ситуацию с индивидуалистской, может быть, даже анархистской позицией русской интеллигенции. А над этой констатацией витает не выраженное напрямую
размышление об эффективности большевистской социотехники.
Очерки Мацкевича были адресованы широкому кругу читателей,
поэтому писателю было важно приблизить советскую действительность путем сравнивания ее с миром его читателей. Вследствие этого
почти в каждой строчке текста писатель наглядно демонстрирует глубокую, буквально бездонную пропасть между обоими мирами. Капиталистический мир — это пространство развлечений и потребления,
а советский мир — это «трудовая истерия». В первом случае, в капиталистическом мире, признается личность, а во втором — происходит «обожествление» (на атеистический манер) коллектива, которому
личность безоговорочно подчинена. Мир первый — это пространство
свободной мысли, а второй — это каторга «мысли в тисках». Мацкевич с ужасом также отмечает чудовищный упадок, убожество жизни
в России, наступившие в результате господства большевиков на протяжении десятка с небольшим лет. В результате советского «обезличения» российские города, даже горделивая Москва, были доведены
до такого состояния, что Барановичи, маленькое еврейское местечко
в тогдашней польской части Белоруссии, показались Мацкевичу по
сравнению с Белокаменной чем-то вроде Биаррица.
Мацкевич сосредоточился на проблеме «психологии Советов»,
но ведь это не означало, что он оставил без ответа те вопросы, которые волновали его перед отъездом в СССР и которые он включил во
вступительный очерк. Публицист предполагал, что поведенческая позиция населения во время войны зависит от хода войны; в результате
поражения произойдет падение советского правительства, у которого
уже не будет ни смелости, ни сил заставить общество подчиниться.
Он недооценил решимость, а также результативную прагматичность
и политическую ловкость советской власти, которая великолепно и
последовательно использовала тот великорусский патриотизм, который она прежде искореняла в своих подданных, в котором усматрива-
�О первой польской попытке понять советский мир или... 429
ла величайшую угрозу для своего существования. В период военных
поражений власть внушила населению СССР убежденность в том, что
это «отечественная» война для всего народа. Но Мацкевич был прав,
когда предвидел возможность проявления «взорвавшегося энтузиазма <…> молодежи»43, для которой державная идеология стала единственной преемницей большевистской идеологии.
Автор книги «Мысль в тисках» много страниц посвятил отношениям между большевизмом и национальными движениями. Он недоумевал, почему русский народ добровольно ограничивает, как могло
бы показаться, свою власть, все более сужает ареал распространения
русского языка. Ибо во время своего путешествия Мацкевич раз за
разом отмечал буквально принудительное насаждение традиций и
языков — украинского, белорусского, татарского — среди населения, проживающего в соответствующих советских республиках. Для
данного явления он попытался найти как «мистическое», так и «реалистическое» объяснение. Исходя из «мистического» объяснения, он
усматривает в этом одну из форм великорусского империализма. По
мнению писателя, она заключается в том, что в данном малом народе сначала пробуждают националистические чувства, осознание его
собственной неповторимости, а после успешного завершения этого
процесса русская нация устанавливает свое доминирование над ним.
И только такая форма господства дает ощущение полного удовлетворения от полученной власти над нацменьшинствами. Однако писателю ближе все-таки реалистическая мотивация, суть и цель которой
он видит в развитии национальных языков в качестве самого лучшего
инструмента для осуществления советизации нерусского населения.
Успехи такой политики он отмечал в азиатских республиках, где экспансия большевизма принесла плоды в виде положительного отношения более богатых, более образованных слоев общества к новой власти. То есть совершенно иначе, чем это происходило в европейской
части СССР, где, согласно наблюдениям Мацкевича, подобные слои
относились к большевикам неприязненно, даже враждебно.
В заключительных фрагментах книги писатель делает попытку
указать на причины падения России Романовых. В качестве первой
причины он называет личность императора Николая II — Мацкевич
напрямую говорит о том, что «с любым другим членом этой династии
на троне у России было бы больше шансов избежать катастрофы»44.
Но как монархист по убеждению, он подчеркивает, что мученическая,
принятая с достоинством смерть царской семьи сослужила добрую
службу идее монархизма. Оценка, данная Мацкевичем личности последнего из династии Романовых, во многом близка — что весьма нео-
�430 Тадеуш Сухарский
жиданно — оценке Солженицына, представленной на страницах книги «Август Четырнадцатого». Оба автора обращают внимание на одни
и те же черты характера человека, который любил семейную жизнь и
не обладал способностями к управлению таким огромным государством. Ему не хватало способности реально оценивать действительность, он впадал в мистицизм, что еще углубляло в нем чувство ответственности за государство и за своих подданных, а также внушало
глубокую веру в русский народ, представляющий собой «оплот <…>
Богом данного предназначения»45.
Еще одну причину Мацкевич обнаруживал в позиции русской
интеллигенции, которую он упрекал не столько в отсутствии чувства
государственности, сколько в приверженности антигосударственным
инстинктам. Мысли писателя о русской интеллигенции близки Бердяеву, который в книге «Духи русской революции» указывал на анархический склад ее мышления, на отсутствие у нее способностей созидания государства. Оба писателя возлагали на интеллигенцию, которая
не смогла найти отличие между позицией антиправительственной и
позицией антигосударственной, ответственность за революцию и падение России Романовых. Самым ярким примером атрофии чувства
государственности была позиция депутатов от партии кадетов в отношении предложения Столыпина создать «кабинет со свойствами
полупарламентского правительства». С грустью и горечью завершил
писатель свои рассуждения о тогдашней ситуации интеллигентов,
«лишенцев», прибегнув к афоризму Мольера — «Tu l’as voulu, Georges
Dandin» [«Ты этого хотел, Жорж Данден»].
Однако непосредственной причиной катастрофы России была,
по мнению Мацкевича, самоубийственная внешняя политика, венцом
которой стало «une stupide aventure», как назвал Сергей Витте вступление России в войну с Германией и Австрией в защиту Балкан. И
эти три элемента, совпав, способствовали краху и окончательному падению Российской империи.
***
Мы читаем книгу «Мысль в тисках» спустя восемьдесят лет после ее первого издания, спустя двадцать лет после краха советского
коммунизма, после того как увидели свет тысячи публикаций и миллионы страниц на тему «порабощения разума» под властью большевиков. С такой познавательной перспективы размышления Мацкевича
могут показаться — и совершенно справедливо — уже устаревшими,
не совсем точными и довольно поверхностными. Однако вспомним,
�О первой польской попытке понять советский мир или... 431
что книга «Исследование психологии советского общества» была, по
существу, первой книгой польского автора, в которой со всей серьезностью рассматривалась проблема коллективизации мышления, подчинения «сознания» Партии и Непогрешимому Вождю на фоне советской, весьма впечатляюще представленной действительности. Ни
один из польских авторов межвоенного периода, писавших вслед за
Мацкевичем, не обладал таким искусством наблюдения и таким умением анализировать, ни один из них не смог понять больше, чем он, и
ни один не сумел предостеречь мир от реальной угрозы, исходившей
от советского коммунизма. В таком контексте и надо говорить о книге
«Мысль в тисках» как о книге важной и значимой, ставшей описанием
советского тоталитаризма in statu nascendi — едва зародившегося, но
готовящегося распространиться за пределы своих границ.
При меча н и я
1
2
3
4
5
6
7
8
(Перевод Е. Шиманской)
Pobуg-Malinowski W. Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945. Londyn, 1956. T. 2. Cz. 1. S. 547–548.
Ibidem. S. 548. С. Цат-Мацкевич, комментируя подписание договора
между государствами, считал, что «миролюбивость отношений на наших рубежах» свидетельствует, вопреки часто высказываемым тогда
мнениям, об «укреплении позиций Польши». Однако последняя фраза
его очерка, особенно напоминавшая прорицания Кассандры, свидетельствовала о необычайной политической прозорливости писателя:
«Иллюзией следует считать убеждение, что в случае (упаси Бог) возникновения польско-немецкого конфликта — СССР останется нейтральным и не ринется на наши восточные земли» (Cat-Mackiewicz S.
Pakt o nieagresji z SSSR // Sіowo. 10.07.1932. Цит. по: Cat-Mackiewicz S.
Teksty / Wyb., oprac. i koment. J. Jaruzelski. Warszawa, 1990. S. 205).
Sіonimski A.Moja podrуї do Rosji. Warszawa, 1997. S. 36.
Ibidem. S. 5–6.
Janta A. Wielka decyzja // Janta A. Duch niespokojny. Poznaс, 1998. S. 193.
Bіeszyсski T. Wiкcej prawdy o Sowietach. Warszawa, 1933; цит. по: Kochanowski J. Podrуї do innego њwiata. Polskie reportaїe z Rosji Radzieckiej
1922–1936 // Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojкж / Pod red. A. Magdziak-Miszewskiej, M. Zuchniak, P. Kowala. Warszawa, 2002. S. 95.
Именно так Я. Кухажевски озаглавил свою семитомную монографию
по истории России ХIХ в., которая выходила в 1923–193 гг.
Jaruzelski J. Stanisіaw Cat-Mackiewicz. 1896–1966. Wilno; Londyn; Warszawa, 1994. S. 187.
�432 Тадеуш Сухарский
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
«Мацкевич... самый “русский” из польских писателей, благодаря своей
любви к цивилизации России и ее великим романистам» (Miіosz Cz. The
history of Polish literature. Berkeley; Los Angeles; London, 1983. P. 524).
О «русскости» романов Юзефа Мацкевича я писал более подробно в:
Sucharski T. Polskie poszukiwania «innej» Rosji. O nurcierosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji. Gdaсsk, 2008. S. 185–190.
Niemczykowa A. Stanisіaw z Jaсcza Mackiewicz herbu Boїawola, pseudonim
Cat // Mackiewicz (Cat) S. Myњl w obcкgach. Studia nad spoіeczeсstwem
Sowietуw. Warszawa, 1998. S. 138.
Jaruzelski J. Op. cit. S. 48.
Письмо М. К. Павликовскому от 23 июня 1954 г. Цит. по: Jaruzelski J.
Op. cit. S. 289 (орфография современная).
Пожалуй, лучшее раскрытие главной идеи мы находим в произведении «Мысль в тисках», ибо, размышляя над проблемой, связывать ли
большевизм с «западничеством» или со «славянофильством», Мацкевич обратился к созданному Достоевским персонажу старого Карамазова и его омерзительному, сладострастному поступку. И доказывал,
что «большевизм это <…> Смердяков, явление, рожденное содомией
пьяного интеллекта с истерикой хамства» (Mackiewicz (Cat) S. Myњl w
obcкgach… S. 85).
Janta A. Op. cit. S. 196.
Цит. по: Jaruzelski J. Op. cit. S. 169.
Mackiewicz S. Myњl w obcкgach… S. 94.
Ibidem. S. 32.
Ibidem. S. 17.
Ibidem. S. 35.
Цит. по: Gіosy Prasy // Mackiewicz S. Myњl w obcкgach… S. 137. Четыре
года спустя Олехнович выпустил на польском языке свою книгу «Siedem lat w szponach GPU» (Wilno, 1934), второе издание вышло в Варшаве в 1937 г. под названием «Prawda o Sowietach».
Mackiewicz S. Myњl w obcкgach… S. 17.
Ibidem. S. 25.
Е. Ярузельский говорит о «трехнедельном журналистском путешествии
по СССР» в марте 1931 года (Jaruzelski J. Kalendarium їycia i dziaіalnoњci
// Cat-Mackiewicz S. Teksty. S. 452), но в своем произведении «Myњl w
obcкgach» (S. 115) Мацкевич пишет: «5 мая 1931 года я сел в Казани в
почтовый поезд». Таким образом, если он выехал в поездку в марте, а в
мае, завершая путешествие, выехал из Казани, то его визит продолжался значительно дольше, чем три недели.
Mackiewicz S. Myњl w obcкgach… S. 71.
Впрочем, такое поведение можно констатировать также у польских
�О первой польской попытке понять советский мир или... 433
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
путешественников, которые позволяли обманывать себя умным советским гидам. Мечислав Лепецкий, путешествовавший по следам Пилсудского, не увидел лагерей, зато нашел «Сибирь без проклятий» и
даже сопроводил этим названием свои репортажи.
Gliksman J. Powiedz Zachodowi. Wspomnienia autora z okresu niewoli w
obozie pracy przymusowej w Zwi№zku Sowieckich Socjalistycznych Republik. New York, 1951. S. 13.
А. Жид выразил свое болезненное разочарование, убедившись в том,
насколько огромно количество бедных людей: «их там слишком много,
а ведь я надеялся, что их там не увижу; я поехал в Советскую Россию
именно для того, чтобы не видеть бедных». Цит. по: Powrуt z ZSRR /
Przeі. J. E. Skiwski. Warszawa, 1937. S. 52.
Е. Ярузельский (Cat-Mackiewicz S. Teksty. S. 160) метко отмечает, что
«Мацкевич был антифранцузским франкофилом, а также <…> антианглийским англофилом и несомненным русофилом, довольно антироссийским и сильно антисоветским. Он старался отличать страну, народ,
его культуру, гражданский этос, его политические механизмы от политики, проводимой государством».
Mackiewicz S. Myњl w obcкgach… S. 9.
Цит. по: Gіosy Prasy // Mackiewicz S. Myњl w obcкgach… S. 136.
Jaruzelski J. Op. cit. S. 54.
«Tygodnik Powszechny» z 1 stycznia 1989; цит. по: Jaruzelski J. Stanisіaw
Cat-Mackiewicz. S. 54.
Miіosz C. Zniewolony umysі. Paryї, 1953. S. 144, 145. См. также: Jaruzelski
J. Op. cit. S. 54.
Gіosy Prasy. S. 135.
Mackiewicz S. Myњl w obcкgach… S. 54.
Ibidem. S. 12.
Ibidem. S. 13.
Ibidem. S. 15.
Ibidem. S. 23.
Ibidem. S. 66.
Ibidem. S. 56.
Ibidem. S. 107.
Ibidem. S. 21.
Ibidem. S. 123.
Ibidem.
�«Места памяти»:
Кресы
Виктория
Тихомирова
(Москва)
в польской литературе
Особый интерес современных гуманитарных наук вызывает в последние
годы изучение «мест памяти» (lieux de
mйmoire, термин Пьера Нора) как институциализированных форм коллективных
воспоминаний о прошлом1. Эти «места»
могут быть частью материального мира
или иметь символическое значение. Но в
обоих случаях им присущи, по утверждению польского социолога Анджея Шпотиньского, одни и те же свойства: они являются «принадлежностью определенных
социальных групп и заключают в себе те
или иные, важные с точки зрения данного
сообщества, ценности (идеи, нормы, образцы поведения)»2.
В настоящей статье предпринята попытка показать на литературном материале специфику польского мышления о так
называемых «кресах» (бывших восточных
окраинах Речи Посполитой), функционирующих в национальном сознании в виде
реальных и метафорических «мест памяти», «мест воспоминаний», связанных с
событиями прошлых веков и в особенности ХХ в.
Формирующиеся в литературе и общественной мысли с середины XVI в. и на
протяжении XVII и XVIII вв. представления об «окраинных» польских землях и
населяющих их людях заложили основу
Тихомирова Виктория Яковлевна — доктор филологических наук, Россия,
Моск ва, Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
�«Места памяти»: Кресы в польской литературе 435
того понимания «кресов» и их мифологизации, какое принес с собой
XIX век — в поэзии (Адам Мицкевич, Юлиуш Словацкий, Винцентий
Поль, Северин Гощиньский, Мауриций Гославский, Антоний Мальчевский, Юзеф Богдан Залеский, Август Белёвский, Люциан Семеньский, Владислав Сырокомля и др.) и прозе (ограничимся указанием на
исторический роман Генрика Сенкевича «Огнем и мечом»).
Ключевую роль в развитии польского мифа о «кресах» сыграла
поэма В. Поля «Мохорт» (1855), в которой автор впервые ввел в общелитературный язык слово «kresy»3 в его близком к современному
толкованию значении: пространства далекого пограничья с особым,
только ему присущим ритмом жизни. Таким образом, уже изначально
понятие приобрело два взаимодействующих значения — географическое и оценочное, каждое из которых прошло сложную эволюцию.
Кресы как название определенного географического пространства
(со значением собственного имени в современном польском языке — с прописной буквы) в разные исторические периоды обозначали территорию, охватывающую: в XVI–XVIII вв. — юго-восточную
Украину (приграничные области Речи Посполитой между Днепром
и Днестром), после разделов Польши в последней трети XVIII в. —
украинские и литовские земли, а в XX в. — даже южное и западное
пограничье. Как видим, происходило постепенное расширение территориальной сферы, включаемой в данное понятие. В сегодняшнем
понимании Кресы обычно отождествляются со всеми принадлежавшими довоенной Польше землями, отошедшими в 1939 г. к СССР.
В свою очередь, наращивание функциональной нагрузки второго — оценочного — значения привело к тому, что «кресы» (со строчной буквы в написании) превратились в подвижную аксиологическую
категорию с собственными значениями, легко поддающимися мифологизации и стереотипизации. Характеризуя эту особенность функционирования понятия «кресы» в польском языковом и культурном
сознании, современный литературовед Яцек Кольбушевский пишет:
«В способах употребления этого слова в польском языке заключена
специфика польской истории: kresy (или Kresy) — это область конца
всего привычного, родного, за которой начинается иной, чужой мир…
Подобного экспрессивного оттенка не передают словарные обозначения, соответствующие понятию “кресов” в других языках, какими
являются немецкое Grenzland, английское borderland, французское
confins, латышское pierobeћas apgabali или словацкое pohraniиie. Кресы создала польская культура, но создала их только для себя и для
себя же так назвала. Знаменательно, что этот специфический образ
мысли о Кресах — в категориях особой системы высших ценностей —
�436 Виктория Тихомирова
появился тогда, когда <…> разделы вычеркнули польское государство
с карты Европы. С этого времени категория “кресы” стала одним из
польских политических мифов, живо соотносясь с мифом Польши как
избранного народа»4.
Польские исследователи выделяют целый ряд сложившихся в
национальном самосознании мифологизированных представлений о
«кресах»5. Главную роль в возникновении и распространении этих
представлений, определяющих историческую и культурную исключительность Кресов, сыграли:
1) идеализация польского рыцарства, защищавшего Пограничье
в неустанных сражениях с татарами, казаками и гайдамаками;
2) создание образа Украины как счастливого, полного сказочного
изобилия, края («kraj mlekiem i miodem pіyn№cy»);
3) идея единства Кресов с Речью Посполитой, в основе которой
лежало «старопольское убеждение в территориальной целостности
всей Речи Посполитой, ставшее важнейшей составляющей позднейших представлений о Кресах как неотъемлемом элементе польской
государственности»6;
4) продолжительное явление гомогенизации культуры на польских землях, что, в частности, выражалось в активном проникновении локальных элементов в польскую культуру; в ощущении различий между жителями разных мест как региональных, но не национальных; в распространенном в поэзии романтиков понимании
украинской и литовской самобытности как своеобразных проявлений
«польскости» и т. п.
К началу ХХ в. Кресы превратились в постоянный источник
легенд и мифов, сущностью которых было обращение к прошлому,
а атрибутами — сохранение отцовских обычаев, неотделимость от
Польши, героическая история, исключительная красота разнообразной и богатой природы, система ценностей, базирующаяся на образцах поведения «кресового» рыцарства7. Более того, Пограничье становится развернутой метафорой с большим оценочным понятием и
моральным значением, которую можно было отрывать от конкретной
территориальный основы, привязывая к тем пространствам, где ощущалась необходимость защиты национальной идентичности и государственности8.
Вместе с тем, наряду с мифологизацией Кресов, в литературе начала медленно зарождаться и набирать силу противоположная тенденция. Элементы мифа все чаще и чаще входили в противоречие с
реалиями действительности на этих землях, далекими от той идеализированной картины, которую создавало искусство. В творчестве
�«Места памяти»: Кресы в польской литературе 437
отдельных художников слова стали проступать контуры реалистического видения этнической и социальной проблематики Кресов, что
было новым в успевшей сложиться традиции воспевания Пограничья
как счастливой Аркадии, народы которой являются детьми одной Матери-Родины. В польском сознании медленно расширялось понимание
полиэтничности Кресов — не только как их ценности, но также как
источника конфликтов, страшной, яростной борьбы соприкасающихся народов. Эта линия прослеживается в творчестве С. Гощиньского
(поэма «Каневский замок», 1828) и Л. Семеньского (рассказ «Деревня
Сербы», 1835), усиливается в романах Юзефа Игнация Крашевского
(«Уляна», 1843; «Остап Бондарчук», 1847; «Хата за деревней», 1853;
«Ермола», 1855).
ХХ век ускорил модификацию представлений о Кресах и «кресовости». На это повлияли два огромной важности исторических события. Вначале Первая мировая война, во время которой на Кресах
нарастали антипольские настроения, завершившиеся кровавой расправой с «польскими панами» (жертвами агрессии становились также
евреи и польская городская интеллигенция). Другим событием явилось обретение Польшей независимости (1918). Проекты, касавшиеся
восточных рубежей второй Речи Посполитой (федеративный Юзефа
Пилсудского и инкорпоративный Романа Дмовского), бои за Львов
(1918), Вильно (1919) и Киев (1920), присоединение к польской территории спорных земель Виленщины, усилия новой власти, направленные на интеграцию страны и устранение экономической отсталости
ее восточных окраин, разоренных в ходе Первой мировой войны, —
все это способствовало сближению Кресов с так называемой этнографической Польшей, превращению их в обычный элемент польской
общественной жизни. Изменилось географическое измерение Кресов.
Включение Львова, Вильно и центральной части Литвы в состав государства означало в польском понимании обретение прежних границ.
Отсюда включение в сферу понятия «кресов» Литвы и Восточной Галиции с главными городами Вильно и Львовом, которые прежде не
воспринимались как «кресовые».
В межвоенное двадцатилетие Кресы стали для польского государства источником множества проблем, важнейшей из которых была
сложная этническая ситуация на этих землях. Согласно проведенной в
1921 г. переписи населения в стране проживало около 27 млн человек,
из которых 8,5 млн (31,5%) составляли национальные меньшинства,
в том числе: украинцы — 13,9%, евреи — 8,6%, белорусы — 3,1%,
немцы — 2,3%. Еще более пестрым был этнический состав Кресов: татары, караимы, армяне, литовцы, поляки, украинцы, белорусы, евреи,
�438 Виктория Тихомирова
немцы, русские, румыны, чехи. Внутренние трудности, с которыми
столкнулось правительство в реализации политики национальной интеграции, сложность протекания этого процесса на Кресах, противоречивость политических ориентаций в данном вопросе, приводящая
к отрицательным последствиям (полонизация украинцев и белорусов,
резкое сокращение национальных школ и др.), вызвали обострение
межнациональных конфликтов, что подрывало международный авторитет страны. Так, например, в 1920–1930 гг. в Лигу Наций поступило
155 жалоб на Польшу со стороны проживающих в ней национальных
меньшинств9.
В период между двумя мировыми войнами литература откликнулась на тему «кресов» целым созвездием произведений. Среди них
большое место занимала мемуаристика 1917–1921 гг. (наиболее известные воспоминания принадлежат перу Зофьи Коссак-Щуцкой). Существовала проза на историческую тему, служившая напоминанием о
правах Польши на эти земли. Бурно развивалась поэзия, воспевавшая
красоту здешних пейзажей и выработанные традицией духовные ценности. Одной из форм проявления патриотических настроений в отношении Кресов были очерки и репортажи, а также произведения других жанров на региональные темы, среди которых выделялись: поэзия
Витольда Хулевича, роман Ярослава Ивашкевича «Луна восходит»
(1925), повесть Яна Парандовского «Небо в огнях» (1936), первый том
четырехтомного повествования о жизни гуцулов Станислава Винценза «На высокой полонине» (1936), проза Юзефа Беняша и ряд других.
В литературном отражении проблематики «кресов» обозначились две тенденции. С одной стороны, продолжалась прежняя идеализация и мифологизация этой части культурного ландшафта Польши. В лирике Казимиры Иллакович, Я. Ивашкевича, Юзефа Чеховича
оживал мотив утраченной Аркадии «малых родин», любимых мест
юности с их внутренней гармонией и счастливым соседством народов.
Другие авторы обращались к Вильно и Львову, укрепляя в общественном сознании значение этих городов для польской истории и культуры, тем самым превращая их в символы «кресовости».
Вместе с тем литература 1920–1930-х гг. не только стабилизировала и распространяла миф «кресов», она его также пересматривала,
стремясь к созданию объективной картины жизни на «пограничье» —
в самом широком значении этого термина. К таким произведениям
можно отнести, в частности, стихотворения Яна Спевака (сб. «Степные стихи», 1938), книги Аркадия Фидлера («Через днепровские пороги», 1926) и Ханны Морткович-Ольчак («На дорогах Польши», 1934),
повесть Ванды Василевской «Пламя на болотах» (Львов, 1940) — по-
�«Места памяти»: Кресы в польской литературе 439
следнее произведение, написанное ею в Польше. Большую роль в отражении глубоких проблем прошлого и настоящего Кресов сыграли
репортажи Мельхиора Ваньковича («По следам Сментека», 1936) и
Ксаверия Прушиньского («Путешествие по Польше», 1937).
Вторая мировая война привела не только к огромным человеческим и материальным потерям на Кресах, она кардинально изменила
их геополитическую структуру. Передвижение границы СССР на запад лишило Польшу ее восточных земель, являвшихся интегральной
частью общего государственного организма, вместе с большей частью
населения этого региона, получившего в принудительном порядке советское гражданство.
Вызванная войной цепь событий (массовый террор в отношении
всего населения и геноцид евреев на территории, оккупированной гитлеровской Германией, необычайный размах и политические аспекты
национальных конфликтов в результате вмешательства германских
властей в жизнь польского общества, присоединение к СССР польских восточных земель со вступлением на эту территорию Красной
Армии 17 сентября 1939 г., депортации огромных человеческих масс
в отдаленные районы Советского Союза, тюрьмы и лагеря ГУЛАГа,
катынская акция и многое другое) оставила в польском сознании тяжелый отпечаток, глубоко отразилась на психологии народа. Этот
болезненный опыт по-прежнему остается живым как в национальной
памяти, так и в литературе: до 1989 г. — эмигрантской и самиздатовской, в постсоциалистической Польше — представленной во всей своей целостности, включая творчество писателей молодых поколений.
Мир польских «кресов» во время и сразу после окончания военных действий, содрогавшийся от людских страданий, вражды и насилия, взаимно учиняемого населявшими его народами, занимает центральное место в прозе Влодзимежа Одоевского. После романа «Все
завеет, заметет…» (Париж, 1973), в котором писатель сосредоточил
внимание на причинах польско-украинской розни, тему пограничья
продолжили сборники его рассказов «Поедем, вернемся…» (1993) и
дополненный (пять новых рассказов), заново отредактированный
«Поедем, вернемся и другие рассказы» (2000).
О ситуации в Литве после прихода Красной Армии повествуют
романы другого писателя-эмигранта Юзефа Мацкевича «Дорога в никуда» (Лондон, 1955), «Нельзя говорить громко» (Париж, 1969).
Из целого ряда эмигрантских изданий можно было узнать подробности, связанные с процессом присоединения к СССР Западной
Украины и Западной Белоруссии. В написанном на эту тему преобладала документальная литература. Приведем в качестве примера книгу
�440 Виктория Тихомирова
Яна Томаша Гросса «“В сороковом нас сослали в Сибирь”. Польша и
Россия 1939–42» (Лондон, 1983), куда вошли подлинные свидетельства очевидцев из архивных фондов американского Гуверовского института. Записанные по горячим следам сообщения детей и взрослых
служат одним из достоверных источников воссоздания представлений поляков о советских людях в результате их первых близких контактов.
После Второй мировой войны «кресы» как особое, оригинальное
явление национальной культуры продолжают жить в общественном
сознании, в том числе в литературе, однако иначе, чем прежде. Будучи в течение длительного времени историко-географической и культурной категорией — не только мифом, обладающим интегрирующей
силой воздействия на нацию, но вместе с тем частью ее обычной, повседневной жизни, «кресы» после 1939 г. окончательно переходят в
область легенд и мифов. Этот процесс имел свои особенности в отечественном и эмигрантском творчестве.
В ПНР действовал цензурный запрет не только на публичные
высказывания о Кресах, но даже на само слово. Поднимая эту тему в
открытой печати, писатели были вынуждены прибегать к разным приемам ее непрямого отражения — иносказанию, аллюзии, умолчанию
(в частности, оставляя безымянным, но вполне узнаваемым Вильно),
поэтике сновидений (последнее характерно для многих романов Тадеуша Конвицкого — «Современный сонник», 1963; «Бохинь», 1987 и
др.) или в связи с иной тематикой, например, Холокоста («Черный поток», 1954, Леопольда Бучковского и целый ряд других произведений).
В польском литературоведении проблема «литературы пограничья» как самостоятельная область исследований с собственным предметом изучения не ставилась до начала 1980-х гг. За редким исключением (например, опубликованная в 1975 г. книга лингвиста Зофьи
Курцовой, в которой впервые были привлечены к анализу произведения этой темы) проблема литературы, занимающейся «кресами» как
особым понятием, не находила своего прямого отражения в научной
печати: она затрагивалась либо частично, с использованием других
определений — «так называемая галицийская школа», «писатель «оттуда» (о Л. Бучковском, Я. Ивашкевиче, Анджее Кусьневиче), — либо
строго в историко-литературном аспекте при анализе творчества писателей прошлых эпох (А. Мицкевича, Ю. Словацкого, Г. Сенкевича,
Э. Ожешко и др.).
Развитие литературы этого течения в Народной Польше и за ее
пределами, а также постепенное ослабление давления официальной
идеологии на сферу культуры и науки привели к тому, что в 1980-е гг.
�«Места памяти»: Кресы в польской литературе 441
категория «literatura kresowa», благодаря усилиям ученых, вошла и
закрепилась в польском литературоведении. Следующее десятилетие
отмечено повышенным интересом к проблематике «кресов» в литературе. Изменился и угол зрения на эту литературу — ее начали рассматривать в более широких аспектах: чаще всего как один из феноменов
национальной культуры или в плане взаимодействия «своего» и «чужого» в процессе межкультурных контактов.
Принципиально новым взглядом на «литературу пограничья»
становится изучение заложенной в ней проблематики стереотипов
взаимного восприятия различных народов, в первую очередь, поляков и русских; причин, порождающих этнические предубеждения, и
других проблем, ставших объектом осмысления имагологии. Одной
из конкретных задач в русле такого рода исследований является анализ различных факторов в формировании и закреплении в польском
сознании комплекса представлений о СССР и его гражданах, которые
складывались в новой исторической реальности и взаимодействовали
с ранее сложившимися стереотипами России и русских10.
В 2000-е гг. произошел очередной поворот в переосмыслении
«литературы пограничья». Его называют «пространственным» или
«топографическим»11. В основе развивающейся исследовательской
тенденции лежит сопряжение литературы и географии: выделение категории места, акцент на его топографии, локальном и региональном,
интерес к разного рода гибридным пространствам, концепция «малых родин»12.
Новые научные подходы к «литературе пограничья» помогли выявить ряд скрытых в литературной истории Польши 1940–2000-х гг.
закономерностей. В частности, польские исследователи ставят сегодня в прямую зависимость два явления: искусственное сдерживание в
литературе ПНР тематики «восточных Кресов» не давало писателям
возможности поднимать сложнейшие проблемы, с которыми сталкивались жители западных и северных территорий Польши. И хотя власти, преследуя собственные цели, всячески склоняли литераторов к
теме заселения так называемых «возвращенных земель» (ср. Ziemie
Odzyskane), она встречалась в литературе тех лет довольно редко и
не принесла сколько-нибудь значительных художественных результатов. О том, что польские писатели все же ставили ее в центр своих интересов, можно судить, к примеру, по второй части дилогии Халины
Аудерской «Бабье лето» (1975) или роману Януша Красиньского «Сын
Валленрода» (1980). Только после общественного перелома рубежа
1980–1990-х гг. и отмены цензурных ограничений начинается интенсивное развитие обоих направлений в «литературе пограничья».
�442 Виктория Тихомирова
С подобными проблемами не сталкивались писатели, жившие в
эмиграции. В их творчестве тема «кресов», в том числе восточных, изначально занимала одно из первых мест. Она звучала в поэзии Чеслава
Милоша (сборник «Город без имени», 1969), Мариана Хемара, Казимежа Вежиньского и других поэтов, но богаче всего была представлена в произведениях разных прозаических жанров (роман Ч. Милоша «Долина Иссы», 1955 и др.). Здесь доминировала мемуаристика:
воспоминания Юзефа Виттлина («Мой Львов», 1946), Яна Фрылинга,
Яна Белятовича, Анджея Хчюка и др. На этой тематике прочно базировалась эссеистика, с которой связаны крупные достижения литературы эмиграции (Ежи Стемповский, С. Винценз, Ч. Милош). Она
же притягивала к себе прозаиков, создававших на материале «кресов»
свои наиболее значительные книги (романы Ю. Мацкевича и В. Одоевского, рассказы Зыгмунта Хаупта и др.). Изданная в Польше в 1990е гг. лучшая часть эмигрантской «литературы пограничья» вызвала
настоящий читательский бум.
Ранее существовавшие в литературной практике две разнонаправленные тенденции — мифологизации и демифологизации «кресов» —
отчетливо проявились и в послевоенный период. Первая тенденция,
более укорененная в общественном сознании и словесности, нашла отражение в целом ряде произведений писателей разных поколений, из
которых назовем лишь самые крупные имена: Винценз, Стрыйковский,
Милош, Кусьневич, Конвицкий, Одоевский. Как верно пишет Ежи
Яжембский, миф «кресов» основан на обращении этих авторов к тому,
что перестало существовать в реальной действительности, но служит
для распознавания их собственной экзистенциальной ситуации, определения своего места по отношению к традиции или для осознания перемен, произошедших в ХХ в. в европейской культуре13.
Попутно отметим, что мифологизация охватывала всю богатейшую топографию Кресов, где особо выделялись Виленщина, Львов и
Восточная Галиция. Из множества показательных примеров ограничимся тремя. С темой «восточных Кресов» прочно связал свое творчество Т. Конвицкий14, но он смог прямо заговорить об этом только
после 1989 г. (воспоминания и рассказы, собранные в книге «Утренние
зори», 1991; роман «Чтиво», 1992; созданный в русле «сильвического»
направления «Памфлет на самого себя», 1995). Поэт Адам Загаевский
завершил свою поэму «Поехать во Львов» (Лондон, 1985) словами:
«Львов — везде» («Lwуw jest wszкdzie»). Универсальным восточногалицийским мифом являются исторические романы А. Кусьневича — «Король обеих Сицилий» (1970), «Зоны» (1971), «Урок мертвого
языка» (1977) и стилизованная под воспоминания проза 1980-х гг. —
�«Места памяти»: Кресы в польской литературе 443
книги «Смесь обычаев» (1985) и «Обращение в веру»(1987).
Другое художественное воплощение темы, подкрепленное предшественниками, отличает прозу Ю. Мацкевича (его называют «классическим человеком пограничья») и Л. Бучковского, которых сближает в данном случае стремление к десакрализации литературного стереотипа. У Мацкевича этому служит политическая материя, широко
развернутая панорама реальных событий и фактов, в которые вплетены острые конфликты, происходившие в данном регионе Европы.
Бучковский же, отходя от мифотворчества, рисует эсхатологическую
картину Кресов периода Второй мировой войны.
В 1990–2000-е гг. тема пограничья народов и культур стала одной из ведущих в литературе. Она привлекала писателей разных поколений, в особенности дебютантов 80–90-х, проявляющих осознанный интерес к богатой в литературе Польши и польского зарубежья
традиции эстетического осмысления «малой родины». Согласно этой
концепции человек стремится обрести прочную местную принадлежность, локальное самосознание, основанное на непрерывности традиций, многокультурности, культивировании памяти о прошлом и усвоении его ценнейшего достояния — терпимости, уважения к другой
личности.
Повторяющимся акцентом в текстах молодых прозаиков (при
несходствах индивидуальных стилей) стал так называемый новый
регионализм, отправной точкой которого является «локальность»,
описание автором того места, откуда он родом и с которым ощущает
сильную эмоциональную связь. До 1970–1980-х гг. региональная литература воспринималась в Польше как второстепенное явление. В
90-е гг. она начала усиленно развиваться, превращаясь в одну из составляющих новой культурной парадигмы. Сегодня ее ценность усматривают в том, что эта литература не только демонстрирует притягательность провинции, поднимает авторитет «малой частной территории». Извлекая из индивидуального и коллективного опыта осколки
событий, уцелевшие атрибуты быта, она тем самым активизирует в
культуре категорию памяти. Новый регионализм появился в литературе вместе с постмодернизмом и нередко противопоставляется его
философии и эстетике.
По мнению критика Пшемыслава Чаплиньского, в «литературе
родин» конца ХХ в. сформировались новые ответвления существующей традиции: наряду с родиной предков возникают «выбранная
родина» и «сотворенная родина», не связанные с местом рождения
автора. Вместе с тем он подчеркивает важное отличие «польской ностальгической карты» в прозе 90-х от знакомой читателю более ран-
�444 Виктория Тихомирова
ней литературы о «кресах», состоящее в том, что произошел «явный
географический сдвиг с восточных окраин на территорию Польши в
ее послевоенных границах»15. Именно так воспринимаются Гданьск
у Павла Хюлле и Стефана Хвина, Замостье у Петра Шевца, Щецин у
Артура Даниеля Лисковацкого и другие точки на карте, обозначающей корни, связь с пространством и прошлым.
Остается добавить, что «кресы» функционируют в современном
польском сознании и как исторический феномен, и как важный фактор интеграции польского общества, и как особое, оригинальное явление национальной культуры, чему способствуют сохранение и развитие литературных традиций. Кроме того, стоящая за этим понятием
история проникает в текущую политику, где становится весомым аргументом в вопросах отношений Польши с ее ближайшими соседями,
а также в спорах о национально-культурном наследии.
Что касается нового польского взгляда на бывшие восточные
Кресы, то единственно возможный подход к их ценностям с предельной ясностью изложен в цитированной выше книге Я. Кольбушевского. Подчеркивая, что к полякам с трудом приходит понимание того,
почему столь дорогое их сердцу понятие «кресов» вызывает сильную
антипатию со стороны литовцев, белорусов и украинцев, интерпретирующих его как проявление настойчивого желания возвратить
утраченное и даже «доказательство своеобразного польского империализма», а также отмечая претензии своих сограждан по поводу
«аннексирования» этими народами элементов польской культурной
традиции, включая произведения поэтов-романтиков, автор пишет:
«В сущности мы не понимаем, что существует определенная и значительная часть общего культурного наследия, прекрасным примером
которого может быть даже творчество Адама Мицкевича. <…> Если
сегодняшняя польская мысль о Кресах может быть обращением <…>
к будущему, то она должна вести к ограничению претензий и сожалений, хотя они и являются двусторонними, весьма значительными и
нередко глубоко обоснованными. <…> Единственно возможным способом продолжать в будущем польскую традицию пограничья будет
такой тон размышлений о Кресах, который послужит взаимопониманию и взаимному согласию»16.
П ри м е ч а н и я
1
2
Szpociсski A. Miejsca pamiкci (lieux de mйmoire) // Teksty Drugie. 2008.
№4. S. 11–12.
Ibid. S. 15.
�«Места памяти»: Кресы в польской литературе 445
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
В. Поль использовал это слово как неологизм, сопроводив его
пояснением в комментарии к поэме.
Kolbuszewski J. Kresy. Wrocіaw, 1998. S. 56–57, 204.
См., например: Kresy w literaturze. Twуrcy dwudziestowieczni / Pod red.
E. Czaplejewicza i E. Kasperskiego. Warszawa, 1996. S. 15–18.
Kolbuszewski J. Op. cit. S. 46.
Ibid. S. 48.
Ibid. S. 93–96.
Ibid. S. 136.
См. об этом: Тихомирова В. Я. Советский человек на Кресах в 1939–
1941 гг.: свидетельства очевидцев и художественные образы // Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–1941 гг. Люди, события,
документы / Под ред. О. В. Петровской, Е. Ю. Борисенок. СПб., 2011.
С. 292–306.
Rybicka E. Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny
w badaniach literackich // Teksty Drugie. 2008. № 4. S. 21–38.
Czapliсski P. Mapa, cуrka nostalgii // Opcje. Katowice. 2000. № 4; Idem.
Wzniosіe tкsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewiкжdziesi№tych. Krakуw,
2001.
Jarzкbski J. W Polsce czyli wszкdzie. Szkice o polskiej prozie wspуіczesnej.
Warszawa, 1992. S. 136.
Подробнее об этом см.: Choriew W. Польско-белорусское пограничье в
творчестве Тадеуша Конвицкого // Acta Polono-Ruthenica VI. Olsztyn,
2001. S. 413–419.
Czapliсski P. Wzniosіe tкsknoty. S. 105–107, 119.
Kolbuszewski J. Op.cit. S. 209–212.
�Шли с криком
«Россия! Россия!»
В монографии «Таверна “Под Королем-Духом”»2, посвященной последнему
из многочисленных ежедневников Юлиуша Словацкого (поэт вел их с 1843 г. до
смерти), я выделил в них различные тематические линии. Переплетаясь с записями в стихах и прозе, с рисунками и личными заметками, эти линии, на первый
взгляд кажущиеся совершенно хаотичной
структурой романтических «silva rerum»,
составляют определенную целостность.
Основными сюжетными осями являются: выход поэта из Кружка Божьего Дела
Анджея Товяньского, разбирательство
с Мицкевичем, театральные интересы,
«друидические» мотивы и прочее. Эти
разделы отвечают «тематическим узлам»,
собираясь из внешне произвольных записей — хотя естественно, что не все пометки непосредственно перекликаются с какой-либо из указанных тем.
В этой книге я тогда не выделил
русскую тему в самостоятельный раздел.
Возможно, потому, что она частично переплеталась с другими — с делом Товяньского и с позицией Мицкевича, или потому, что она казалась слишком очевидной.
Находясь в поиске российско-польского
сюжета, достойного быть приуроченным
к юбилею профессора Виктора Хорева,
я снова обратился к «Ежедневнику 1843–
Марек Трошиньский
(Варшава)
Шли с криком «Польша!
Польша!», единожды
воззвав,
Но в крике позабыли, о чем
уста молили.
Уверенные все ж, что Бог
сынов признает,
Шли далее, крича:
«Отчизну призываем!».
Господь явился им Купиной
Неспалимой,
Кричавших оглядел и
вопросил: «Какую?»
Ю. Словацкий.
Эпиграмма XXXIV1
Трошиньский Марек / Tros
zyński Marek — Dr., Польша, Варшава, Институт ли
тературных исследований
ПАН
�Шли с криком «Россия! Россия!» 447
1849 гг.». И мое предчувствие незавершенности важного дела оправдалось. Хотя именно этот блокнот Словацкого я знаю почти наизусть,
некоторые открытия, сделанные в ходе изучения русской темы, оказались поразительными.
Русский вопрос в «Ежедневнике 1843–1849» сосредоточен вокруг
двух сюжетов: первый — это выписки из истории России Н. М. Карамзина, второй — вопрос об отношении кружка Товяньского к царю.
Это два многостраничных блока записей из середины «Ежедневника», с 59-го по 92-й лист, занимают более 60 страниц, и фактически
они доминируют в тексте. После 92 листа записи становятся все менее
содержательными, начинают преобладать пометки о счетах. Начальные страницы изобилуют рисунками, материалами поэтического и
драматургического характера.
Далее я приведу перечень упоминаний о России — в той последовательности, в какой они появляются на страницах «Ежедневника».
Это обычное перечисление, регистрирующее все замеченные признаки обращения к теме России — порядок заметок (их очередность) не
свидетельствует о ранних либо поздних дополнениях или приписках.
Заключение о точной хронологии записей сделать весьма затруднительно, оно опирается на внешние источники. Однако, как представляется, большая их часть появилась в указанное время и была плодом
глубоких эмоциональных переживаний поэта.
Лист IXr — дневная запись о сне: «С 9 на 10 [сентября 1843]
ночь — сон о смерти императора». Речь идет о царе Николае I, который пережил поэта на шесть лет и был персонажем «Кордиана», целью неудавшегося заговора, приуроченного к коронации.
Лист 9rv — стихотворение, начинающееся словами: «Смерть, тринадцать лет стоявшая подле меня» — может быть интерпретировано
как поэтический образ смерти царя, навеянный сном (на листе IXr).
Лист 22r — диалог, в котором один из героев говорит о своем
возвращении с Куликовской битвы.
Лист 22v — фрагмент драмы «Вальтер Стадион», в которой идет
речь о возвращении Витовта с битвы на Ворскле.
Лист 31r — среди заметок о Греции и Франции помещена фраза:
«Прорежемся как зуб из чрева России».
Лист 59r — эскиз посвящения «Генезиса из Духа» полковнику
Николаю Каменскому, в котором упоминается о разбитых им в Ноябрьском восстании «отрядах москалей».
Лист 59v–60r — письмо Адаму Мицкевичу как заместителю Товяньского, в котором поэт пишет о наложении вето на любые меры, «которые Кружок в <…> духе, объединяющем нас с Россией, предпримет».
�448 Марек Трошиньский
Лист 61v — первая запись вверху страницы: «Русские верят, что
атмосфера у них меняется, и меняет ее вера — подобно тому, как отсутствие жизни в людях сделало землю вокруг Рима мертвой».
Лист 64r – 66v — еще одно письмо к членам Кружка Товяньского, в нем Словацкий упоминает свое предыдущее вето на «русские
стремления» и утверждает, что «эта русская склонность, мною запрещаемая и блокируемая, вопреки моему запрету достигла последних
границ подлости и позора». Он предвидит, что реакцией царя может
быть только отвращение и презрение, подобающие по отношению к
изменникам.
Лист 67rv — стих «Се Бог, чрева тайн отворяющий» — поэтическая версия прежних протестов; речь в нем о хребтах, «битых палками по-московски», и глумление над патриотическим отступничеством бывших героев восстания, которые теперь «Москву именуют
отечеством».
Листы 86v–92v — выписки из двенадцатитомной «Истории государства Российского» Карамзина в русском издании (Т. 1, 3–5 и 8) и
из тех же томов во французском переводе. Главная часть записей относится к VII главе четвертого тома — в особенности внимание поэта
привлекает детальное описание обстоятельств смерти князя Михаила
Тверского.
Лист 105r — фрагменты «Короля-Духа»; во втором появляется —
в роли матери очередного его воплощения — Мария Добронега, дочь
Владимира Святого.
О ком же пишет Словацкий в этом фрагменте? Владимир I Великий из династии Рюриковичей, Великий князь Киевский, святой не разделенного тогда еще на две церкви христианского мира, стал великим
новообращенным после принятия крещения в 988 г. Связан с Великим
Новгородом, бывшим его родиной, которой он лишился и за которую
постоянно сражался. Умер по пути в Новгород. Не называемая по имени «матрона, постом исхудавшая» — реальная «мать королей» Болеслава II Смелого, Владислава I Германа и будущей жены короля Чехии
(Мешко, князя Куявии). Здесь выступает в качестве матери Болеслава
Смелого, изображаемого очередным воплощением духовного вождя.
Мое удивление результатами исследования, о котором я говорил,
вызвано статистикой ключевых слов. Так, во всем «Ежедневнике» название Москва упоминается десять раз, и число это доходит до четырнадцати, если считать упоминания в качестве прилагательного («царь
московский» и т. п.). В заметках, сделанных по большей части в Париже, это чаще всего употребляемое имя собственное. Кроме документов, касающихся полемики с Кружком Товяньского об отношении к
�Шли с криком «Россия! Россия!» 449
царю, заказа мессы по этому поводу, а также нескольких десятков страниц из уже упомянутой «Истории государства Российского», обращают на себя внимание записи о двух битвах, значимых для российской
истории. Это сражение 12 или 16 августа 1399 г. на Ворскле (поражение
литовско-русских войск под предводительством Витовта) и битва на
Куликовом поле 8 сентября 1380 г., в которой Дмитрий, позже названный Донским именно в связи с этим событием, победил Мамая, положив начало процессу освобождения Москвы от Золотой Орды.
Нужно признать интерес к русской теме, подтверждаемый записями поэта, многосторонним и вовсе не поверхностным — в таком
виде в его творчестве он более нигде не встречается.
Русские мотивы в творчестве Юлиуша Словацкого подробно проанализированы в монографии известной исследовательницы Эльжбеты Кисляк «Царь-труп и король-дух»3. Но в ее книге не содержится
заключений о тексте более позднего, полного издания «Ежедневника
1843–1849». Как и в случае с другими мотивами, их пересмотр в контексте рукописной и изданной в полном виде записной книжки-черновика не только свидетельствует о степени интереса Словацкого к русской теме, но и позволяет сформулировать новые исследовательские
гипотезы, обогатив прежние выводы.
В 1840-е гг. о существовании русского «вопроса» Словацкому напомнили два события. Первое — это присутствие лиц из кружка Товяньского на заказанной сектой Винтраса мессе об упокоении души
царя Александра I, которую отслужили 20 мая 1843 г. в парижской
церкви Сен-Жермен-де-Пре. Вторым стало письмо царю, составленное Анджеем Товяньским летом 1844 г. Переведенное на французский
язык Мицкевичем (он же принял участие и в его редактировании),
письмо это было доставлено в российское посольство в Париже 15 августа 1844 г. В нем в витиеватых фразах товяньсковского новояза было
сформулировано лестное для царя предложение быть не тираном, но
отцом для своих подданных. Письмо вызвало возмущение некоторых
членов кружка не только своим содержанием, но и верноподданническим тоном. Поскольку Россия, — писалось в письме, — «сохранила
первоначальную простоту души, помыслы Господни почиют на ней, и
только путем исполнения этих помыслов Россия, верная Богу, сделается великой и счастливой». Первым отреагировал полковник Николай
Каменский: он вышел из кружка и опубликовал свой протест в прессе.
Словацкий осудил эти действия кружка, признав их недостойными, и с негодованием, почти с бешенством, произнес свое вето:
«Незаконными считаются шаги, которые Кружок в этом духе предпринимает». Заметим кстати, как в ситуации протеста проявился в
�450 Марек Трошиньский
Словацком характер гражданина давней шляхетской Речи Посполитой и выпускника юридического факультета. Он всерьез рассчитывает на действенность своего вето, накладываемого в тиши парижской
квартиры. Отсылка к праву вето в связи с этим случаем встречается
многократно. В листе 64r в письме к членам кружка Товяньского он
пишет: «Апеллирую к вето и к запрету моей властью в день…». Своему вето Словацкий приписывает почти магическую силу, продолжая
в листе 65r: «Довожу до сведения, … что вето мое, не снятое с Кружка
властью моей, теперь возобновляю; оно и впредь останется краеугольным камнем и огненным ободом, который сдерживает тех, кто под
покровом тайны творит страшные и отвратительные вещи…»4
Эти энергичные и постоянные протесты могут навести на мысль
о том, что Словацкий является фанатичным глашатаем партии русофобов. Интересно, что в одном из таких антирусских заявлений он писал о своей убежденности в презрении царя к польским изменникам5.
То есть поэт скорее был уверен в добродетелях самодержца, нежели
пребывал в заблуждении относительно поведения собственных соотечественников.
Прорусские действия кружка Товяньского были проявлением
немалой смелости в среде, сформировавшейся после исхода поляков
в связи с их поражением в польско-русской войне 1830–1831 гг., антирусские настроения которой, мягко говоря, были оправданы личным опытом людей и их еще свежими впечатлениями. Словацкий не
разделял с военной эмиграцией чувства личного оскорбления, нанесенного врагом, так как не принимал непосредственного участия в военных действиях. Российская власть нанесла поэту удар по-другому:
вызовом на допросы его матери (в период с 30 декабря 1838 по 5 марта 1839 гг.) по подозрению ее в участии в тайном обществе женщин,
имевшем отношение к заговору Конарского. До этих событий восприятие Словацким России никак не было обусловлено его опытом и личными переживаниями и определялось лишь чувством патриотизма.
Постепенно нарастающему протесту Словацкого против «русской склонности», выраженному на страницах «Ежедневника», начинают соответствовать и другие заметки, свидетельствующие о параллельно предпринимаемых им исследованиях российской истории.
Раньше ученые объясняли этот всплеск интереса исключительно намерением Словацкого написать драму из истории России с опорой на
скрупулезно проанализированные факты биографии Михаила Тверского. Начало работы над драмой — первая половина 1845 г. Позже,
после 1847 г., поэт снова обратился к истории жизни русского князя,
сочинив строфы, в которых он предстает одним из воплощений Ко-
�Шли с криком «Россия! Россия!» 451
роля-Духа. Эти исторические штудии показывают отсутствие у Словацкого предубеждений в отношении России. Вопреки тогдашним
довольно нелепым и, как минимум, весьма сомнительным действиям
некоторых эмигрантов, Словацкий искал в своих исторических исследованиях основу взаимопонимания. В духе времени и в соответствии
с личным опытом, он ушел вглубь столетий не в поисках сиюминутных идеалов, а для обнаружения тех ценностей, которые были зафиксированы и сохранились в памяти о прошлом. В тиши библиотеки он
самозабвенно предавался своеобразно понимаемой «русской склонности», столь отличной от представлений о ней «собратьев», с которыми
он так горячо боролся.
Интерпретация этих заметок поэта «на русскую тему» требует гораздо более точного инструментария, нежели тот, которым располагает
историк литературы. Я же постараюсь углубить и изложить их суть в
меру своей компетентности исследователя творчества Словацкого.
Расположим в хронологической последовательности факты и
исторические события, привлекшие внимание Словацкого. Россия в
его заметках фигурирует в период с конца десятого века (время правления Владимира Святого) до 1560 г. В этот год умерла Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева, первая жена Ивана Грозного. Последний,
в свою очередь, прозрачно именуется в записях поэта Яном IV Базилевичем. Выписки из истории России, таким образом, относятся к самому началу ее истории, а заканчиваются правлением Ивана Грозного.
Первая упоминаемая дата касается одного из древнейших примеров русско-польских исторических связей. Она, несомненно, может
быть прочитана как положительная аналогия: указывается святой, общий для не разделившейся еще единой христианской церкви. Кровь
Владимира Святого течет в жилах древнейшей польской династии, так
как его дочь Мария Добронега стала супругой Казимира I Обновителя.
Она предстает подвижницей, «истощенной постом», чье бесплодное
чрево отверзается по воле небес. Слово, которое, «сущее на небесах»,
в грозовую ночь снизошло, «ниспослав новую силу во чрево девы», —
это аллюзия библейского топоса женской способности к деторождению в позднем возрасте в результате божественного вмешательства.
Михаил Тверской, центральная фигура самого значительного и
наиболее подробного блока записей, также был святым, хотя почитался только православной церковью. Его судьба легла в основу сюжета одного известного нам акта незаконченной драмы Словацкого.
Как я уже говорил об этом в своем докладе на конференции в Москве
два году тому назад6, внимание Словацкого обращено, независимо от
судьбы князя, к средневековым республиканским традициям. Соби-
�452 Марек Трошиньский
рательный образ одного из эпизодов драмы — жители города, называемого Господин Великий Новгород, свобода которого была попрана. Символические топонимы и персонификации («свободный город»,
«тринадцатый апостол») подсказывают, что автор видит в нем некоего
предтечу Польши. Даже ворота Новгорода названы «польскими», что,
однако, не соответствует истине.
Выписки Словацкого из «Истории государства Российского»
заканчиваются наступлением периода опричнины, одним из ужаснейших преступлений которой стал разгром Господина Великого
Новгорода.
В творческом воображении поэта рождается образ: души десятков тысяч убитых новгородцев покидают свои тела и переселяются в
другие, чтобы перенести и сохранить идею гражданского самоуправления. В письме Войцеху Статтлеру того же времени, что и выписки
из Карамзина (1 января 1845 г.), Словацкий описывает гипотезу о переселении душ. Те, которые «из-под секиры Ивана Грозного сбежали…
попрятались в польских телах». Идея республиканского равенства
была растоптана, оказавшись для России преждевременной, но смогла найти укрытие и была перенесена в шляхетскую Речь Посполитую.
Между выписками по истории от Михаила Тверского и до окончательной расправы с Новгородом в «Ежедневнике» говорится о двух
битвах, сыгравших важнейшую роль в истории России и Европы: Куликовской (дважды) и битве на Ворскле. Вторую, о которой вскользь
сказано в драме о Вальтере Стадионе, я опущу.
Битва на Куликовом поле упоминается в коротком диалоге двух
персонажей — один, женский, именуется Валькирией, а в другом
можно узнать участника упомянутой битвы. Возможно, это телесная
сущность, но скорее всего, это дух погибшего, прибывший на подмогу
с целой армией духов. Духи, расставшиеся с жизнью на Востоке, перемещаются на Запад, где становятся распространителями преждевременно родившихся идей, ранее отвергнутых в историческом раскладе
сил. Они проиграли битву, но не были побеждены, выжив в духовном
мире.
При сопоставлении этих записей трудно удержаться от впечатления, что они кажутся Словацкому оправданием исторической ценности традиций русского народовластия и попыткой напомнить об их
существовании. Полагаясь на свой политический инстинкт и не веря
в возможность взаимопонимания с современной ему царской Россией — наследницей идей Ивана Грозного, — Словацкий пытается отделить в ее истории зерна от плевел, указав на забытые, но обнадеживающие традиции.
�Шли с криком «Россия! Россия!» 453
Можно ли в связи с вышеизложенным защищать гипотезу о «республиканском» характере выписок Словацкого из «Истории государства Российского» Карамзина? «Ежедневник 1843–1849» дает еще
один важный аргумент, способный, по моему мнению, избавить от
тенденциозности в толковании русской темы в записках Словацкого.
В листе 85r, в самой середине русского блока записей, под заголовком
«О духах духновенных и пророческих» Словацкий неожиданно посвящает полстраницы одному эпизоду из истории Италии. Он обращается к образу вождя итальянской народной революции — Колы ди
Риенцо. Никола ли Лоренцо Габрини (1313–1354) весной 1347 г. объявил Рим республикой, свергнув правящие аристократические династии Орсини и Колонна. В долгосрочные планы этого народного трибуна входило объединение Италии под главенством Рима. Провозглашенная им республика просуществовала менее полугода, но Кола ди
Риенцо навсегда остался символом идеи объединения Италии. В этом
контексте с уверенностью можно предположить, что мотивом исторических исследований Словацкого, который в то время подписывался
как «Республиканец по Духу», был поиск республиканских традиций
и идей в истории Европы.
Вето, наложенное Словацким на «российские склонности» и
провозглашаемое им многократно и яростно, относится к конкретной,
современной ему России, ужасы которой коренятся во временах правления Ивана IV. Изучая историю, поэт сосредотачивается на таких явлениях, которые указывают на общность идеалов Польши и России.
Более того, он утверждает, что первоначально идеи свободы и республиканства возникают у восточного соседа. Поэт резко отвергает неприемлемую для него пророссийскую позицию кружка Товяньского,
считая ее фальшивой и вредной. Он противопоставляет ей другую
Россию — Россию до кровавой бани Ивана Грозного. Россию великих
святых и великих духов, которые еще во времена мрачного средневековья заложили основы славянского республиканства. Несмотря на
свое знание деспотичной России девятнадцатого века, Словацкий не
боится называть свободу даже «матерью русского рода». Эта Россия,
о которой нужно говорить, нужно помнить и у которой можно даже
поучиться, закончилась с правлением Ивана Грозного.
Таким образом, протест Словацкого не был осуждением, умножавшим предубеждения и русофобию. Презирая наивные и бессмысленные акты кружка в отношении царя-деспота, поэт искал общие
ценности — те, что могли бы стать основой истинного взаимопонимания. Ежедневные заметки о России позволяют приоткрыть историософские взгляды Словацкого, в которых движение идей идет с Вос-
�454 Марек Трошиньский
тока на Запад, из России в Польшу. До определенного момента Россия для своего западного соседа исполняла роль матрицы, источника
идеи. Это отношение отразилось в «Ежедневнике» осознанно лишь
однажды — в неловкой, гибридной формуле «Прорежемся как зуб из
чрева России».
Знаменитой эпиграммой «Шли с криком: “Польша! Польша!”»
Словацкий выразил свое отношение к пустой, пошлой болтовне о
польскости. Поэту удалось воспрепятствовать восприятию России через стереотип Сибири и в русле эмигрантских обид. Шествующим с
криком «Россия! Россия!» был задан принципиальный вопрос: «Какая
Россия?» И Словацкий располагал исторически подкрепленным и философски аргументированным ответом.
(Перевод Е. Кузнецовой)
П ри м е ч а н и я
1
Из сборника «Przypowieści i epigramaty»:
Szli krzycząc: «Polska! Polska!» — wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
Szli dalej krzycząc: «Boże! ojczyzna! ojczyzna».
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: «Jaka?»
2
3
4
5
6
Troszyński M. Austeria «Pod Królem-Duchem». Raptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego. Warszawa, 2001.
Kiślak E. Car-trup i król-duch. Warszawa, 1991. Здесь содержатся интересные выводы, касающиеся отдельных тем, я же намереваюсь лишь
сопоставить дневниковые заметки.
В поздних политических трудах Словацкого принцип вето, наряду с
конфедерацией в Речи Посполитой, определял основное направление
республиканских взглядов поэта. Оно было также использовано в его
идеях «Генезиса из Духа».
Речь, естественно, об измене польскому духу, «и измена эта заслуживает презрения императора Николая, который со строгостью относится
даже к явным друзьям, тем паче к предателям с презрением и отвращением отнесется» (R 64v).
Трошиньский М. Князь Михаил Тверской — русский аватар Словацкого
// Юлиуш Словацкий и Россия / Под ред. В. А. Хорева, Н. М. Филатовой.
М., 2011. C. 20–37.
�Галина Туркевич
(Вильнюс)
«Азбука» Чеслава Милоша:
от вильнюсских истоков
к «более объемной форме»
Туркевич Галина / Turkie
wicz Halina — Dr., Литва,
Вильнюс, Литовский педагогический университет
В марте 1980 г. не стало Ярослава
Ивашкевича. Польская литературная критика задавалась вопросом: кто же займет
его место на Парнасе отечественной литературы? Ответ пришел очень быстро. В
декабре того же года Чеслав Милош стал
лауреатом Нобелевской премии. Случайное совпадение фактов во времени? А может, символическое перенятие эстафеты?
Тем более что автора «Долины Иссы» многое сближает с поэтикой Я. Ивашкевича.
На фоне польской литературы ХХ в.
Милоша, как и автора «Хвалы и славы»,
отличает жанровая многогранность творчества (поэзия, эссе, роман) и, в какой-то
степени, его тематическая монолитность.
Милош, в отличие от Ивашкевича,
создал всего лишь два романа, однако в
течение всей творческой жизни также был
поэтом, эссеистом, обращался к другим
жанровым разновидностям. Легче назвать
то, чего в его творчестве не было, нежели
перечислять, что в нем присутствует.
Превыше всего писатель ценил поэзию, прибегая как к «классицистическим»,
так и романтическим средствам ее создания. Именно в поэзии, в стихотворении
«Ars poetica?» художник поместил свою
известную фразу: «Я всегда стремился
к более объемной форме». Развивая эту
мысль, поэт пояснял, что пытается созда-
�456 Галина Туркевич
вать что-то промежуточное, на грани поэзии и прозы, что не принуждало бы читателя к мучительным головоломкам и одновременно было
бы в состоянии передавать самые сущностные проблемы бытия1.
Как дополняющий голос в «поиске более объемной формы»
можно интерпретировать эссеистику, жанры которой Милош успешно осваивал еще в студенческие годы. Начиная с 1953 г., с момента
появления «Порабощенного разума», наряду с поэзией он все чаще
обращался к эссеистике в разных ее вариантах (от небольших статей
до обширных книг).
В 1959 г. в Париже была издана «Родная Европа», эссеистическая
книга, задававшая тон (если иметь в виду тематику), к которой чаще
всего обращался Милош. Как в поэзии, так и в прозе его живительной струей становится мотив возвращения в край детских лет, место,
расположенное «в самом сердце Литвы», — Шатейняй на берегу реки
Невежис, той самой, которая стала прототипом романной «долины
Иссы». Воспроизведению картин прошлого сопутствует у Милоша
тезис, что вынесенное из «малой родины» — это важнейший багаж,
с которым пришлось путешествовать по свету. Судьба писателя на
фоне европейской истории ХХ в. настолько типична, что в «Родной
Европе», обращаясь главным образом к своей биографии, ему удалось
воспроизвести образ восточного европейца и в какой-то степени противопоставить его стереотипу западного брата.
Возвращение к картинам и впечатлениям молодости дает о себе
знать также в эссеистических книгах «Начиная с моих улиц» (1985),
«Поиски родины» (1992) и др.
На счету Милоша также эссеистика, в которой автор осваивает
новое для себя жизненное пространство. Писатель был на это обречен
особенно с 1951 г., когда окончательно разорвал связи с ПНР. Американские просторы, новые «люди и книги» вызвали рефлексию в сборниках эссе «Континенты» (1958), «Видения у залива Сан-Франциско»
(1969) и др.
Еще одна важная тема — углубляющиеся с бегом времени метафизические поиски писателя (особенно «Земля Ульро», 1977).
Эссеистика Милоша свидетельствует также о постоянном поиске новых форм высказывания. Примерно с 70-х гг. писатель все чаще
призывает на помощь «чужие голоса», что наложило отпечаток на
«Сад наук» (1979) и многие последовавшие за ним книги. «Год охотника» (1990) — это, в свою очередь, эссе в форме дневника и т. д.
Эссеистические формы высказывания служили поэту как дополнительная возможность «объять необъятное», «укротить» бренность
бытия. В его позднем творчестве появился жанр «азбуки», к которому
�«Азбука» Чеслава Милоша: от вильнюсских истоков к... 457
изредка обращались и другие польские писатели ХХ в., к примеру,
А. Слонимский, С. Киселевский, Л. Е. Керн и др. Особенности этого
жанра на материале польской литературы ХХ века были предметом
исследования в статье Барбары Боголембской «Азбуки (алфавиты) —
популярная форма воспоминаний»2.
«Азбука» Милоша — по определению самого автора — это произведение «вместо романа» или же что-то на его «пограничье»3. И вместе
с тем «Азбука» — это прежде всего очередная из постоянно предпринимаемых писателем попыток уберечь от забвения то, что лично было
им пережито, то, что составляет некоторые штрихи его собственной
биографии или биографий познанных им людей. Одновременно складывается также многоликий исторически-ментальный образ эпохи.
«Азбуку» Милош создавал как вполне сложившийся художник,
обогащая свое позднее творчество и наследие в целом. Первая книга,
озаглавленная «Азбука Милоша» («Abecadło Miłosza»), была издана в
Кракове в 1997 г. Год спустя за ней последовала «Другая азбука» («Inne
abecadło»), также вышедшая в Кракове. В 2001 г. статьи (в значении
«заглавное слово в словаре», hasło) обеих книг сложились в общий том
под заглавием «Азбука». Это, естественно, не означает, что писателю
удалось объять необъятное. Уже сам жанр азбуки как бы предвидит
композиционную незавершенность, постоянную открытость произведения для различных вставок и добавлений. Только уход писателя из
жизни завершил процесс возможного пополнения «Азбуки».
Милош на протяжении своей творческой жизни осознал, что
невозможно создать произведение, которое во всей полноте отражало бы сущность и богатство бытия. Обращаясь к разным жанрам, он
пытался остановить мгновенье, перевоплотить ускользающие факты
в «вечный момент». Именно такое оксиморонное заглавие, «Вечный
момент», извлеченное из стихотворения нобелевского лауреата, получила монография польского исследователя Александра Фюта, посвященная поэзии Чеслава Милоша4.
Как приверженец аутентичности, конкретной детали, писатель
запечатлел в своей «Азбуке» прежде всего множество имен, важных
как в частном, так и в более общем плане, как бы сохраняя существенный для его творчества и романного искусства в целом принцип многоголосия.
C одной стороны, во многих статьях увековечены имена друзей,
знакомых, одноклассников, реже кого-то из семейного круга, т. е. фамилии, возбуждающие те или иные ассоциации в самом лишь писателе.
С другой стороны, мы находим в «Азбуке», к примеру, статьи,
посвященные известным европейским и американским писателям
�458 Галина Туркевич
(Гораций, Оноре Бальзак, Шарль Бодлер, Уолт Уитмен, Федор Достоевский, Артур Рембо, Альбер Камю, Роберт Фрост и др.). Среди
удостоенных отдельных статей встречаются, естественно, и польские
писатели (Станислав Бжозовский, Зофья Налковская, Мария Домбровская, Ян Лехонь, Витольд Гулевич, Кшиштоф Камиль Бачиньский,
Стефан Киселевский и др.).
Однако в милошевских эссе, посвященных тому или иному персонажу, нет ничего общего со статьей энциклопедического типа. Писатель вводит чаще всего какие-то отдельные штрихи, субъективно
дополняя характеристику человека, не скрывая своего положительного или даже отрицательного отношения к нему. Более того, штрихи к
портрету избранного героя в любой момент могут вылиться в характеристику эпохи, местности, книги, а также в философские, метафизические и прочие рассуждения, что весьма типично для жанра эссе и
расширяет многоголосие дискурса.
Полифоническое звучание «Азбуки» интенсифицируется тем
фактом, что запечатленная в произведении действительность отражает различные культуры, ценности, иногда также эпохи. На протяжении своей долгой и проведенной в разных странах и на различных
континентах жизни Милошу довелось встретиться с множеством людей, представляющих разные национальности, мировоззрения, религии. Некоторые из них, отличающиеся то ли большей проницательностью, то ли эрудицией, то ли отзывчивостью, то ли необыкновенной
судьбой, запечатлены на страницах «Азбуки». Среди них, к примеру,
евреи (Абраша, Юзеф Райнфельд и др.), русские (Алик Протасевич,
Андрей Амальрик и др.), литовцы (Пранас Анцявичюс, Йозас Кекштас, Владас Дрема, Мария Гимбутене и др.), а также французы, немцы, американцы, венгры и т. д.
Если «Азбука» является произведением «вместо романа», то,
судя по числу содержащихся в ней статей, посвященных воспроизведению образов людей, перед нами — материал для многотомного
романа-эпопеи, как принято, с главными и второстепенными героями.
Несложно подтвердить данный тезис, обращаясь также к эссеистическим статьям, посвященным характеристике важных или просто запомнившихся писателю местностей. Среди них — и главные
«сады» жизни писателя (литовское Шатейняй, а также французские,
американские и другие города и местечки), и случайные, временные
пристанища. Они могли бы создать место действия для большого эпического романа. В его эпицентре могло бы оказаться пространство,
хорошо нам знакомое по роману «Долина Иссы», или же, к примеру,
Вильнюс, город школьных и университетских лет Милоша.
�«Азбука» Чеслава Милоша: от вильнюсских истоков к... 459
Вполне естественно, что в «Азбуке» присутствует статья «Шатейняй», посвященная малой родине писателя. Однако чтобы воспроизвести в потенциальном романе «край детских лет», писателю
пришлось бы усиленно напрягать память. Даже начавшиеся в 1992 г.
«возвращения» писателя в Шатейняй не позволили ему полностью
окунуться в прошлое. Посещение мест, полюбившихся в молодости,
заставляло его регистрировать прежде всего постигшие малую родину
утраты (стихотворение «Поместье» из сборника «На берегу реки»). Регистрация того, что исчезло, главенствует и в помещенной в «Азбуке»
статье «Шатейняй»: «Шатейняй, Гинейты и Пейксва. Так назывались
деревни вблизи поместья Шатейняй, где я родился. Долина реки Невежис как бы канавой врезается в равнину, откуда не видно ни парков,
ни следов поместий. Путешественник, перемещающийся сегодня по
этой равнине, не догадывается, что здесь когда-то было. Исчезли деревенский дым, скрип колодцев, пение петухов, собачий лай, людские
голоса. Отсутствует зелень садов, в которые ныряли крыши домов, —
яблони, груши, сливы выращивали в каждом хозяйстве…»5
Тяжелая участь постигла расположенные «в самом сердце Литвы» Шатейняй и близлежащие деревни в 50-е гг. ХХ в. Зажиточные
хозяева были вывезены в сибирскую ссылку, многие дома разрушены,
сады вырублены. Не стало также поместья, в котором Милош впервые
увидел свет.
В «Азбуке», к удивлению знатока биографии Милоша, отсутствует отдельная статья, которая могла бы иметь название «Вильнюс».
Возможно, потому что автор «Безымянного города» неоднократно
высказывался на эту тему во многих других своих произведениях.
Присутствует, однако, статья «Город» («Miasto»). Если же город, то,
естественно, Вильнюс — город школьных и университетских лет писателя, в котором он жил с 1921 по 1937 гг., а также в первой половине
1940-х гг. «Я много размышлял о феномене города, — начинает свое
эссе Милош. — <…> Мне случалось проживать в очень больших метрополиях, в Париже, Нью-Йорке, однако моим первым городом была
провинциальная столица, еле отличающаяся, но все же отличающаяся
от деревни, и именно она снабжала данными мое воображение. Я ведь
мог бы представить Вильнюс в различных его периодах, чего не сумел
бы сделать по отношению к другому городу»6.
Не одной лишь романтикой окрашены у Милоша воссоздаваемые картины прошлого: «Возьмем к примеру Вильно Просвещения и
Романтизма. Эти вонючие свалки отходов, эти посередине проезжей
части плывущие нечистоты, пыль или болото, по которому надо было
брести»7.
�460 Галина Туркевич
Межвоенный Вильнюс запечатлен в памяти Милоша как город
крайних контрастов: «И бьющие в сорока костелах колокола, и обитательницы множества борделей, принимающие военных и студентов,
словом, все сосуществовало, высокое и низменное, совсем иначе, нежели в украшающих прошлое воспоминаниях»8.
Разве это не сочный материал для потенциального романа, тем
более что возможны ретроспективы в менее и более отдаленное прошлое? Как в поэзии (например, «Безымянный город»), так и в прозе
Милош неоднократно подчеркивал, что при воспроизведении образа Вильнюса накладываются у него друг на друга разные временные
пласты: «Таким образом, город существует для меня, ничего не поделаешь, одновременно сегодня, вчера и позавчера. <…> Существует
также в 1992 году, когда я там оказался после пятидесяти двух лет
отсутствия и написал стихотворение о хождении по городу духов»9.
Почему Вильнюс — «город духов»? Ответ находим в упомянутом Милошем стихотворении. Поэт, по всей вероятности, имеет в
виду произведение «Город молодости» («Miasto młodości»), включенное в сборник «На берегу реки» (1994), который вышел после посещения Милошем Вильнюса, отсутствовавшего там полвека. В этом
произведении поэт непосредственно выражает разочарование, так как
в городе своей молодости не находит никого из тех, кто когда-то гулял
по этим улицам:
Przystojniej byłoby nie żyć. A żyć nie jest przystojnie,
Powiada ten, kto wrócił po bardzo wielu latach
Do miasta swojej młodości. Nie było nikogo
Z tych, którzy kiedyś chodzili tymi ulicami,
I teraz nic nie mieli oprócz jego oczu.
Potykając się, szedł i patrzył zamiast nich
Na światło, które kochali, na bzy, które znów kwitły…10
Вильнюс присутствует в «Азбуке» и более опосредованно. Место
действия потенциального романа могло бы находиться в Вильнюсе
или же часто сюда перемещаться, так как среди статей, посвященных
воспроизведению образов людей, с которыми в течение всей жизни
встречался Милош, преобладают именно те, в которых говорится о
связанных с Вильнюсом школьных или университетских друзьях,
знакомых, наставниках и т. д. Их судьбы — это ведь тоже материал для романа или, по крайней мере, какого-либо рассказа, новеллы.
Подтверждается, таким образом, глубокая мысль Ярослава Ивашкевича, запечатленная писателем в его известном рассказе «Мельница
�«Азбука» Чеслава Милоша: от вильнюсских истоков к... 461
над Утратой»: «Жизнь каждого человека, даже не отличающаяся каким-то особенным отклонением от шаблона, детально воспроизведенная, может быть интересна и поучительна»11.
И действительно, не заслуживает ли внимания потенциального романиста судьба Алика Протасевича, русского, школьного друга
Милоша? «О том, что Алик чужой, ибо русский, не могло в нашем
классе быть речи. Он принимал участие во всех наших делах, также в экскурсиях, помню одну из них — пешком в Тракай. Когда мы
уставали, он говорил, что надо сделать привал, и мы “привалялись”
на отдых в канаве. <…> Алик заболел, а было ему тогда, наверное,
пятнадцать лет, и уже не вернулся в школу»12. Судьба обошлась с
ним жестоко. В слишком раннем возрасте ему пришлось приспосабливаться к участи инвалида.
Не заслуживает ли внимания романиста жизнь Владаса Дремы,
литовца, историка искусств, влюбленного в Вильнюс университетского друга Милоша?
Вильнюсу — не только по мнению Милоша — свойственна изумительная черта, сложная для рационального обоснования, какая-то
магия, которая приводит к тому, что люди влюбляются в город, как
будто он живое существо. Множество художников и мастеров графики в течение более двух столетий предпочитало тему вильнюсской архитектуры и пейзажа. Заслуга Дремы состоит в том, как считает Милош, что он собрал произведения художников разных эпох, составив
«альбом, воспевающий прошлое города», и озаглавив его «Пропавший
Вильнюс» («Dingęs Vilnius», 1991). Альбом Дремы, что очень существенно для Милоша, является очередным свидетельством постоянной поликультурности города. «Создавали полотна и рисовали Вильнюс поляки, литовцы, евреи и русские, среди последних — подлинно
влюбленные в город, как во второй половине ХIХ века — Трутнев».
«Только большая любовь была в состоянии создать такое творение, и пишу о том, — подчеркивает автор «Азбуки», — чтобы отдать
должное Дреме»13.
Привлекательной для романиста или публициста могла бы оказаться судьба профессора Станислава Свяневича, автора книги «В
тени Катыни» (1976). Только благодаря случайному стечению обстоятельств или же распоряжению Всевышнего он избежал участи быть
расстрелянным в катыньском лесу.
Перечень «приближенных» в «Азбуке» героев потенциального
романа можно, естественно, продолжать, однако стоит ли этим заниматься, если в большинстве случаев вывод будет один и тот же: да,
удостоенный Милошем статьи современник писателя заслуживает
�462 Галина Туркевич
более пристального внимания, представления его крупным планом в
более развернутом жанре, нежели скромная информация в «Азбуке».
Понимал это и сам автор, постоянно озабоченный течением времени, обеспокоенный тем, что одному не в силу найти столь «объемную форму», которая вместила бы все, чем хочется поделиться с
читателем.
Время действия потенциально возможного романа — это, естественно, ХХ век с его жестокостью и одновременно «красой жизни»,
с возможными ретроспективами в различные эпохи. Писатель редко,
казалось бы, обращается к непосредственной характеристике исторического фона, однако он часто присутствует при воспроизведении
образа того или иного современника, что, в свою очередь, является
главным «принципом приближения» истории в хорошо написанных
литературных произведениях. Автор «Азбуки» отнюдь не должен обращаться к образам исторических лиц либо к воспроизведению военных, революционных сцен своего века. Ему достаточно упомянуть
об участи, постигшей многих его вильнюсских (и не только вильнюсских) друзей, знакомых, профессоров, и перед читателем всплывают
самые большие потрясения ХХ века. Среди близких писателю людей
оказались не только «счастливцы» вроде него самого, но также такие,
которые погибли в лагерях тоталитарной системы, которые, не выдерживая исторического и личного напряжения, кончали жизнь самоубийством, которые метались от одной идеологической крайности к
другой, которые вынуждены были покидать родные места и не смогли
адаптироваться на чужбине и т. д. и т. п.
Отметим, наконец, что в первую очередь жизнь самого Милоша — это материал для красочного романа-эпопеи, подтверждением
чего является монография польского исследователя Анджея Франашека «Милош. Биография»14.
В ней множество эпизодов, и сопутствующих им рефлексии и
комментариев (как самого Милоша, так и автора монографии), касающихся неожиданных поворотов судьбы писателя. Автор «Азбуки»,
характеризуя свой жизненный путь, довольно часто обращался к образной параллели с «приключениями Иванушки-дурачка» («przygoda
głupiego Jasia»).
Выходец из обедневшей польской шляхты, рожденный на
задворках Российской империи, проходивший «свои университеты»
в провинциальном межвоенном Вильнюсе, Милош, даже при его
остроумии, не мог предвидеть, что, благодаря своему поэтическому
упорству, станет «гражданином планеты». Анджей Франашек выразил похожую мысль в беллетристическом стиле: «Робкий мальчиш-
�«Азбука» Чеслава Милоша: от вильнюсских истоков к... 463
ка, который в вильнюсском магазине боялся даже сказать, за какими
пришел покупками, в течение девяноста трех лет прошел длинный
путь, встречая на нем Эйнштейна и Элиота, Карла Ясперса и Альбера
Камю, Иосифа Бродского и Сьюзен Зонтаг или же, наконец, Иоанна
Павла II…»15
Как истоки жизни писателя, так и дальнейшие ступени его художественной судьбы сродни «карьере» не одного героя классического
романа или же, в наше время, героя телесериала.
Помещенный в «Азбуке» материал дает вдобавок возможность
создания традиционной эпопеи с любовными интригами, более или
менее привлекательными образами женщин, игрой положительных
и негативных чувств, без чего обычный читатель не представляет
себе романа. «Азбука» содержит немало статей, посвященных именно
образам женщин, в том числе и таких, которые успешно сыграли бы
роль незаурядной героини романа.
В итоге же склонность к аутентичности, отказ от построенного
на фикции повествования, стремление уберечь от забвения уходящую
в прошлое действительность привели Милоша к распространенной на
рубеже ХХ–ХХI вв. «поэтике фрагмента», содержащей задатки как
для развития романной фабулы, так и для создания иных, не ограниченных в своих возможностях жанров.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Miłosz Cz. Wiersze. Kraków, 1987. T. 2. S. 174.
Bogołębska B. Abecadła (alfabety) — popularna forma prozy wspomnieniowej // Literatura polska 1990–2000. Kraków, 2003. T. 2. S. 186–196.
Miłosz Cz. Abecadło. Kraków, 2010. S. 5.
Fiut A. Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza. Kraków, 2011. S. 501.
Miłosz Cz. Abecadło. S. 317.
Ibid. S. 213.
Ibid.
Ibid.
Ibid. S. 214.
Miłosz Cz. Poezje wybrane / Rinktiniai eilėraščiai. Sudarė A. Kalėda. Vilnius, 1997. P. 356.
Iwaszkiewicz J. Opowiadania. Wrocław, 1994. S. 20.
Miłosz Cz. Abecadło. S. 17.
Ibid. S. 117.
Franaszek A. Miłosz. Biografia. Kraków, 2011.
Ibid. S. 9.
�Формирование
представлений о поляках
Светлана Фалькович
(Москва)
в российском обществе
и их эволюция1
Формирование у одного народа представлений о другом народе происходит
под влиянием различных факторов, среди которых прежде всего нужно отметить как непосредственные впечатления
отдельных людей от личных контактов,
так и взаимоотношения целых народов
и стран в ходе исторического процесса.
Оба эти фактора, и особенно второй из
них, приобретают особое значение, если
речь идет о соседних странах. В течение
длительного времени отношения соседей
могут складываться по-разному: это и военные действия друг против друга, и военные союзы, направленные против других
народов, и торговые взаимоотношения, и
культурные связи.
Все это имело место в отношениях
поляков и русских на протяжении веков.
Преобладали конфликты, соперничество,
войны. Средневековая Польша являлась
крупной региональной державой, и ее интересы в регионе Восточной Европы неминуемо сталкивались с интересами Русского государства, хотя порой возникала
и общность целей, прежде всего, когда
требовалось объединить силы для защиты
региона от угрозы с Востока. Дополнительным фактором розни между поляками
и русскими были также религиозные различия. Поляки-католики воспринимались
Фалькович Светлана Михайловна — ддоктор исторических наук, Россия, Москва,
Институт славяноведения
РАН
�Формирование представлений о поляках... 465
на Руси как «чертовы ляхи», «неверные», «нечестивые», «поганые»,
«проклятые» «латиняне», «нехристи», «басурманы»2. Такими эпитетами, в частности, характеризуют поляков козаки — герои повести
Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Здесь наряду с религиозной рознью проявилось также действие еще одного фактора: поскольку Россия являлась многонациональной страной, на отношение русских к полякам
накладывало отпечаток отношение к ним представителей других народов, в частности, украинцев, белорусов, евреев. В то же время влияли и иные факторы, оказывавшие благоприятное воздействие, в том
числе существование культурных контактов между двумя странами:
Польша выступала связующим звеном между Русью и Западом, через нее шли европейские токи — от новейших веяний моды до передовых течений общественной мысли. Однако в целом во взаимных
чувствах поляков и русских превалировали недоверие и неприязнь, а
с конца XVIII в., когда Россия стала участницей разделов Польского
государства, противостояние усилилось. Важнейшим, постоянно действовавшим фактором стало возникшее с этого времени национально-освободительное движение польского народа. Нередко оно выливалось в вооруженные восстания, и большая часть таких выступлений
была направлена против России, что вызывало негативную реакцию
даже у таких представителей просвещенной элиты русского общества, как П. Я. Чаадаев, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, В. А. Жуковский и др.3 Поляки представали как «бунтовщики», и
этот образ «бунтовщика», «извечного врага» России закреплялся официальной российской пропагандой. Она звучала с трибуны Государственной Думы и со страниц печати. Реакционные публицисты националистического толка ставили под сомнение славянскую общность и
возможность братства двух народов. Ссылаясь на исторический опыт
их взаимоотношений, М. Меньшиков, П. Ковалевский и другие писали о ядовитой «польской ненависти», введенной в российский государственный организм, считали поляков в Российской империи потенциальным источником «внутреннего предательства». Эти выводы
подкреплялись указанием на отрицательные черты польского характера — чванливость, тщеславие, коварство и лживость4.
Такие представления о поляках воспринимались значительной
частью российского общества и в известной мере даже разделялись
его просвещенным интеллектуальным слоем — выдающимися представителями русской общественной мысли, литературы и искусства.
Но при этом значимым фактором становилась также «всемирная отзывчивость» русской души, способной понять страдания разделенного и угнетенного народа, что выливалось в сочувствие и поддержку,
�466 Светлана Фалькович
которые простые русские люди проявляли по отношению к полякам,
оказавшимся вне родины, в тюрьме, в ссылке. Что же касается русских
революционеров, боровшихся против царизма, то в их глазах польские
«бунтовщики» были героями, союзниками и братьями: они видели
проявление патриотизма в том, что реакционеры называли польским
национальным эгоизмом и шовинизмом. В результате возник непростой, противоречивый стереотип, и это получило отражение в литературных и музыкальных произведениях русских творцов, смотревших
на поляков как бы «двойным» зрением и соответственно рисовавших
их сложный образ. Такой взгляд нашел выражение в произведениях
А. Пушкина и Н. Гоголя, Л. Толстого и Ф. Достоевского, В. Короленко
и М. Горького, ряда других писателей и поэтов. Неоднозначные музыкальные характеристики поляков представлены также в творениях великих русских композиторов — М. Глинки, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, Б. Асафьева5. Неоднозначно оценивались и история
польского народа, развитие его общественной мысли и политических
форм. В то время как основным выводом большинства консервативных российских историков и социологов стал тезис о порочности
политического строя Польского государства, явившейся следствием
национального характера поляков и приведшей Речь Посполитую
к гибели, такие ученые, как, например, П. Л. Лавров, Ф. М. Уманец,
В. А. Мякотин, В. А. Бильбасов, П. Н. Жукович, высоко оценивали
польский парламентаризм, утверждение в Польше европейского «индивидуального начала»6.
На отношение русских к полякам влиял не только национальный
фактор (а именно факт принадлежности к разным национальностям),
но и фактор классовой борьбы. Если на шляхетском этапе польского
национально-освободительного движения революционеров оба народа объединяла политическая цель свержения царизма, то на пролетарском этапе освободительной борьбы целью стала победа социалистической революции. С достижением этой классовой цели русские социал-демократы связывали и решение национального вопроса в Российской империи, и таким образом, национальные интересы входивших
в нее народов отодвигались на второй план, а на первый выступал
классовый момент. Поэтому большевики были озабочены ростом патриотических настроений в Польше на исходе Первой мировой войны
и, считая польский народ в массе своей настроенным националистически и даже шовинистически (как писал В. И. Ленин на основании
мнения Ф. Э. Дзержинского), видели в этом угрозу борьбе пролетариата7. После Октябрьской революции 1917 г. этот упрощенный, основанный на классовом подходе взгляд укрепился: в официальной
�Формирование представлений о поляках... 467
пропаганде Советской власти возрожденная Польша именовалась
«панской» и представала как «прислужница» европейских держав,
их орудие, направленное против Советской России. Особенно острой,
классово нацеленной пропаганда стала во время советско-польской
войны 1920–1921 гг. В Окнах РОСТА Пилсудский изображался как
марионетка Антанты, толстый наглый пан противопоставлялся польским рабочему и крестьянину; плакаты призывали советских людей
поддерживать этих «польских братьев» и уничтожать их классовых
врагов — «белополяков». Тем же настроением были проникнуты стихи и проза советских писателей и поэтов — В. Маяковского, который
являлся автором многих стихов и рисунков в Окнах РОСТА, Демьяна
Бедного, И. Эренбурга и др. Классовая окраска «польского вопроса»
была характерна для произведений советской литературы и в последующие, 1930-е, годы, что отразилось в творчестве Н. Тихонова,
Н. Асеева, И. Сельвинского, Л. Сейфуллиной и многих других авторов. В их изображении героями польского народа могли представать
лишь революционеры, благородные борцы за дело народа, такие, как
Ф. Дзержинский в стихах В. Маяковского, Н. Асеева, А. Безыменского. Образы польских героев создавались и на советской сцене, где шли
спектакли, посвященные полякам-революционерам: примером могут
служить пьеса и опера на тему побега из ссылки Мигурского и его
жены; тот же сюжет, восходивший к повести Л. Толстого «За что?»,
стал основой одноименного кинофильма. Для внесения положительного начала в польский стереотип были важны также высказывания
таких мастеров советской литературы, как И. Бабель, Б. Пастернак,
О. Мандельштам, о значении польской культуры. Но в целом, как художественные произведения этого периода, так и публиковавшиеся в
печати заметки представителей советской науки и культуры, посетивших Польшу, отражали негативную тенденцию8.
Впрочем, впечатления от увиденного в Польше носили частный
характер, так как закрытость советского общества не давала возможности для массовых контактов между двумя народами. Положение
несколько изменилось после подписания в 1932 г. пакта о ненападении между СССР и Польшей. В течение первой половины 1930-х гг.
между странами был налажен интенсивный культурный обмен, советские люди могли ближе узнать о творческих достижениях польского народа. Но вскоре политическая обстановка ухудшилась, а 1939 год
означал полный разрыв отношений. Это отразилось в пропаганде —
на страницах газет, в стихах и песнях, на киноэкране. Еще накануне
вступления Красной Армии на земли Западной Украины и Западной
Белоруссии советские поэты, в частности, Н. Рыленков, обратились к
�468 Светлана Фалькович
истории русско-польских отношений, напомнив о вековой враждебности. О том же говорила историческая кинокартина «Богдан Хмельницкий». В поэзии В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, В. Луговского и других выражались радость в связи с освобождением украинцев
и белорусов от ига «панской Польши» и готовность ей противостоять.
В то же время В. Шкловский писал о «большой культуре» Польши, напоминал о ее «великой литературе», о вкладе в науку М. Коперника и
М. Кюри-Склодовской. А в замечательном фильме М. Ромма «Мечта»
с большим сочувствием и симпатией была представлена жизнь простых людей Польши, их образы создали выдающиеся актеры Ф. Раневская, Р. Плятт, М. Астангов, Е. Кузьмина9.
С началом гитлеровской агрессии в 1941 г. произошло новое
сближение, но его развитию помешал ряд конфликтных событий
(уход армии Андерса, трагедии Катыни и Варшавского восстания и
др.). Тем не менее, продолжал действовать фактор совместной борьбы против фашизма, осуществлявшейся путем сотрудничества советских и польских партизан, а после создания Польской Армии
Людовой — путем ее участия в военных операциях советских войск.
Братство по оружию обеспечило благоприятную атмосферу для сближения и взаимного узнавания, способствовало преодолению старых
схем, внесению новых положительных черт в образ поляка, что отразилось в советских литературе и искусстве как военных лет, так и
послевоенного времени. Наряду с художественными произведениями,
в советской печати появилась масса заметок и репортажей, дневников
и воспоминаний, связанных с Польшей. Авторы этих публикаций с
восхищением повествовали о подвигах польских борцов с фашизмом,
с сочувствием говорили о страданиях и жертвах польского народа
под игом гитлеровской оккупации, с симпатией рассказывали о новой
Польше, о ее людях. Особой теплотой были проникнуты лирические
стихи, содержавшие признания в любви к Польше, какими являлись, в
частности, стихи Б. Окуджавы. Важное признание было сделано в эти
годы И. Эренбургом, подчеркнувшим, что в новой обстановке отпало
все, что делило поляков и русских перед войной, и они стали ближе
друг другу10.
Этому способствовала и открывшаяся перед советским обществом возможность близко соприкоснуться с польской культурой. В
СССР звучала польская музыкальная классика, широкое распространение получила польская эстрада. В результате советские люди смогли открыть в поляках такие привлекательные черты, как остроумие,
развитое чувство юмора. Неудивительно, что популярность телевизионной программы «Кабачок “13 стульев”», основанной на матери-
�Формирование представлений о поляках... 469
але польских юмористических изданий, была поистине всенародной.
Большим успехом пользовались также польские фильмы, прежде всего — посвященные теме борьбы польских партизан против немецких
фашистов и их боевого содружества с Советской армией: «Зигмунд
Колоссовский», «Запрещенные песенки», «Четыре танкиста и собака»
и др. Эта тема активно разрабатывалась и в советских кинолентах,
таких как «Майор Вихрь», «Вызываю огонь на себя» и др. Развивалась
и лирическая тема любви между полькой и русским, как, например,
в польском фильме «Прерванный полет», где главного героя играл
советский актер Белявский, и в имевшей шумный успех пьесе Л. Зорина «Варшавская мелодия». Пьеса поднимала вопрос о стоявшем
на пути близких отношений между русскими и поляками ограничении демократических прав в социалистическом лагере. Но на пути
взаимного сближения могли встать и другие препятствия, шедшие
из прошлого. Так, молодой лейтенант, герой повести В. Богомолова
«Зося», счел невозможным для себя как комсомольца и неверующего соединить судьбу с католичкой. Казалось бы, религиозный фактор
исчез, когда официальный атеизм советского общества снял значение
различий между православием и католицизмом, однако выяснилось,
что возник новый аспект воздействия этого фактора на взаимоотношения поляков и русских11. Их нормальному развитию мешало и то
обстоятельство, что как в 1930-е гг., так и в послевоенный период до
начала «перестройки» советская система поддерживала сохранение
одностороннего, необъективного подхода к оценке прошлого Польши
и российско-польских отношений. Продолжал действовать классовый
критерий, при котором в научных исследованиях на первый план выдвигалась история борьбы революционного крыла польского освободительного движения и русско-польского революционного сотрудничества, причем масштабы и значение последнего преувеличивались.
Вместе с тем замалчивалась реакционная национальная политика царизма, а патриотизм поляков объявлялся национализмом12.
В целом, определяющим фактором для советско-польских отношений в 1940–1980-е годы являлось участие Польши в блоке социалистических государств: официальная позиция советского руководства
обозначалась признанием польского народа в качестве братского, хотя
оно относилось к полякам по-прежнему настороженно и с подозрением следило за борьбой демократических сил в Польше. В то же время
передовая часть советской общественности следила за ней с интересом и надеждой, поляки в ее глазах выступали как борцы за свободу, как демократический авангард, а сама Польша до «перестройки»
служила советским людям «окном в Европу». Противоречие между
�470 Светлана Фалькович
официальной позицией советских властей в польском вопросе и настроениями оппозиционной общественности в Советском Союзе
ярко проявилось в период выступления в Польше «Солидарности» и
проведения там преобразований политического строя: Польша стала
примером для подражания, а опыт ее борьбы — объектом изучения и
анализа. Наступившая в СССР «перестройка», а затем распад Советского Союза и рождение новой России заставили обратить внимание
не только на проведение в Польше политических преобразований, но
и на ее экономические реформы. Поскольку довоенная Польша считалась экономически отсталым государством, характеристика ее как
страны экономического прогресса внесла новые черты и в образ самого польского народа, подчеркнув его деловые способности, практицизм, надежность в партнерских отношениях. Все это россияне смогли лично проверить в эпоху «перестройки», когда появилась возможность наладить торговые и производственные связи с частными партнерами в Польше. 90-е годы прошлого века стали временем активной
деятельности так называемых «челноков», осуществлявших торговый
обмен между двумя странами. Несмотря на ограниченные рамки товарооборота при такого рода торговле, сам факт установления тысячами
людей — представителями России и Польши — личных контактов,
осуществления ими совместной деятельности во имя общих интересов являлся мощным фактором сближения и взаимного узнавания
народов, создания возможности для ближайшего знакомства с повседневной жизнью соседней страны, с ее культурой и обычаями13.
Все это заложило основу для установления дружественных отношений поляков и русских, для взаимного создания ими позитивных национальных стереотипов. Способствовал этому и религиозный
фактор, воздействие которого в атмосфере «перестройки» приобрело
новое направление. Демократизация общества создала условия для
роста интереса россиян к религии и свободного выражения религиозных убеждений. В этой обстановке представление о религиозности
поляков могло служить созданию положительного образа народа-носителя христианских ценностей. На данном этапе в российском обществе отсутствует противопоставление православия и католичества,
нагнетание религиозных страстей, хотя положение может измениться в случае активизации консервативных сил Русской православной
церкви и воинствующих русских национал-патриотов. Тогда религиозный фактор сможет вновь осложнить процесс достижения польским
и русским народами взаимного положительного восприятия и установления отношений мира и дружбы. На пути дальнейшего развития
этого процесса остается и ряд других конфликтных моментов, глав-
�Формирование представлений о поляках... 471
ным образом связанных с различной оценкой событий общей истории, а также взаимные опасения, проистекающие из факта вхождения России и Польши в разные военно-политические структуры. В
последнее время, особенно после трагедии, происшедшей под Смоленском и вызвавшей в России огромное сочувствие, появилась надежда, что эти препятствия удастся преодолеть и между народами,
тесно связанными в прошлом, установится новая связь, основанная на
равенстве и партнерстве, на общей заинтересованности в мирных отношениях. Это означало бы создание в нашем представлении нового,
положительного образа поляка — друга и брата в общей славянской
семье. К сожалению, не все надежды оправдываются так скоро, и видимо, для достижения конечного результата еще придется приложить
немало усилий и доброй воли с обеих сторон.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
Статья подготовлена в рамках проекта, поддержанного РГНФ, № 10-0100425а.
Подробнее о значении религиозных различий см.: Фалькович С. М. Понятие «поляк-католик» в глазах русских // Acta Polono-Ruthenica IV.
Olsztyn, 1999; Она же. Восприятие русскими польского национального характера и создание национального стереотипа поляка // Поляки и
русские в глазах друг друга. М., 2000. С. 47, 61–62; Falkowicz S. M. Polska i Polacy w wyobrażeniach Rosjan. Refleksje ogólne // Dzieje Najnowsze.
1997. № 1. S. 10.
О значении польских восстаний как фактора формирования национального стереотипа поляка подробнее см.: Фалькович С. М. Роль восстания 1863 г. в процессе складывания национального стереотипа поляка в сознании русских // Polacy i Rosjanie. Warszawa, 2000. S. 157–179;
Хорев В. А. Польша и поляки глазами русских литераторов. М., 2005.
С. 41–59. См. также: Фалькович С. М. Основные черты польского национального характера в представлениях русских (эволюция стереотипа)
// Polacy w oczach Rosjan — Rosjanie w oczach Polaków. Warszawa, 2000.
S. 115–140.
Ковалевский П. И. Национализм и национальное воспитание в России.
СПб., 1912. С. 150–151. Подробнее см.: Фалькович С. Восприятие русскими польского национального характера… С. 48–49; Она же. Проблемы католической церкви и католической веры в Государственной
Думе после революции 1905–1907 гг. в России // Katolicyzm w Rosji i
prawosławie w Polsce (XI–XX w.). Warszawa, 1997. S. 277–285. См. также:
�472 Светлана Фалькович
5
6
7
8
9
10
11
Фалькович С. М. Вопросы католической веры и католической церкви в
Государственной Думе после революции 1905–1907 гг. // Католицизм и
православие в Центральной и Центрально-Восточной Европе. Warszawa, 1996.
Подробнее см.: Фалькович С. Восприятие русскими польского национального характера… С. 49–53; Falkowicz S. M. Polski charakter narodowy w oczach Rosjan. Kształtowanie się narodowego stereotypu Polaka //
Dzieje Najnowsze. 1995. № 2. S. 46–49; Idem. Polska i Polacy w literaturze
i sztuce Rosji // Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć. Warszawa, 2002.
S. 77–82; Choriew W. Temat Polski i jego interpretacja w rosyjskiej literaturze XX w. // Dzieje Najnowsze. 1997. № 1. S. 69; Хорев В. А. Польша и
поляки… С. 121–124, 126.
См. подробнее: Фалькович С. Восприятие русскими польского национального характера… С. 53–56; Falkowicz S. M. Polska i Polacy w wyobraїeniach Rosjan… S. 9; Idem. Polski charakter… S. 49–52; Fiłatowa N.
Polska w rosyjskiej myśli historycznej // Polacy i Rosjanie… S. 21–33.
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1969. Т. 31. С. 432, 436. Подробнее cм.: Czernych M. N. Kwestia polska w interpretacji dwóch nurtów
rosyjskiej myśli socjalistycznej w XX wieku // Dzieje Najnowsze. 1997. № 2.
S. 50–66.
См.: Matwiejew G. F. «Polscy imperialiści», «polscy panowie», «białopolacy». Wybrane aspekty propagandy radzieckiej na temat Polski na przełomie
pierwszej i drugiej dekady XX wieku // Polacy i Rosjanie… S. 88–92; Choriew W. Temat Polski… S. 54–56; Falkowicz S. M. Polski charakter… S. 54–
56; Idem. Polska i Polacy w literaturze i sztuce Rosji... S. 82–83; Липатов А.
От «ублюдка Версальского договора» до «братской страны соцлагеря»
(государственное искусство и идеологические стереотипы) // Поляки и
русские… С. 122–123; Агапкина Т. Польша по путевым впечатлениям
русских писателей (стихи и очерки 30–70-х гг. XX в.) // Поляки и русские… С. 164–167.
Хорев В. А. Польша и поляки… С. 138–142; Choriew W. Temat Polski…
S. 75–77; Falkowicz S. M. Polski charakter… S. 56; Lipatow A. W. Obraz Polski i Polaków w radzieckiej sztuce filmowej. Twórczość sterowana i stereotypy ideologiczne // Dzieje Najnowsze. 1997. № 1. S. 94–96; Липатов А. От
«ублюдка Версальского договора» до «братской страны соцлагеря»…
С.124–127; Агапкина Т. Указ. соч. С. 167.
Агапкина Т. Указ. соч. С.168–182; Хорев В. А. Польша и поляки… С. 169–
172; Choriew W. Temat Polski… S. 79–82.
Фалькович С. М. Польша и поляки в глазах россиян (1945–2003) // Польша — СССР. 1945–1989: избранные политические проблемы, наследие
прошлого. М., 2005. С. 380; Хорев В. А. Польша и поляки… С. 171–173;
�Формирование представлений о поляках... 473
12
13
Choriew W. Temat Polski… S. 79; Lipatow A. W. Obraz Polski i Polaków…
S. 96–98.
Подробнее см.: Фалькович С. Восприятие русскими польского национального характера… С. 65–66; Она же. Польша и поляки… С. 378–379;
Falkowicz S.M. Polski charakter… S. 56–57; Fiłatowa N. Op. cit. S. 33–34.
См. подробнее: Фалькович С.М. Польша и поляки в глазах россиян…
С. 380–383. См. также: Фалькович С. М. Представления русских о Польше и поляках. Вчера и сегодня // Кто мы в современном мире. М., 2000;
Она же. Стереотип поляка в глазах русских и факторы его эволюции //
Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne. Łódź, 2003. S. 209–216.
�«Москаль с мордой
таксы…» Россия и русские
Наталия Филатова
(Москва)
в творчестве Ю. У. Немцевича
в эпоху конституционного
Королевства Польского
Эта забавная и, прямо скажем, русофобская цитата из Ю. У. Немцевича
вынесена в заглавие не случайно. Оригинальный и неожиданный образ, очевидно, отражает стереотип москаля-азиата с
раскосыми, как у этих безобидных собачек, глазами. Однако точностью перевода этой фразы я обязана именно Виктору
Александровичу, который не раз превосходил как польских друзей не-филологов,
так и польских коллег-филологов своим
знанием ныне вышедшей из употребления
лексики или же разгадыванием игры слов
в современной рекламе. Так, слово taks относится в польском языке к устаревшим,
современное название таксы — jamnik. Так
вот, среди всех знакомых поляков, кому
задан был этот вопрос, не нашлось никого,
кто бы смог адекватно прочитать выражение поэта «Moskal, co ma mordę taksa». С
уверенностью подтвердил этот перевод
только профессор Хорев…
Ktoż w opiętym Moskalu, co
ma mordę taksa,
Ujrzy Patrokla albo mężnego
Ajaksa?
J. U. Niemcewicz
«Moje marzenia», 18361
***
Немцевич и Россия — тема многогранная, безусловно, ожидающая еще
подробного изучения. Единственным
известным нам ее обобщением является
относительно недавно написанная статья
М. Рудковской2. И это неудивительно, ибо
Филатова Наталья Маратовна — кандидат исторических наук, Россия, Моск
ва, Институт славяноведения РАН
�«Москаль с мордой таксы…» Россия и русские в творчестве... 475
обширное наследие писателя до сих пор разбросано по отдельным изданиям и ныне интересует в большей степени историков, нежели литературоведов. До последних лет ряд важных дневниковых записей и
произведений Немцевича был доступен исследователям лишь в рукописном варианте: только сейчас, благодаря стараниям польского историка И. Русиновой, увидели свет «Дневники» писателя за 1820–1828,
1835–1836 и 1837–1838 гг., а также роман «Владислав Бойомир» (1827),
в основе сюжета которого лежат политические реалии конституционного Королевства Польского3.
Следует согласиться с М. Рудковской в том, что культурная биография Ю. У. Немцевича представляет собой «сильно политизированный вариант частной жизни», где Россия выступила «катализатором
политического мышления»4. Поэт, просветитель, публицист, государственный и общественный деятель, Юлиан Урсын Немцевич (1758–
1841) имел свои личные счеты с Россией и русскими. Они восходили
к эпохе разделов и были связаны с его собственной судьбой: образ
русского и тема российско-польских взаимоотношений возникают
еще в 1793 г. в стихотворении «Апология московской армии в Польше
Ивана Васильевича, офицера этой армии». Немцевич принимал участие в восстании Костюшко, за что был заключен в Петропавловскую
крепость — этот страшный опыт запечатлен в «Печалях Ю. У. Немцевича в московской (т. е. русской. — Н. Ф.) тюрьме, обращенных к
приятелю» (1795). Большую часть жизни Немцевич вел дневниковые
записи, в которых содержались оценки политических событий и характеристики современников5.
Большинство художественных произведений этого плодовитого
автора также написано по следам общественно-политических событий, тесно увязано с актуальной ситуацией. А. Мицкевич писал, что
Немцевич «использовал свои сочинения как орудия борьбы с врагами
Польши. <…> Если все, что пишется под влиянием момента, что предназначено для сиюминутного воздействия, является лишь памфлетом,
то можно было бы сказать, что почти все сочинения Немцевича-поэта
и историка представляют собой памфлеты, что Немцевич был всего
лишь памфлетистом, но зато величайшим из всех когда-либо существовавших памфлетистов: всегда приверженным одному и тому же
делу, всегда одинаково преданным отчизне и ненавидящим ее врагов…»6.
Предметом внимания в данной статье (претендующей лишь на
беглый обзор заявленной проблематики) будут преимущественно произведения, написанные Немцевичем или же опубликованные в период
существования конституционного Королевства Польского (1815–1830)
�476 Наталия Филатова
под эгидой России. Именно эта эпоха, связавшая возрождение польской государственности с Российcкой империей, создала ситуацию
постоянного сосуществования жителей этой части Польши с русскими, которые рассматривались не просто как чужие, но как представители чужой власти. Мы обратимся к художественным произведениям
различных жанров — как к тем, которые либо непосредственно отразили актуальную политическую ситуацию в Королевстве Польском и
именно из-за этого не могли быть опубликованы в то время, однако
ходили в списках и безусловно воздействовали на общественное мнение, так и к увидевшим свет в 1815–1830 гг., а следовательно, открыто
обсуждавшимся в польском обществе. Главным для нас представляется возможность реконструировать характерный для польского сознания того времени и альтернативный официозному образ России.
В подобном имагологическом контексте творчество Немцевича (признанного авторитета эпохи, чью власть над умами сравнивали в ту
пору с политическим всемогуществом великого князя Константина в
Польше7) может быть рассмотрено не только как пример, объект casestudy, — возможно с полным правом говорить о нем как о самостоятельном культурном феномене.
Годы, предшествовавшие образованию конституционного Королевства Польского, были временем бурных перемен и резкой смены политических векторов. Важнейшим событием для поляков стало
образование Княжества Варшавского под протекторатом Наполеона
и участие польских войск в его российской кампании. Первые поэтические отклики на военные события были связаны с провозглашением объединенной Польши. Стихи публиковались в центральной
прессе Княжества Варшавского и печатались отдельными листовками. Уже номер «Gazety Warszawskiej» от 30 июня 1812 г. содержал
обширную подборку стихотворений, зовущих поляков в бой. Среди посвященных «возрожденной» (т. е. объединившейся с Литвой)
Польше стихотворений Ф. Венжика, К. Тымовского, Ф. Скарбка мы
находим «Военную песню, спетую 28 июня в театре» Ю. У. Немцевича («По коням, братья, по коням…»). Как и другие поэты, Немцевич
воспевал солидарность всех поляков, в том числе жителей земель, в
эпоху разделов отошедших к Российской империи: «Rodak pod obcemi Pany wyciąga do was swe dłonie» («Ваш родич из своей неволи вам
руку дружбы подает»)8.
Призывы идти воевать подкреплялись историческими реминисценциями, которые формировали определенный набор клише, постоянно тиражировавшийся. Конечно же, на первое место выдвигалась
память о разделах Польши:
�«Москаль с мордой таксы…» Россия и русские в творчестве... 477
Te, co wściekłością swej dumy
Ziemię waszę rozszarpały,
Przysięgły w ślepym zapędzie,
Że Polski nigdy nie będzie.
Кто яростью охвачен был
И вашу землю захватил,
Клянется в бешеной гордыне:
Навечно ваша Польша сгинет.
(Ю. У. Немцевич «Военная песня, спетая 28 июня в театре»)
Особую роль в историческом сознании играло, безусловно, подавление русскими восстания под руководством Т. Костюшко:
Wołają pomsty zniewagi
I rzeź i morderstwa Pragi.
(Там же)
К небу недаром наш глас вопиёт
Месть за Праги резню придет.
Крайним выражением антироссийской пропаганды на польских землях в 1812 г. становятся «Литовские письма» Ю. У. Немцевича, опубликованные самостоятельным изданием, а также печатавшиеся отрывками в
газетах Литвы («Kurier Litewski») и Княжества Варшавского9. Это агитационное произведение представляет собой основанные на историософских
рассуждениях о прошлом России вымышленные письма русского дворянина Ивана Сергеевича к государю Александру I с просьбой прекратить
борьбу с Наполеоном и вступить в союз с ним. Негативный образ России в
них доведен до крайности. Немцевич проходится в «Литовских письмах»
по всей русской истории, называя ее кровавой: «Загляните в московскую
историю от Рюрика до наших дней. Что вы в ней найдете? Череду убийств:
Иван убил Ярослава, Ивана задушил Василий, Василию приказал выколоть глаза Алексей… и так до Екатерины, Петра и Павла. Найдется ли хоть
один благородный поступок, хоть след великодушия в монархах или народе? Даже мнимый основатель вашего величия, этот Петр Великий, правящий уже в XVIII в., — сколько же он совершил жестокостей! <…> И с
такими-то зверствами вы хотите считаться европейцами!»
В этих политических брошюрах польский просветитель описывает русскую культуру как варварскую. В вымышленных письмах
русского к соседу-поляку он пытается показать менталитет русского помещика, главное развлечение которого — «мужиков мучить и
бить». Россия ассоциируется у Немцевича со свиньями, капустой,
первобытными нравами, охотой на белых медведей. Царские сановники — это «бояре во фраках», ибо сущность москаля на протяжении веков не изменилась: он не стал цивилизованным. Русский народ
Немцевич характеризует как «темный во всем, но знающий ремесло
войны. В нем слепое послушание заменяет любовь к родине, чувство
чести и все добродетели…»10
�478 Наталия Филатова
Тем не менее, история шла своим чередом, и, начиная с января
1813 г., по мере продвижения русской армии на запад, настроения
польских элит и идеологическая направленность варшавской прессы
кардинально менялись.
7 января 1813 г. Ю. У. Немцевич читал на заседании Общества
друзей наук свое стихотворение «Конец последнего похода», в котором характеристика уже торжествующего неприятеля ограничивалась
именованием его «северным колоссом, который долго грозил миру и
стирал с лица земли народы». В походе на Россию поляки, по словам
Немцевича, «много потеряли, но оставили за собой славу», ибо показали русским, как они умеют сражаться и умирать за отчизну. «Возрадовались тени павших на Праге» и польская кровь была пролита не
напрасно, ибо будущее еще покажет, на что способен польский народ:
Niech się próźno nie chełpi Rusin
zaślepiony;
Wtenczas lew najstraszniejszy, kiedy
obrażony.
Пусть замолкнет русина победный
напев,
Страшен в гневе обиженный
лев11.
Однако писатель принадлежал к конструктивно настроенным
политическим деятелям, полагая, что лучше получить возрожденную
Польшу из «ненавистных московских рук», чем не иметь ее вовсе.
Адам Ежи Чарторыский свидетельствовал, что перелом в настроениях Немцевича произошел после битвы при Березине. Надежды
на новую политическую ситуацию отразились, в частности, в опере
«Ядвига, королева польская» на либретто Ю. У. Немцевича, музыку к
которому написал К. Курпиньский. Премьера этой оперы состоялась
23 декабря 1814 г. и была воспринята публикой как аллюзия на скрытые обещания Александра I объединить Польшу с Литвой, поскольку сюжет произведения напоминал об обстоятельствах давней польско-литовской унии. Опера имела оглушительный успех и, в отличие
от верноподданнических однодневок, долго не сходила со сцены, ибо,
по словам критика того времени, поднимала тему «отечественной
истории в эпоху столь решительную для Польши»12.
Понимая необходимость компромисса с Петербургом, Немцевич вошел в состав Комитета по организации будущего Королевства
Польского. На образование Королевства Польского он откликнулся
басней «Муравейник» (написана 20 июня 1815 г. в Вилянове), в которой утверждал необходимость созидательного труда на благо нового
государства. Ее содержание таково: после того как буря разрушила
муравейник, несчастные муравьи влачат жалкое существование. Но
�«Москаль с мордой таксы…» Россия и русские в творчестве... 479
вот ветер подул с противоположной стороны и вернул муравьев на
прежнее место — однако они недовольны, что их дом не таков как
прежде. Тогда самый мудрый из них — «Катон» муравьиной республики — призывает ее жителей ценить то, что они имеют:
Odzyskać imię mrówek, swego przewodnika
Mieć jeszcze i własnego używać języka.
Przecież przyszło to szczęście, my jednak niebaczne,
Niezważając, że dobro zyskane już znaczne,
Trapiemy się, i skargę szerzemy zuchwałą,
Że mrowisko nie takie jak przedtym bywało13.
В 1815 г. Немцевич был представлен на аудиенции императору
Александру I, а впоследствии и императрице.
В эпоху конституционного Королевства Польского Немцевич не
отказался от деятельной общественной позиции: занимал должность
секретаря Сената, активно участвовал в работе Общества друзей наук
(с 1826 г. фактически являясь его председателем). Его речи (в частности, над могилой бывшего председателя Сената Т. Островского, на
смерть Т. Костюшко в 1817 г. или министра финансов Королевства
Польского Т. Матушевича в 1819 г.) становились политическими событиями из-за содержащейся в них иносказательной критики российских
властей. Немцевич болезненно реагировал на присутствие русских в
Королевстве Польском. В письме от 3 октября 1815 г. он свидетельствует: «Варшава так заполнена москалями, что император увидит не
Варшаву, а малый Петербург»14.. Он отмечает не только «недоверие,
которое возбуждало новое положение дел под московской опекой»,
но и «общий дух нерасположения к москалям»15. Будучи членом Комиссии народного просвещения, Немцевич в 1818 г. резко выступил
против проектов введения в программу польских учебных заведений
русского языка, благодаря чему эти проекты не были реализованы.
Особый антагонизм сложился у Немцевича с представителями русской власти — с великим князем Константином Павловичем,
деспотизм и необузданный нрав которого писатель тут же запечатлел
в прозвищах «монстр» и «Калигула», отзываясь о временах господства великого князя в Польше как об эпохе «капральства», а также —
и в первую очередь — с полномочным императорским делегатом при
Государственном совете Н. Н. Новосильцевым. Для своих недругов,
в том числе поляков, проявлявших, по его мнению, излишний сервилизм, поэт не щадил едких прозвищ, тут же расходившихся по Варшаве. Ненавидимого им Новосильцева Немцевич именовал не иначе как
�480 Наталия Филатова
«Zyzowaty» (т. е. косоглазый), а Константина Павловича — «Apollon
du Belvedère au nez grec» («Аполлон Бельведерский с греческим носом», франц.). В то же время, завязав дружеские отношения с близким
ему по духу П. А. Вяземским, Немцевич искренне сожалел о его отъезде из Варшавы.
Эпоха конституционного Королевства оказалась в высшей степени творчески плодотворным периодом для Немцевича. Наибольшую
славу Немцевичу-поэту и патриоту принесли его знаменитые «Исторические песни» (первый раз изданные в 1816 г., а впоследствии неоднократно переиздававшиеся). Эти поэтические сочинения, собранные
под одной обложкой и посвященные героическим страницам польской
истории, оказали необычайное влияние на польское национальное и
историческое сознание. Естественно, что некоторые из «песен» были
посвящены историческим столкновениям поляков и русских. Перед их
первой публикацией министр — статс-секретарь Королевства Польского — перевел на русский язык и представил Александру I отрывки, которые могли показаться враждебными России. Однако тогда, в период
надежд на стабилизацию русско-польских взаимоотношений, император ответил, что не собирается ничего вычеркивать из истории. К этому
вопросу вернулся в 1826 г. Новосильцев, отмечавший пагубное влияние
«Исторических песен» на молодежь и сообщивший, между прочим, Николаю I, что среди иллюстраций к ним находится гравюра, изображающая русского царя в оковах16. Польской цензуре было рекомендовано
изъять эту книгу из школьных программ и библиотек.
В 1819 г. вышла в свет «История Сигизмунда III», взбудоражившая русские власти (Немцевич писал ее в 1811–1812 и 1815–1816 гг.).
Современный польский историк подчеркивает ее научную значимость
для историографии Смуты и стремление автора к объективному освещению событий17. Тем не менее, нельзя не отметить, что Немцевич,
используя в основном польские источники и западную литературу,
хотя и ссылаясь на русские летописи (в польском переводе), описывает
русскую историю начала XVII в. как полную необузданных страстей,
предательств и убийств жестокую историю народа, далекого от европейской цивилизации. Немцевич подчеркивает историческую связь
между москалями (писатель был против самоназвания «русский») и
татарами, приведшую к слиянию в русском народе азиатского и славянского начал. Польский просветитель с подробностями представляет читателю убийства, казни и пытки, которыми сопровождалась
смена власти в России.
По его мнению, для такого народа воспитанный на польской
почве европеизированный Лжедмитрий предоставлял исторический
�«Москаль с мордой таксы…» Россия и русские в творчестве... 481
шанс. Однако шанс этот был упущен из-за того что самозваный правитель опережал свой народ и не мог приспособиться к его темноте
и отсталости: «При других царях пытки, зверства, страшная смерть
ждали бы преступников или даже лишь неосторожных, но жестокость
и даже суровость не были характерны для властителя. Прожив столько лет среди человечного и кроткого народа, где бы он научился жестокости?» Лжедмитрий пренебрегал русскими обычаями, а «презрение никогда не прощается… ибо… национальная гордость тем больше, чем ниже степень просвещения»18
Близко знавший Немцевича К. Козьмян вспоминал, что его обращение к «исторической эпохе крупнейших войн между Россией и
Польшей, конфликтов и ненависти» было связано с «безудержной ненавистью и желанием отмстить России, которые поселились в сердце
писателя после пребывания в петербургской тюрьме». Поэтому в свои
произведения он вставлял «все, какие мог собрать, самые едкие насмешки и пасквили, изображающие в обидных красках и выражениях варварство и невежество русского народа. В своих рассказах он не
называл его русским, но часто употреблял презрительное прозвище
Moskwicin»19.
Публикация «Истории Сигизмунда III» вызвала острую реакцию
Новосильцева и способствовала введению цензуры в Королевстве
Польском. Цензор Ю. К. Шанявский, не успевший изъять из печати
эту книгу, велел всюду, где встречалось слово Moskwicin, заклеивать
его словом русский20.
В изданных в Варшаве в 1817 и 1820 гг. «Баснях» Немцевича
наряду с немногими новыми присутствовали и произведения, написанные ранее — до 1815 г. Некоторые из них — как, например, басня
«Крысы», представляли русских как захватчиков. В их уста вкладывались заявления:
Od wieków do spiżarni waszej
mamy prawa.
Bierzem ją, a na dowód względów
nieprzebranych,
Was przyjmujem za poddanych.
Мы издавна имеем права на
вашу кладовую.
Берем ее себе, а вы — на то есть
тысяча причин —
Должны нам подчиниться21.
Русского обычно изображал медведь, как, например, в басне
«Лев, медведь и комары», где этот дикий зверь, которого почтительно-шутливо величают «Wasza niezgrabność», оказывается непрошенным гостем:
�482 Наталия Филатова
Z krajów szczęśliwych, gdzie ni
mniej ni więcej
Zima trwa dziesięć miesięcy,
Niezgrabny niedźwiedź
znudziwszy się w borze
Ni pytany ni proszony
W cieplejsze przywłokł się strony.
Из блаженной страны, где зима
длится
Ни много, ни мало десять месяцев,
Неуклюжий медведь, заскучав в
своем лесу,
Незваным гостем
притащился в края потеплее22.
Безусловно, «эзопов язык» польских басен начала XIX в. сегодня не всегда поддается адекватному прочтению. Причиной тому не
только порой непонятные современному исследователю исторические
аллюзии, но и конвенции самого жанра: персонажи и мораль басен
вовсе не обязательно должны вызывать исторические ассоциации.
Однако, как писал еще Адам Мицкевич, «Медведь Немцевича это не
медведь Лафонтена. У Немцевича медведь это почти всегда москаль
или великий князь Константин <…> Он облекает в басни кружащие
по городу анекдоты, запечатлевает в них черты и пороки конкретных
людей. Тогда эти намеки были всем понятны, в то время как сейчас
его басни во многом утратили свое значение»23.
Характерно, что с медведем Немцевич впоследствии сравнит самого российского императора в эпиграмме 1836 г.:
Niedźwiedzią skórą gdy się car okrywa,
Tak się ta skóra odzywa:
Nie warto było zdzierać mnie z jednego,
By mną okrywać drugiego24.
В подобном ключе можно рассмотреть и басню Немцевича «Обезьяна в маскараде». Как показал А. М. Курпель, основой ее сюжета
стал реальный исторический эпизод, когда известный комик А. Жулковский привел на маскарад закутанную в домино известную варшавскую куртизанку в костюме обезьяны25. В басне же фигурирует реальная обезьяна, на которую надели маскарадный костюм — «шляпу со
страусовыми перьями» и маску, скрывающую «плоское лицо». Люди,
принимающие ее за иноземного принца или фельдмаршала и ищущие
ее протекции, по словам баснописца, пресмыкаются перед животным лишь из-за его надменной поступи. Однако современники могли
уловить некие аллюзии как в описании приобретшего человеческий
облик животного (конечно же, говорить о прямых намеках на представителей российской власти в подцензурном произведении 1824 г.
было бы слишком смело), так и в неоднократном употреблении слова
�«Москаль с мордой таксы…» Россия и русские в творчестве... 483
płaski, означающего не только «плоский», но и «пошлый», «подлый».
Неслучайно в комедии Немцевича «Подозрительный» ненавидимый
поляками Новосильцев выведен под именем Płaski. Как бы то ни было,
мораль басни была направлена против низости толпы, пренебрегающей «разумом, науками, истинными заслугами» ради преклонения
перед «подлой сущностью», которая могла вполне ассоциироваться с
чужой властью («иностранный вельможа»).
Кроме этого, в те годы был написан ряд неподцензурных произведений Немцевича, ходивших по рукам в списках, — в том числе пьесы «Подозрительный» («Podejrzliwy», 1819), «Тщеславный» («Próżny»,
1819), «Между двух стульев» («Dwa stołki», 1830), роман «Владислав
Бойомир» (1827), поэмы «Размышления в Урсынове» («Dumanie w Ursynowie», 1825–1826), «Прометей» (1826), «Мои метаморфозы» («Moje
przemiany», 1828–1829).
Общие черты, которые объединяют три сочинения Немцевича, — «Подозрительный», «Владислав Бойомир» и «Между двух
стульев» — их злободневность, отражение политической ситуации,
и прежде всего, пристальное внимание к российской власти в Королевстве Польском, а также изображение — фактически без какой бы
то ни было маски — конкретных исторических лиц. В каждом из этих
художественных произведений главным отрицательным персонажем
является Новосильцев, выведенный соответственно под именами:
Płaski, Zyzowaty, Zyzow; появляется либо упоминается великий князь
Константин или списанный с него персонаж.
Пьеса «Подозрительный» была написана в 1819 г., но из-за практически не скрываемого автором политического подтекста была поставлена в Варшаве лишь в 1831 г., во время восстания. Ее главный
герой граф Оронт («всегда беспокойный и оглядывающийся») отличается необыкновенной подозрительностью. Жену он подозревает в
измене и сам лично проверяет, «человеческие следы или копыта» у
нее под окном; детей — в своеволии и тайных замыслах, в том, что
они являются членами «страшного заговора против него». В одной
из сцен он с пристрастием допрашивает повара, о чем шептались слуги на кухне, и заставляет его в своем присутствии съесть приготовленные для господского стола грибы, подозревая, что тот посыпал их
мышьяком.
К подобному поведению его подстрекает отрицательный герой
Płaski, который, преследуя свои корыстные цели, уверяет графа, что
заговор против него носит сложный и разветвленный характер. Очевидно, что Подозрительный — это портрет великого князя Константина. Характерны его высказывания:
�484 Наталия Филатова
Lud powinien być głupim i powinien wierzyć
Że człowiek taki jak ja nigdy się nie myli,
Że co czyni to dobrze
или
Nie znano by na świecie spisków ni zamętu,
Gdyby nigdzie nie było piór i atramentu 26.
Płaski же — это Новосильцев, который в пьесе плетет сложные
интриги, использует фальшивые письма, подкупает слуг. Знаменательна сцена, в которой Płaski собирает шпионов: почтальона, перехватывающего письма, адресованные домашним графа, старика,
который доносит, что бабы о чем-то шепчутся в костеле и т. д. По
мысли Немцевича, атмосфера в доме графа напоминает атмосферу
в Королевстве Польском (авторское примечание свидетельствует,
что цензура особенно протестовала против фразы: «Самое подлое
ремесло — это ремесло шпиона»). Характерно также преследование
Płaskim учеников, которые, не заметив графа, не сняли перед ним
шапок. Это позволило исследователям сомневаться в датировке пьесы, видеть в ней эхо виленского процесса филаретов и относить ее к
1823–1824 гг.27
Судьба главного героя исторического романа-памфлета «Владислав Бойомир» вместила перипетии, характерные для жизни польского
юноши-патриота 1820-х гг. (Можно утверждать, что Немцевич создает
здесь «типичную биографию» человека эпохи, совпадающую с будущими клише исторического сознания.) На первых страницах романа
обвиненный в карбонаризме Бойомир был обрит наголо по приказу
великого князя. После неудавшихся попыток Новосильцева и его приспешников завербовать юношу в шпионы и заставить доносить на своих соучеников он в конечном итоге оказался в тюрьме «у кармелитов»
(якобы за надпись на школьной парте «Vivat kanstytucya 3-go maja,
smert tyranom!»). После полутора лет заключения Владислава ждала «ненавистная» служба в расквартированном в Варшаве русском,
а не — как хотелось бы герою — польском полку. В это время все
тот же Новосильцев с помощью Байкова пытался обманом соблазнить
невесту Бойомира Людмилу, однако коварные планы негодяев были
расстроены и молодые люди соединились в счастливом браке. Семейная жизнь героя была сопряжена с попытками исполнить патриотический и гражданский долг: избранный послом на сейм от калишского
воеводства (прямая отсылка к судьбе главы либеральной оппозиции
в Королевстве Польском В. Немоёвского!), Бойомир из-за излишнего
политического усердия не был допущен к повторному депутатству.
�«Москаль с мордой таксы…» Россия и русские в творчестве... 485
Общий фон постоянного присутствия русских в Королевстве
Польском обозначен как периодическим появлением второстепенных
персонажей, например, казаков, бородатых извозчиков («Едва мы выехали на какую-то улицу, скачущий на коне казак закричал, что здесь
нельзя ехать, потому что сейчас будет военный парад»28), так и переполняющими роман русицизмами: «Gosudar», «gołubczyku mój», «kakoj bezczelnoj suki syn», «charaszo, charaszo», «won odsiuda», «A sztosz
ty buntowszczyk dawolen?», «Molczy durak!» и т. п. Характерно, что русицизмы не только вложены в уста русских персонажей и призваны
обозначить их пренебрежительный тон, но и вкраплены в авторское
повествование (например, Wieliki Kniaź наряду с Wielki Książe), что
дает представление о смешении языков, которым пользовались русские и поляки в Королевстве Польском.
Zyzowaty в романе «Владислав Бойомир» — явно карикатурный
персонаж. Неприглядные, отталкивающие своим натурализмом картины его злоупотребления алкоголем («багровый как свекла, так отвратительно разящий вином и ромом, он казался огнедышащим драконом,
извергающим смрадное пламя»), развратного поведения («животная,
безудержная страсть» к «krassawice» Людмиле), сочетаются с открытыми антипольскими речами. Русификация Польши — вот его главная,
неприкрытая идеология: «Одна из первых целей моего плана — опорочить поляков перед Государем, изгладить из памяти ту славу, которую
они приобрели в мире благодаря своему мужеству, стойкости, гражданственности. Оподлить их характер, притесняя порядочность и возвышая, награждая только низость, бесчестность, забвение стыда и слепое
послушание нашей воле. <…> Из просвещенных они у меня превратятся в глупцов, темных и суеверных, такие легко вольются в безбрежное
Русское Царство. <…> от мерзкой Польши не останется и следа»29
Преданный слуга Новосильцева Байков, не гнушаясь средствами,
помогает ему в устройстве грязных дел и повторяет вслед за начальником: «Я не нахожу ничего плохого в том, чтобы Ляхи как можно скорее
поглупели»30. (Отметим, что образы и сюжеты «Владислава Бойомира»
созданы еще до написания Мицкевичем III части «Дзядов».)
Характеристики великого князя более сдержанны. Описывая его
отталкивающую внешность и дикие выходки, Немцевич не избирает
его объектом прямой сатиры. В то же время некоторые наиболее одиозные высказывания Константина Павловича сопровождаются примечаниями самого Немцевича — «исторически верно». Обобщенным
же характеристикам России приданы памфлетные черты: «…в московской империи воровство — это повсеместный обычай. … Крадут
все, кроме самого царя, так как у себя самого он красть не может»31.
�486 Наталия Филатова
Сюжет комедии «Между двух стульев», написанной в 1830 г.,
был посвящен колебаниям польского сановника Дамона (прообразом которого М. Мычельский считает К. Козьмяна)32 между приверженностью польским патриотическим кругам и лояльностью к Новосильцеву, который здесь носит имя Zyzow. Герой пьесы находится
в двусмысленной ситуации, ибо хороший тон требует презирать и
избегать Zyzowа, а своекорыстные интересы диктуют обратное. Об
отношении польского общества к Zyzowu, который награжден все
теми же характеристиками (пьяница, развратник, враг польского патриотизма, беспринципный вершитель произвола) сообщается следующее:
…kto się brata z tym padalcem,
Już od wszystkich wzgardzony, wytykany palcem33.
В пьесе присутствует сцена несправедливого суда над положительным героем в монастыре кармелитов под председательством Zyzowа, которая заканчивается вынесением смертного приговора. Однако конец оказывается счастливым: по приезде монарха в Варшаву
Zyzow попадает в немилость и добродетель торжествует. Таким образом, благодетелем поляков оказывается все же император, которого
именуют «наш король».
Подобное завершение пьесы, на наш взгляд, характерно, ибо
этика эпохи требовала лояльности и почтения по отношению к российским императорам, которые являлись одновременно польскими
королями и позиционировали себя как преемники польских королевских династий. В определенной степени это распространялось и на
великого князя — представителя правящей династии, брата польских
королей. В печатном слове Немцевич мог описывать его, критиковать,
но не высмеивать. Так, если Płaski в «Подозрительном» — негодяй,
то граф Оронт просто заблуждается, по отношению к нему автор не
допускает непочтительных высказываний.
Образ России в творчестве Немцевича дополняла историософия.
В поэме «Размышления в Урсынове» (1825–1826) русские представлены как исторические противники поляков. Их описание в полной мере
демонстрирует характерные черты присущего еще пропагандистской
литературе 1812 г. этностереотипа. Они идентичны варварам и азиатам — татарам, киргизам, калмыкам. Немцевич обращается к эпохе
разделов, описывая ее как нашествие «толпы варваров», борьбу поляков с «зависимостью от татар». Будущее также кажется Немцевичу
пугающим:
�«Москаль с мордой таксы…» Россия и русские в творчестве... 487
Boże! Mająż te czasy jeszcze się
powtórzyć,
Z nurtów Wołgi i Newy mająż się
wynurzyć
Powtórne najezdników
barbarzyńskich hordy
Roznieść srogie zniszczenia,
pożogi i mordy.
Zgasić w Europie światła
wznowioną pochodnię
I dać nam swą niewolę, ciemnoty
i zbrodnie!
Боже! Неужели повторятся те
времена,
И с берегов Волги и Невы вновь
ринется на нас
Ужасная орда варваровзахватчиков,
Чтобы принести нам разруху,
пожары и убийства,
Погасить в Европе факел
просвещения
И навязать нам рабство, темноту
и преступления!34
Cатирическая поэма «Прометей» также тиражировала стереотип
варварской России:
Czymże rozum, nauka, dusza
niezachwiana,
Что могут разум, наука,
непоколебимая душа
Przeciw żelaznej szabli lub pice
ułana,
Против железной сабли или
пики улана?
Jeden Kałmuk znad Wołgi za
najmniejszą zwadą
Калмык с Волги бестрепетно
Zgniecie Homera z całą jego Iliadą.
Раздавит Гомера со всей его
Илиадой 35.
В заключение хотелось бы выйти за хронологические рамки настоящего исследования и вспомнить поэму «Мои мечты» («Moje marzenia»), относящуюся к 1836 г. Написанная уже в эмиграции, после
детронизации Николая I, российско-польской войны и подавления национально-освободительного восстания 1830–1831 гг. (символично, что
именно Немцевич в 1831 г. зачитал акт о признании повстанческим сеймом власти царя нелигитимной), она содержит гораздо более острые,
соответствующие стилистике романтизма высказывания в адрес русского царя, который отныне открыто считался главным врагом Польши. Как и «москалю с мордой таксы», так российским царям Немцевич
отказывает в причастности к колыбели европейской культуры:
Gdy nas uderzy cara postać wyprężona,
Poznamyż w niej Priama lub Agamemnona?36
�488 Наталия Филатова
В то же время едва ли правильно говорить о Юлиане Урсыне
Немцевиче как об «апостоле ненависти» (выражение С. Тарновского).
Его написанные «на злобу дня» произведения были направлены не
только против Новосильцева и великого князя Константина: не менее,
а может быть более едкому высмеиванию подвергались «чужие свои»,
проводники интересов русской власти — в частности, Ю. К. Шанявский, С. Грабовский, Ю. Зайончек. Содержавшиеся в текстах Немцевича явные антирусские пассажи в сущности представляли собой не
что иное как тиражирование стереотипов, укорененных в польском
сознании. Главная их функция состояла в противостоянии официозу,
пропагандирующему образ «своего» короля-царя и идею славянского
братства русских и поляков. Однако влияние, которым пользовался
Ю. У. Немцевич в польском обществе как признанный авторитет, «человек-институт» и едкий сатирик, обусловило его лидерство в формировании и обновлении этого альтернативного негативного образа
России и русских. Немаловажной в связи с этим представляется его
роль в сложении литературной конвенции изображения эпохи конституционного Королевства Польского и памяти культуры (так, фактически именно Немцевич еще за несколько лет до Адама Мицкевича
сделал Н. Н. Новосильцева главным «злодеем» польской литературы).
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
6
Komar J. «Moje marzenia» Juliana Ursyna Niemcewicza // Archiwum Literackie. T. 9. Miscellanea z doby Oświecenia. T. 2. Wrocław, 1965. S. 366.
Rudkowska M. Niemcewicz i Rosja // Julian Ursyn Niemcewicz: pisarz, historyk, świadek epoki / Pod red. J. Wójcickiego. Warszawa, 2002. S. 101–117.
Niemcewicz J. U. Dzienniki 1835–1836 / Oprac. I. Rusinowa. Warszawa,
2005; Idem. Dzienniki, Rok 1837–1838 / Red. naukowa I. Rusinowa. Pułtusk,
2006; Idem. Władysław Bojomir / Oprac. I. Rusinowa i A. Czaja. Kielce,
2009; Idem. Dziennik z lat 1820–1828 / Wybór i oprac. I. Rusinowa, A. Krupa. Warszawa, 2012.
Rudkowska M. Op. cit. S. 101–102.
Из изданий дневников и мемуаров Немцевича, относящихся к рассматриваемому периоду, назовем следующие: Niemcewicz J. U. Pamiętniki
1809–1820 / Wyd. J. I. Kraszewski. Poznań, 1871. T. 1–2.; Idem. Pamiętniki z
lat 1830–1831 / Wyd. А. M. Kurpiel. Kraków, 1909; Idem. Pamiętniki czasów
moich / Wyd. J. Dihm. Warszawa, 1957. T. 1–2.
Mickiewicz A. Literatura słowiańska. Kurs drugi // Idem. Dzieła. Warszawa,
1955. T. 10. S. 263.
�«Москаль с мордой таксы…» Россия и русские в творчестве... 489
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tyrowicz M. J. U. Niemcewicz w dobie Królestwa Kongresowego i Nocy Listopadowej // Przegląd Współczesny. 1930. Nr. 102–103. S. 96.
Gazeta Warszawska. 1812. Dod. 2 do nr. 52. S. 923–926.
Niemcewicz J. U. Listy litewskie. Warszawa, 1812. См. также: Gazeta Warszawska. 8.08.1812. Dod. do nr. 63. S. 1166-1170.
Niemcewicz J. U. Listy litewskie. S. 50, 55–56, 84.
Gazeta Warszawska. 12.01.1813. Dod. do nr. 4. S. 58–59.
Цит. по: Chachaj M. «Jadwiga, królowa polska» Juliana Ursyna Niemcewicza w ocenie warszawskiej publiczności teatralnej // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin — Polonia. Vol. XX/XXI. Sectio FF.
2002–2003. S. 6.
Niemcewicz J. U. Bajki i powieści. Warszawa, 1820. T. 1. S. 197.
Цит. по: Czartoryski A. Żywot J. U. Niemcewicza. Berlin; Poznań, 1860.
S. 321..
Niemcewicz J. U. Pamiętniki 1809–1820. Т. 2. S. 221..
Gąsiorowska N. Wolność druku w Królestwie Kongresowym. 1815–1830.
Warszawa, 1916. S. 247.
См. статью профессора Иеронима Грали в настоящем сборнике.
Niemcewicz J. U. Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego
księcia litewskiego. Kraków, 1860. T. 2. S. 141, 143.
Koźmian K. Pamiętniki. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1972. T. 2. S. 200.
Ibidem. T. 3. S. 102.
Niemcewicz J. U. Bajki i powieści. Warszawa, 1817. T. 1. S. 86.
Ibid. Warszawa, 1820. T. 2. S. 37.
Mickiewicz A. Op. cit. S. 264.
Цит. по: Kurpiel A. M. Dwie nieznane powieści J. U. Niemcewicza // Pamiątkowa księga 1866–1906. Prace byłych uczniów Stanisława hr. Tarnowskiego
ku uczczeniu XXXV-lecia jego nauczycielskiej pracy. Kraków, 1904. T. 1.
S. 134.
См.: Kurpiel A. M. «Małpa na reducie». Ze wspomnień warszawskich //
Gazeta Świąteczna (Lwów). 1904. Nr. 5. Благодарю польскую исследовательницу Терезу Рончку (Университет в Катовицах) за помощь в поиске
этого материала.
Niemcewicz J. U. Podejrzliwy. Komedia w 5 aktach wierszem. Warszawa,
1831. S. 29, 45.
См.: Durski St. Komedia okolicznościowo-polityczna i historyczna lat 1800–
1830. Wrocław, 1974. S. 99–100.
Niemcewicz J. U. Władysław Bojomir. S. 29.
Ibidem. S. 35, 110, 112.
Ibidem. S. 78.
Ibidem. S. 88.
�490 Наталия Филатова
32
33
34
35
36
Mycielski M. «Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli». Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku). Wrocław, 2004. S.
297–322.
Niemcewicz J. U. Dwa stołki. Komedia w 5 aktach (wierszem) // Archiwum
Literackie / Wydał T. Frączyk. T. 22. Miscellanea z doby Oświecenia. T. 5.
Wrocław, 1978. S. 300.
Witkowski M. Dumania Niemcewicza w Ursynowie // Studia polonistyczne
18/19 (1990/1991). Poznań, 1992. S. 269, 285.
Niemcewicz J. U. Prometeusz. Poema. Bruksela, 1862. S. 34.
Komar J. Op. cit. S. 366.
�Борис Флоря
(Москва)
Монархия
и ее историческая роль
в польской средневековой
традиции
Флоря Борис Николаевич —
доктор исторических наук,
член-корр. РАН, Россия, Москва, Институт славяноведения РАН
Первый исторический труд, возникший на польской почве в начале XII в., хроника Галла Анонима, был, как явствует из
его заглавия («Chronica et gesta ducum sive
principum Polonorum»), историей не страны или народа, а прежде всего династии
Пястов. Повествование здесь начинается с
того, как родоначальник династии сменяет на польских землях прежнего носителя
власти. Поэтому вопрос о самом появлении в обществе особого, отделенного от
него института власти в хронике, естественно, не рассматривался.
Принципиально иную картину обнаруживаем в написанной на рубеже XII–
XIII вв. хронике Винцентия Кадлубека1.
Как неоднократно отмечали исследователи, этот труд уже представлял собой историю страны и народа. Хронист начинает
свое повествование с того времени, когда
института власти, отделенной от общества, еще не существовало. На заре истории предки поляков — лехиты — совершили большие завоевания, они покорили
не только все земли к югу от Балтийского
моря, но и датские острова (I: 2). Логически это предполагает наличие у лехитов
какой-то достаточно сильной военной организации. Кадлубек, однако, об этом не
говорит. О его оценке положения дел свидетельствуют высказывания, относящие-
�492 Борис Флоря
ся к более позднему моменту общественного развития, когда создается институт монархической власти.
Само создание такого института хронист связывает с выступлением легендарного Гракха (он же — Крак — основатель Кракова), который, собрав лехитов, убедил их пойти на этот шаг. В уста Крака
хронист вкладывает речь, в которой с большим ударением подчеркивается необходимость для общества монархической власти. Общество, не имеющее правителя, подобно телу без души, лампе без света,
миру без солнца (I: 9). Последний пример даже получает дополнительное истолкование. Как солнце согревает лучами мир, так и действия правителя обеспечивают благосостояние общества. Став правителем, Крак «устанавливает права, провозглашает законы» («iura
instituit, leges promulgat»). Так утверждается общественный порядок,
основанный на праве («Sic ergo nostri civilis iuris nata est conceptio»).
При этом выясняется, что до принятия этих установлений справедливость соседствовала с несправедливостью, а справедливым считалось то, что приносило наибольшую выгоду самому сильному. Теперь
же, при новом порядке, постепенно утверждалось представление, что
справедливое — это то, что помогает больше всего тем, кто меньше
всего может.
Таким образом, лехиты, совершив большие завоевания, оказались неспособными установить справедливый общественный порядок, обеспечивавший необходимое для развития общества равновесие. Это оказалась способной сделать монархическая власть, возникшая, впрочем, с согласия общества. Создание власти означает новый
качественный рубеж в жизни общества. Отсутствие власти снова
приводит дела в дурное состояние. Когда умерла дочь Крака, Ванда,
которой народ доверил власть после смерти Крака, «claudicavit sine
rege imperium» (I: 7). Правда, и в таком состоянии лехиты смогли дать
отпор войскам Александра Македонского. Человек, благодаря хитрости которого была одержана победа, стал затем правителем лехитов.
Снова тема появления и деятельности власти в самом начале
польской истории была поднята в таком историческом труде, как «Великопольская хроника»2. Вопрос о времени создания отдельных частей этого труда был предметом долгих и до сих пор не законченных
дискуссий. Все исследователи сходятся на том, что окончательный
вид этому труду придал во второй половине XIV в. Янко из Чарнкова,
бывший подканцлером Казимира Великого. Исследователями также
установлено, что именно хроника Кадлубека явилась главным источником сведений «Великопольской хроники» о начальном периоде
польской истории3. Вместе с тем при сопоставлении текстов выявляет-
�Монархия и ее историческая роль в польской средневековой... 493
ся ряд различий между характеристиками начального этапа польской
истории в повествованиях Кадлубека и «автора» «Великопольской
хроники». Если у Кадлубека ничего не говорится о первоначальной
общественной организации лехитов, то в 1 главе «Великопольской
хроники» читаем, что лехиты как «братья, происходившие от одного
отца», выбирали из своей среды «двенадцать наиболее знаменитых и
богатых людей, которые должны были разбирать возникавшие между
ними спорные вопросы и управлять государством. Они ни от кого не
требовали податей, не принуждали оказывать услуги».
Как видим, здесь нет и речи о каких-либо недостатках общественной жизни, побудивших лехитов согласиться на создание монархической власти. Напротив, выборные лица, стоявшие во главе лехитов, явно успешно справлялись со своими обязанностями. Во всяком
случае, никакой критики в их адрес не обнаруживается.
Возвышение Крака в последующем тексте связывается с тем, что,
боясь нападения галлов, его избрали главой войска, т. е. «воеводой»,
а когда он одержал победу, лехиты избрали его своим королем. Таким
образом, об избрании Крака «королем» как о важном рубеже в истории общества в данном повествовании ничего не говорится. Напротив, возвышение Крака связывается явно с необходимостью объединить и организовать свои силы для борьбы с внешними врагами. Роль
власти как организатора общественной жизни никак не выделяется.
Отмеченные здесь расхождения между взглядами двух хронистов можно еще продолжить. Если по мнению Кадлубека польские
земли пришли в упадок после смерти Ванды, когда в них не стало
правителя, то в «Великопольской хронике» читаем, что в течение
многих лет после смерти Ванды лехиты выбирали воеводу и 12 советников. Никаких отрицательных оценок и в этом случае источник
не содержит (глава 2). Таким образом, в тексте «Великопольской хроники» институт монархии и правление выборных лиц выступают как
две системы управления, равноправно и длительно существующие в
древнюю эпоху польской истории.
Далее в повествовании следовал восходящий к хронике Кадлубека рассказ об избрании правителем Лешко после победы над войсками
Александра Македонского, одержанной благодаря его хитрости (глава
3), но в новом контексте рассказ приобретает иной смысл. Появление
правителя в источнике постоянно связывается не с каким-то переустройством общественной жизни, а с необходимостью борьбы с внешними врагами.
Оба памятника — и труд Кадлубека, и «Великопольская хроника» — были хорошо известны в середине XV в. отцу польской исто-
�494 Борис Флоря
рии, Яну Длугошу, который в это время приступил к написанию своих «Анналов». Из «Великопольской хроники» Длугош заимствовал
рассказ о начале польской истории, когда поляки пришли на свою
будущую родину во главе со своим предводителем Лехом. Однако в
рассказ источника было внесено одно важное исправление. Согласно
Длугошу, Лех был князем поляков и после его смерти ими правили
его потомки4. Таким образом, по Длугошу, никакого догосударственного периода в истории поляков не было. Однако отношение Длугоша
к такой власти не было положительным. Общество, — пишет он, — не
знало законов, их заменяли желания князей5. К чему это вело, Длугош показал в обширной вставке, сделанной, когда основной текст
уже был написан. Эти правители относились к подданным с презрением и отвращением, были приятелями злых, не предъявляя обвинений лишали людей имущества и жизни, вообще руководствовались
только своими желаниями6. Поэтому после пресечения династии Леха
первые среди поляков и знатные приняли решение избавиться от ига
правителя. Они установили законы, а для правления избрали из своей
среды 12 человек, выделяющихся происхождением и благородством7.
Этот рассказ был заимствован из «Великопольской хроники», но в ней
ничего не говорилось о том, что этот порядок пришел на смену порочному единоличному правлению.
Поляки правильно решили основать свое государство на свободе и законах, когда лучше повиноваться законам, а не правителям, и
их республика могла бы счастливо процветать, если бы не неразумие
народа, опьяненного равенством и свободой. Народ же, по оценке Длугоша, за исключением немногих, состоит из заносчивых, дерзких и
сварливых людей, которые не хотели подчиняться правителям и выполнять принятые ими решения.
В этих условиях «знать и народ» отказались от свободы и избрали правителя — Крака8. Вслед за Кадлубеком Длугош пишет об
установлении им законов и избрании судей, но в его изложении этот
акт не был созданием общественного порядка, так как законы были
установлены уже при пресечении династии Леха.
После смерти Крака и его дочери Ванды все устремились к свободе и было установлено правление двенадцати воевод, продолжавшееся долгие годы. Извлекая уроки из прошлого, правители стремились править, стараясь «не оттолкнуть поляков суровостью, чтоб
не стали снова желать князя и не уничтожили свободы, при которой
постепенно расцветала жизнь частная и публичная»9. Таким образом,
по убеждению хрониста, именно такое правление, а не монархия, могло обеспечить обществу свободу и процветание. Народ, однако, снова
�Монархия и ее историческая роль в польской средневековой... 495
пожелал смены правления, «веря, что под властью правителя жизнь
будет более счастливой»10.
Вместе с тем, говоря о восстановлении монархии, Длугош сделал
важное замечание, что и под властью монарха более знатные и более
богатые продолжали занимать посты воевод и пользоваться той властью, которой они обладали, и именно это положило конец переменам
и придало государству устойчивость.
Сопоставляя между собой свидетельства трех источников — XII,
XIV и XV веков, — можно констатировать, что представления о возникновении монархии и ее исторической роли в польской исторической традиции заметно эволюционировали и достаточно ясно рисуется направление этой эволюции. Если на исходе раннего Средневековья
монархия выступала как единственная сила, способная устроить справедливый общественный порядок, то в XIV в. ее достоинство состояло прежде всего в том, что она может организовать оборону от внешней опасности, а в XV столетии уже речь идет о том, что монархия не
может создать справедливый общественный порядок, неоднократно
восстанавливается лишь благодаря «неразумию» народа и обеспечивает себе право на существование лишь благодаря компромиссу с органами власти, созданными самим обществом (институт двенадцати
выборных правителей). Эта эволюция представлений о монархии и ее
роли была связана с историческим развитием польского общества, с
формированием в Польше сословной монархии, с большими привилегиями духовенства и дворянства, с происходившим переходом ряда
важных государственных функций от королевских чиновников в руки
выборных представителей дворянских организаций.
Такой путь развития и такая эволюция представлений о роли монархии были характерны не только для средневековой Польши. Для
чешского хрониста начала XII в. Козьмы Пражского, как и для Кадлубека, возникновение монархии связано с созданием общественного
порядка. Первый правитель — Пшемысл — «установил все законы,
которыми пользуется эта страна и теперь»11.
Существенно иначе описывается то же событие в «Изложении
чешского земского права» Ондржея из Дубы — памятнике второй половины XIV в. В его начале также говорится, что право установлено еще в древние языческие времена «от Пшемысла-пахаря и от тех
панов, которые были в то время». Таким образом, законы совместно
устанавливают Пшемысл и «паны» — чешская знать, существовавшая якобы уже в те древние времена. Из последующего текста выясняется, кто играл при этом главную роль. Ондржей из Дубы говорит
о существовании в стране двух разных прав — «земского» и «коро-
�496 Борис Флоря
левского», — связанных с деятельностью монарха, и отмечает, что
последним «король издавна наделен панами». Таким образом, именно «паны» установили компетенцию, границы действий королевской
власти12. Следовательно, согласно этой новой интерпретации, порядок, определивший и организовавший жизнь чешского общества, был
создан при ведущей роли «панов», или, следуя терминологии польских источников, «более рассудительных и более богатых».
Политическая мысль Средневековья, особенно развитого и позднего, образует пеструю картину. Если в Англии начала XIV в. складывается представление о «короне», стоящей над монархом, права
которой монарх должен соблюдать, то во Франции того же времени
приближенные «легисты» Филиппа Красивого используют для укрепления королевской власти известные формулы римского права.
Очерченную выше картину эволюции политической мысли можно считать характерной для того обширного ареала «Третьей Европы», который, по определению современных теоретиков, лежит между Россией и Западом.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Хроника используется по изданию: Magistri Vincentii Chronicon Polonorum // Monumenta Poloniae Historicae. Lwow, 1812. T. 2.
Chronica Poloniae Maioris // Monumenta Polonie Historica. Series Nova.
Warszawa, 1970. Т. 8. Рус. пер.: Великая хроника о Польше, Руси и их
соседях XI–XIII вв. / Под. ред. В. Л. Янина. М., 1987.
См. об этом во вступительной статье Б. Кюрбис к польскому переводу «Великопольской хроники»: Kronika Wielkopoloska. Warszawa, 1965.
S. 20–21.
Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Varsoviae,
1964. T. 1. S. 105, 114.
Ibid. S. 115.
Ibid. S. 119.
Ibid.
Ibid. S. 120.
Ibid. S. 133–134.
Ibid. S. 134.
Козьма Пражский. Чешская хроника / Вступ. ст., пер. и коммент.
Г. Э. Санчука. М., 1962. С. 45 (I: 8).
Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. М., 1961. С. 873.
�Анна Хорошкевич
(Москва)
Эхо сарматской теории
в имперской России
как «общественная
патология»1
«Во всякой Истории
надлежит писать истину;
дабы человеки научалися
от худа отвращаться
и к добру прицепляться.
Историк, не праведно хулы и
хвалы своему соплетающий
отечеству, есть враг
отечества своего; и бывшее
худо и бывшее добро общему
наставлению и общему
благоденствию служит.
Не полезно вымышленное
повествование, о ком бы
оно ни было. И вредоносна
ложная История тому
народу, о котором
она, ежели она тем
народом допущена или не
опровержена, к ослеплению
читателей».
А. П. Сумароков
Хорошкевич Анна Леонидовна — доктор исторических
наук, Россия, Москва, Инс
титут славяноведения РАН
«Общественной патологией» В. О. Клю
чевский2 назвал упорное непризнание роли
норманнов в становлении отечественной
государственности и доверие мифам, выросшее, по нынешнему мнению, на базе
«синдрома национальной уязвленности»3. Однако этот феномен веры в мифы
характерен и для других стран на этапе становления государства. Пионерами
оформления мифов в письменные произведения в Восточной и Центральной
Европе выступили авторы польских латиноязычных хроник XIII в. (В. Кадлубек) и
XV в. (Я. Длугош), упрочению же мифов
благоприятствовала политическая обстановка, особенно с XV в.: противостояние
и войны Княжества Владимирского и
Московского, в 1485–1547 гг. — Великого
княжества всея Руси, а в 1547–1721 гг. —
Российского царства, позднее одноименной империи, и объединенных личной
унией Великого княжества Литовского
и Короны Польской, с 1569 г. до конца
XVIII в. — Речи Посполитой. Борьба шла
за земли Древней (Киевской, «домонгольской») Руси, после иноземного нашествия оказавшиеся в XIV–XV вв. в составе
двух последних. Войнам соответствовало
противостояние мифов по престижному
вопросу о древности народов, хотя обе
страны были населены преимуществен-
�498 Анна Хорошкевич
но славянами: в первой — наряду с численно незначительными литовцами — обитали поляки и та «русь», на базе которой к середине
XVII в. сложились украинцы и белорусы; во второй жила и другая
«русь», которая на протяжении XVII–XVIII вв. превратилась в великорусов. В первом из этих государств бытовала сарматская теория,
воспринятая многочисленными хронистами XV–XVII вв. (в Польше
это была своеобразная форма освоения античного наследия в эпоху
Возрождения), согласно которой предками населения этих государств
являются сарматы (по современным представлениям — ираноязычные жители восточноевропейских степей IV в. до н. э. – IV в. н. э.),
победившие скифов4.
У российских же читателей XVII–XVIII вв. безусловным авторитетом пользовался «Синопсис» 1674 г. бывшего протестанта из прусского Кенигсберга Иннокентия Гизеля (1600–1683), закончившего и
Львовскую латинскую коллегию, и Киевское братское училище, попечителя Киево-Могилянской коллегии с 1648 г., с 1656 г. — архимандрита Киево-Печерской лавры. Ему пришлось сменить и подданство
(Киев в 1670 г. перешел в состав Российского царства). Спасая свой пост
в лавре, он создал «Синопсис» — обзор истории Восточной Европы
на основе летописей XVII в. — Густынской и Феодосия Софоновича,
обобщившего данные хроник В. Кадлубека, Я. Длугоша, М. Кромера,
М. и И. Бельских. «Синопсис» приобрел окончательный вид к 1680 г.,
когда был дополнен рассказами о чигиринских походах 1677 и 1678 гг.
и «Сказанием о Мамаевом побоище»5, долженствовавшими убедить
читателя в мощи и силе Российского царства, а его правителей — в
лояльности автора.
Гизель не поскупился в доказательствах древнего происхождения славян, введя изложение фальсификата XV в. — «золотой грамоты» Александра Македонского (III в. до н. э.) славянам в награду
за воинские подвиги, и «россиян» (перенеся легендарное сообщение
Кадлубека — Длугоша о сарматах как прародителях польского народа
на россиян). Впрочем, Гизель был не одинок в своих попытках «удревнить» историю славян.
В XVII в. по-прежнему распространялась и «троянская» легенда, известная и в Древней Руси, об участии славян в Троянской войне
(по современной датировке — XII в. до н.э.). Гданьский немец Мартин
Груневег в 1585 г. в Киеве услышал даже, будто сама Троя находилась
на месте Киева6.
Древнейшая русская летопись, Повесть временных лет, зафиксировала иную теорию, получившую название норманской, согласно
которой основателями государственности в Новгороде и Киеве были
�Эхо сарматской теории в имперской России как... 499
варяги. В Княжестве всея Руси на рубеже XV–XVI вв. сложились другие теории — о происхождении княжеского рода от римского императора Августа (I в. до н. э.) и Москвы как Третьего Рима. В этих баснословных теориях обращает на себя внимание кардинальная разница. В
сарматской речь шла о происхождении народа, a в персоналистских
норманской и «августианской» — о генеалогии правителей страны, в
религиозно-центристской «третьеримской» — о единственном прибежище истинного христианства — православии. Причины отличия идеологической направленности этих мифов следует искать, по-видимому, в темпе славянского освоения тех или иных территорий, в условиях
и темпе консолидации правящего сословия, форме государственности,
положении церкви. Славянское освоение территории будущей Короны
Польской происходило быстрее и раньше, чем на землях, лежащих восточнее. Уже в начале XV в. произошли стратификация шляхетства и
определение его места в социально-политической структуре государства, закрепленные Городельской унией. Славянское же освоение более восточных земель Европы отставало, по крайней мере, на два-три
столетия, и консолидации правящего сословия не произошло до монголо-татарского нашествия XIII в., в результате которого сократилось
население, прежде всего мужское — воинское, истребленное сразу, и
ремесленное, силами которого воздвигались золотоордынские города.
В условиях замедленного экономического и социального развития восточнославянских территорий, при слабости городов и горожан усиливалась княжеская власть, поддерживаемая церковью. Все это не могло
не сказаться и на идеологии, формирование которой было обусловлено
потребностями государственной власти, медленно преодолевавшей последствия нашествия, косвенно консервировавшей раздробленность. В
интересах государственной власти, заботившейся об упрочении своего престижа внутри и за пределами отечества, создавались и персоналистские, и религиозно-центристские мифы. Почву для последних
подготовило завоевание османами Константинополя, превратившего
Русь в единственное православное государство.
По словам Т. А. Быковой, «почти во всех европейских литературах до начала XIX в. история рассматривалась как часть художественной прозы… Исторические произведения ценились преимущественно за красноречие, а не за документальную точность при освещении
событий»7. Однако на этом фоне происходило и становление истории
как науки со своей собственной методикой, выработке которой немало содействовал протестантизм (прежде всего, в Германии), побочным результатом которого оказалась библеистика с ее методикой текстологического изучения повествовательных источников.
�500 Анна Хорошкевич
В Российской же империи складывание истории как науки происходило в 40-е годы XVIII столетия, по определению В. О. Ключевского,
во «время национального возбуждения…, которому была обязана
преcтолом Елизавета Петровна (1741 г. — А. Х.). Минувшее десятилетие стало предметом самых ожесточенных нападок… Новое национальное царствование началось среди войны со Швецией, которая
кончилась миром в Або 1743 г.»8 После освобождения страны от немецкого засилья во властных структурах прокламировался возврат к
курсу петровских реформ, что, казалось бы, должно касаться и гуманитарной сферы, в частности, истории, значение которой Петр I высоко ценил и от которой требовал точности при передаче текстов, в том
числе дипломатических документов, включенных П. П. Шафировым
в «Рассуждение о причинах Свейской войны»9.
В 40-е гг. XVIII в., как и во второй половине 20-х, в императорскую академию наук активно приглашались специалисты разных областей знания: как естественнонаучного (химики, физики, математики, астрономы), так и гуманитарного, в первую очередь — историки и
философы, по преимуществу немцы. Это были гуманитарии довольно широкого профиля, получавшие образование обычно в нескольких
германских университетах и уже превращавшиеся в профессионалов-историков. Приезжие, естественно, владели латынью и греческим,
некоторые знали и восточные языки. Кроме того, почти все владели
методикой новой тогда текстологии, применявшейся для изучения
нарративных памятников. Но при этом они из-за нерасчлененности
знания вынуждены были если не конкурировать с энциклопедистами
техниками и биологами, то прислушиваться и отчасти следовать их
указаниям. Но об этом позже.
Главным вопросом как для отечественных, так и для приезжих
специалистов была проблема, волновавшая еще летописцев XI в., —
«откуда есть пошла земля Русская». Решали они ее в зависимости от
политико-идеологической позиции, с одной стороны, профессиональной подготовки — с другой, и в соответствии с этим по разному относились к историописательскому опыту российскому и зарубежному, в
первую очередь — польско-литовскому.
Т.-З. Байер (1694–1738)10, крупный ученый, вполне владевший
научными методами своего времени, первым обратил внимание на
сочинение Константина Багрянородного, проанализировал тексты
русско-византийских договоров в изложении «Несторовой летописи»,
т. е. Повести временных лет, доступной ему — из-за незнания русского языка — лишь по немецкому переводу Радзивилловской летописи11. В учебнике, написанном для Петра II («Экстракт из истории древ-
�Эхо сарматской теории в имперской России как... 501
них государств для пользования Его Императорским Величеством
Петром Вторым, императором и правителем всей России») Байер в соответствии со своими штудиями по истории скифов (1726 г.), опубликованными в первом выпуске нового исторического журнала за 1728 г.
(основанного Г. Ф. Миллером в 1726 г.), выбрал в их потомки чудь,
которую считал основным населением Российской империи вплоть до
китайской границы.
Среди «самостоятельных добровольцев», прибывших в Петер
бург в поисках истинного христианства, примечателен датчанин
Адам Бурхард Селлий (1696–1746). В 1722–1725 гг. он сочинил стихотворное «Зерцало историческое. Государей российских родословие…
от первого Рурика до благополучного государствования Елизаветы
Петровны» на латинском языке12. В Москве в 1740 г. сочинил «Пять
книг о русской иерархии» (сохранились в рукописи). По возвращении
в Петербург в 1744 г. перешел в православие и сблизился с преподавателями Александро-Невской семинарии. Ее префект А. С. Зертис–
Каменский (Амвросий, позднее архиепископ Московский) и один из
преподавателей, Г. Ф. Кременецкий (Гавриил, позднее митрополит
Киевский), перевели «Зерцало» на русский. На «роковой» вопрос
о происхождении России обрусевший датчанин или переводчики
«Зерцала» ответили в соответствии с мнением имперского посла
XVI в. Сигизмунда Герберштейна: Рюрик прибыл из славянской
Вагрии, а его двоюродный брат Олег, недовольный «всезлобным»
Новгородом, перенес престол в Киев. Такие утверждения, как и прославление Владимира, «которого вся Польша трепетала»13, никоим
образом не могли задеть самолюбие императрицы, которой «Зерцало»
было преподнесено в 1747 г., несмотря на завещание автора сжечь все
его рукописи. Переводчики не решились это сделать, несмотря на непочтительное упоминание о Михаиле Романове, «получившем власть
не по наследству», так как семинаристы учились по «Зерцалу».
Среди отечественных любителей истории был подобный герою
чеховского рассказа «славянофил своей родины»14 — механик-изобретатель и успешный «комиссионер» (исполнитель отдельных поручений верховной власти) П. Н. Крекшин (1684–1763), который стал
обладателем небольшого клина земли от Можайска до Москвы, а на
полпути к ней построил скромный дворец, давший название этому
месту (нынешний пос. Крекшино). Он собирал русские летописи и
из их фрагментов храбро составил новый памятник — так называемое «Родословие великих князей, царей и императоров России», где
повествование было доведено до утверждения новой Романовской
династии, которая, согласно изобретателю, находилась в родстве с
�502 Анна Хорошкевич
Рюриковичами — потомками «великого князя Гостомысла», сын которого Славенск и внук Изборск оказались предками княгини Ольги.
Титул же московских князей комиссионер возвел к сыну библейского Яфета — Мосоху, населителю названной его именем страны, деду
Славенска и Росса. В отличие от других любителей истории, Крекшин,
человек «государственный», в 1746 г. обратился в Сенат за оценкой
«тщательно переписанного им летописца». Сенат робко передал рукопись с гениальным «открытием» в Императорскую Академию наук.
С этим «открытием» было поручено разобраться Герарду
Фридриху Миллеру (1705–1783), профессору-«историографу». Сын
ректора гимназии вестфальского города Герфорда, владельца огромной библиотеки, в Ринтельнском университете он прослушал курс науки государственного надзора над хозяйственной деятельностью и государственными доходами, а в следующем, Лейпцигском университете, познакомился с многочисленными публикациями о России в журнале «Труды ученых», которые издавал его руководитель И. Б. Менке.
Последний, в 1723–1724 гг. ведя переговоры о продаже своей библиотеки будущей Петербургской академии наук, и содействовал переезду
20-летнего Миллера, с детства увлекавшегося историей, в Петербург
в ноябре 1725 г. И жизнь Миллера оказалась навеки связанной с этим
учреждением, основание которого всегда и однозначно будет служить
славе и чести Петра Великого. Начав с преподавания истории, географии и латинского языка в Академической гимназии, Миллер в 23 года
был назначен «надзирать» над академической типографией и руководить газетой «Санкт-Петербургские ведомости» с информацией просветительского характера в «Примечаниях» к ней. В 1732 г. Миллер
провозгласил своей целью издание русских и иностранных источников о России (европейской и азиатской ее частей) и сопредельных странах в сборниках «Собрание русской истории» (начав с труда амстердамского бургомистра Н. Витсена «Северная и Восточная Татария» в
немецком переводе, фрагмента дневника путешествия 1722–1724 гг. к
калмыкам в Ойратское царство посланника И. Унковского и изложения статей Нерчинского договора 1689 г.), а также их изучение с целью
изъять ошибки в их публикациях15. В 1730–1731 гг., во время поездки
в Германию, Голландию и Англию, Миллер пригласил ученых, ставших новыми членами Академии.
Издательская и интенсивная исследовательская деятельность
Миллера прервалась в 1733 г., когда он вместе с астрономом Л. Делилем
де ла Кройером (1690–1741), натуралистом И. Г. Гмелиным, историком
и филологом И. М. Фишером 8 августа 1733 г. отправился в Сибирскую
экспедицию, из которой вернулся лишь в феврале 1743 г., обогащен-
�Эхо сарматской теории в имперской России как... 503
ный таким комплексом знаний — географических, архивных, этнографических и лингвистических, — каким ни один другой академик не обладал16. Предложение Г. Ф. Миллера создать Департамент
истории было поддержано новым (с 1746 г.) президентом Академии
К. Г. Разумовским. Миллер был назначен историографом, профессором академического Университета (правда, чтение лекций было заменено исполнением должности ректора с годовым окладом 1200 руб. с
июля 1747 г.). Ему вменялось в обязанность после издания Сибирской
истории сочинить «генеральную российскую историю». Но все это
при трех кабальных условиях: переходе в российское подданство,
принятии обязательства «не токмо из Российскаго государства не
выезжать по смерть, но и академической службы не оставлять» и условии наложения штрафа в случае неисправления должности, врученной ему «не инако как верноподданному и присяжному рабу Ея
Императорского Величества»17. Миллер, еще в молодости выбравший свой жизненный путь, даже в 41 год согласился на все условия
превращения в «крепостного академика» и продолжал сочинять историю Сибири, по-прежнему не обращая внимания на идеологическую
сторону собственных научных изысканий.
Увы, скоро — в 1747 г. — ему пришлось убедиться в том, что
занятия историей — это наука, в России зависящая от «привходящих
обстоятельств», прежде всего — от власти. Миллер подошел к поручению Сената со всей серьезностью и объявил, что в «Родословии»
Крекшина изрядное количество ошибок: варяги, по его мнению, прибыли «из немец», а вовсе не из славянской Вагрии; «в древние времена» тесные связи «норвагов» и «дацкого народа» возникли «для
отправления купечества»; история с «великим князем» Гостомыслом
и его потомством, которым были приданы выразительные имена, совпадавшие с названиями некоторых городов, баснословна; Рюрик же,
Синеус и Трувор носили, по его мнению, «норвяжские» имена. Не прошел он и мимо истории регалий, подчеркнув, что от «греческого кесаря» лишь Владимир Мономах, а вовсе не Владимир Святой получил
«царскую диадиму или просто так называемую мономашескую шапку». Старательно изучив разрядные, степенные, родословные книги и
хронографы, Миллер особо остановился на теме родства Романовых
со смоленскими и ярославскими князьями, которое Крекшин изобрел
для доказательства непрерывности династической власти в России.
Вывод: в целом крекшинское «родословие с российскими родословными книгами и прочими источниками не сходствует».
Не подозревая об опасности своего заключения для дальнейшей
карьеры, добросовестный ученый вместе с отзывом на «Родословие»
�504 Анна Хорошкевич
комиссионера доложил президенту Академии наук К. Г. Разумовскому,
что он исправил перевод первого тома своей «Истории Сибири», а на
основании российских и иностранных источников сам сочинил «экстракты» о генеалогии российских князей и генеалогические таблицы
великих князей литовских18.
К. Г. Разумовский уже через три дня после получения «рецензии»
Г. Ф. Миллера принял решение познакомить автора «Родословия» с
отзывом и подготовить ответ, оба документа следовало отправить в
Сенат. Свой ответ П. Н. Крекшин задержал на месяц и лишь 23 февраля соблаговолил написать президенту. Он ограничился общей оценкой не самих замечаний, а лишь тетради с выписками из иностранных
источников, предоставленной ему Г. Ф. Миллером для работы. На основании этой тетради, где находились «многия непотребныя записки,
каковыя ему не только писать и сообщать, и у себя держать, но на
иностранных языках не должно читать» (в первую очередь речь шла
о «Хронике» Яна Длугоша), оскорбленный в своих чувствах патриот
самодержавия обвинил историографа «в собирании хулы на русских
князей».
18 марта 1747 г. Канцелярия обязала правоведа Ф. Г. Штрубе де
Пирмонта, поэта В. К. Тредиаковского и химика М. В. Ломоносова обсудить ответ П. Н. Крекшина в присутствии автора и Миллера, а свой
окончательный вердикт направить в Сенат. Положение первого члена
Комиссии, ее главы, было сложным. Он только что (1746) вернулся в
Петербург после пятилетней отлучки и не был заинтересован в осложнении отношений с высоким начальством, на благоволение которого
явно рассчитывал автор нового родословия. Крекшин же не только не
отказался от идеи родства Романовых и Рюриковичей, но и обвинил
Миллера в противоправных утверждениях: «фамилия Романовых…
это фамилия Захарьиных и Юрьевых, что ложно и противно закону».
Итог работы комиссии — «Рассмотрение» могущественный автор отправил на высший суд самой императрице, снабдив его прежними легендарными утверждениями.
Правительствующий Сенат, получив 24 июля 1747 г. крекшинское «Родословие», отзыв Миллера, ответ Крекшина и «Рассмотрение»
Комиссии, уклонился от принятия репрессивных мер по отношению
к «противнику закона». 4 декабря неугомонный честолюбец и истинный патриот обвинил не только рецензента, который «заблудил и высочайшую фамилию неправо простою дворянскою дерзнул писать»,
но и членов Комиссии («в неведении… сию лжу за истину признавали»). Крекшин — кажется, первым в истории России — предлагал
сжечь все «книги», в которых содержатся подобные сведения. Сенат
�Эхо сарматской теории в имперской России как... 505
оставил дело без рассмотрения, в 1764 г. оно было сдано в архив, и
«лживые книги» временно уцелели. Кара, естественно, постигла
лишь Г. Ф. Миллера, незаконно интересовавшегося не только «российскими», но и литовскими великими князьями, что болезненно
воспринималось в стране, не пережившей травмы 1612 г.: ему впредь
запрещено было заниматься какими бы то ни было генеалогическими
разысканиями.
А вслед за Миллером в опалу угодила только нарождавшаяся в России историческая наука. С подачи «комиссионера» императрица предложила, чтобы все исторические сочинения «кем-нибудь или вообще всеми были просмотрены и апробированы». Это
был, говоря современным языком, «неадекватный» ответ верховной
власти на повторное (1744, 1746) предложение Г. Ф. Миллера о создании в Академии наук Исторического департамента, вместо которого 24 марта 1748 г. было создано Историческое собрание с цензурными функциями19. Наряду с двумя историками (Г. Ф. Миллером
и Х. К. Крузиусом, с 1740 г. профессором по истории древностей),
поэтом В. К. Тредиаковским, правоведом Штрубе де Пирмонтом, в
него вошли специалисты широкого профиля: искусствовед, гравер и
литератор Я. Штелин, врач и историк П. Л. Леруа, физик и философ
И. А. Браун, энциклопедист М. В. Ломоносов, который, впрочем, в
1749 г. признавался: «Главное мое дело есть горная наука»20.
Неудачи преследовали Миллера и позднее. В мае 1747 г. из
России на родину в качестве почетного члена Петербургской академии наук с соответствующей пенсией и обязательством содействовать
делам Академии выехал астроном, географ и картограф Ж. Н. Делиль
(1688–1768). Однако он отказался от выполнения этого обязательства,
сохранив за собой право переписываться лишь с теми, кого «особливо почитает». В Петербурге срочно 25 июня 1748 г. предприняли
контрмеры: от француза потребовали вернуть все картографические материалы, ничего не публиковать без разрешения Академии;
россиянам запретили общение с бывшим академиком и предписали
сдать материалы Делиля в Канцелярию Академии. Законопослушный
Г. Ф. Миллер незамедлительно донес на себя, что получил два письма от французского географа, но не сохранил их. Благодаря бдительности рижской почты, неукоснительно проводившей перлюстрацию,
Миллеру напомнили, что 30 мая 1747 г. из этого города Делиль писал ему о совместном «предприятии». В результате новая комиссия
(в которую 18 октября 1748 г. вошли, кроме Тредиаковского, Штрубе
де Пирмонта, Ломоносова, руководители Канцелярии — советник
и библиотекарь И. Д. Шумахер, ботаник, асессор, почетный член
�506 Анна Хорошкевич
Петербургской академии с 1747 г. Г. Н. Теплов, а также профессор
элоквенции Я. Штелин и астроном Х. Н. фон Винсгейм) постановила произвести обыск у Миллера. Ломоносов, Тредиаковский и секретарь Канцелярии П. И. Ханин успешно справились с поручением, они
составили репорт о своей деятельности: все, что сумели найти, было
«накладено в два большие сундука и один кулек» и препровождено
в судейскую палату Канцелярии. Новый российский присяжный раб
был обвинен в нарушении обязательств и лишен должности. Однако,
несмотря на то, что инцидент с Делилем привел к разрыву дипломатических отношений с Францией и высылке посла, президент Академии
К. Г. Разумовский отменил первое распоряжение Канцелярии и оставил дело без последствий — в ожидании от ученого «немалой пользы
Академии»21, в чем, как известно, не ошибся.
Между тем на историческом небосклоне России взошла новая
звезда — Василий Никитич Татищев (1686–1750)22. Не зная о планах
Г. Ф. Миллера — в течение 20 лет с помощью публикации источников «приуготовляться» к написанию истории России, — его старший
современник (на 19 лет старше Миллера, на 25 — Ломоносова), большую часть жизни проведший на административных постах, к 1746 г.
уже воссоздал древнейшую историю России. Интерес к этому зародился у него, по мнению М. Б. Свердлова, еще в 1719 г. под влиянием
Я. В. Брюса и снова возник в 1724 г., когда он был направлен в Швецию
для найма мастеров и обучения русских горнозаводскому делу, при
встрече с уже знакомым по России Страленбергом (Ф. И. Таббертом,
1676–1747), после 1709 г. находившимся в плену, а по возвращении на
родину в 1723 г. описавшим Россию23. Эта встреча, как и общение со
шведским историком Э. Ю. Бьернером, которому Татищев поверил,
будто «россияне около V в. уже объявилися», очень способствовала
возрождению интереса Василия Никитича к истории. Он активно
покупал книги, в том числе и русские, обратил внимание на скандинавские саги и даже составил план работ над ними. В первой главе
предполагалось рассмотреть скифские времена (изучив сведения о местопребывании сарматов, венедов, славян), вторая глава посвящалась
отдельным местностям — Холмгардии-Колмогардии, ПалтесцииПлесковии, Рефаландии-Рязании и т. д.; в конце записки Татищева
приписано: «Гардарики или град великий… Новогородикирики или
Новгород Великий»24.
Вернувшись в Россию в 1727 г., В. Н. Татищев решил основательно заняться историей родины. Видимо, к 1738 г., ознакомившись
с сочинениями Плиния, Гельмольда, Арнольда и Кромера, он уже убедился в том, что российская «история темна и неисправна». Тем не
�Эхо сарматской теории в имперской России как... 507
менее, здравый смысл заставил его отвергнуть баснословные квазибиблейские построения о Мосохе как основателе Москвы; допустив
идею родства руссов с роксоланами, любитель истории не признавал
мысль о происхождении имени первых от вторых. Отверг он также и
другую версию о правнуках Ноя — Скифе и Зардане — и их потомках
Славене, Русе, Болгоре и проч. Правда, на их место он прочил столь
же легендарных «амозонов». Что касается варягов, то В. Н. Татищев
отрицал их происхождение из Вагрии. Ссылаясь на Нестора, он писал:
«по ясному тех древних историй показанию варяги Швеция, Норвегия
и Финляндия именованы»25. Не принял он и версию происхождения
Рюрика от прусов, как и от цезаря Августа, зато поддержал легенду о
призвании «королевича финского» Рюрика Гостомыслом.
В воссоздании древнейшего этапа российской государственности Василий Никитич не отличался оригинальностью. Сторонник
самодержавия, он обнаружил его у скифов, самодержцами, по его
мнению, были поддерживавшие тесные связи с европейскими государствами князья от Рюрика до Мстислава Великого включительно
(т. е. до 1132 г.). Усиление местных князей («аристократия, но беспорядочная») и «демократические правительства» в Новгороде, Пскове
и Полоцке привели к ослаблению страны, не сумевшей дать отпора
нашествию Батыя.
Историк-дилетант и патриот самодержавия, В. Н. Татищев не отличал аутентичных источников от поздних переложений, чем в дальнейшем очень осложнил жизнь историков, историографов, текстологов и археологов, долго разыскивавших неизвестные им источники26 и
пытавшихся отделить его «исправления» источников от исторической
реальности27.
В 1739 г. Татищев приехал в столицу для отчета о деятельности
руководимой им Оренбургской экспедиции и привез вторую часть
первого тома «от владения Рюрика или смерти Гостомысла» до нашествия Батыя, составленную из летописных выписок. После консультаций со знатоками прошлого России — дипломатом А. П. Волынским,
придворным архитектором П. М. Еропкиным и капитаном флота, советником Экипажной конторы А. Ф. Хрущовым, — снабдившими его
рукописями, он решил переписать эту часть «нынешним наречием»,
что и завершил к 1746 г. Однако первая часть первого тома, требовавшая изучения большого количества античных источников, в первой
редакции превратилась в развернутое «Предъизвесчение». Именно
этот фрагмент обширного текста в конце 1748 г. автор передал советнику Академической канцелярии И. Д. Шумахеру с просьбой поручить написание посвящения к первому тому своей «Истории россий-
�508 Анна Хорошкевич
ской» М. В. Ломоносову, к тому времени уже влиятельному авторитету и историческому ритору.
Ломоносов одобрил текст В. Н. Татищева, подчеркнув внимание автора не только к победам «бывших в России владетелей», но и к тому, что
«умножение… могущества и славы коль тяжким затруднениям подвержено было». Подобные знания, по мнению М. В. Ломоносова, «природную добродетель к достохвальным делам побуждать могут»28. Автор и
критик — два младших «птенца гнезда Петрова», верные заветам патриотизма первого императора, — легко нашли общий язык даже спустя
четверть века после смерти реформатора, идеями которого была пронизана вся их жизнь. Оба они довольно хорошо вписались в атмосферу, сложившуюся при его дочери, пришедшей к власти на волне антинемецких
настроений и провозгласившей продолжение отцовского курса реформ.
Поскольку существенных реформ не произошло, тем больше должно было быть шумихи, хотя бы отчасти подобной той, что
была в 1741 г. — с триумфальными арками, бесчисленными фейерверками в обеих столицах, конными каруселями. 25-летний юбилей
Императорской академии наук давал некоторое основание для празднества. Академия должна была устраивать три публичные «ассамблеи»: в январе — в память Петра, в начале мая — Екатерины I, 5 сентября — в честь тезоименитства императрицы. В 1749 г. в связи с «неполным числом» академиков и адъюнктов (стремительно покидавших
Петербург) две первые были отменены. К третьей же — абсолютно
обязательной — велась долгая и психологически очень напряженная
подготовка. Профессор красноречия Я. Штелин должен был произнести вступительную речь, М. В. Ломоносов — «Слово похвальное Ея
Величеству Государыне императрице Елисавете Петровне», Миллеру
досталось чтение доклада — «диссертации».
Химик и специалист по горному делу блистательно справился
со своей задачей, в многочисленных трескучих фразах прославил императрицу, «под благословенною державою» которой «покоящиеся (!)
многочисленные народы торжествуют и веселятся о преславном Ея на
Всероссийский престол восшествии». Экскурс в прошлое он выдержал в той же тональности. Первый из Романовых принял «с венцем
Царским тяжкое бремя поверженыя России», исторг «корень богоотступных (!) хищников Российского престола и Москву от жестокого
поражения исцелил», его сын простер «победоносный мечь свой на
Сармацию (Речь Посполитую. — А. Х.) и издревле принадлежавшия
великие княжества праведным (!) оружием России» возвратил.
Историк, несмотря на десятилетние странствия по Сибири, уроки, данные ему в связи с отъездом Делиля, печальный опыт рецензи-
�Эхо сарматской теории в имперской России как... 509
рования сочинения «комиссионера», сохранил наивность кабинетного ученого и не понял задачи своего выступления — парадного славословия самодержицы и Ея великодушной поддержки наук в стране
по отцовскому образцу29. Миллер подготовил текст, где, к ужасу академических «контролеров», утверждал, что топоним Русь — поздний,
IX в., что многочисленные версии происхождения ее населения от
роксоланов, скифов, сарматов, а названия страны — от термина «рассеяние», или от города Старая Русса, или от имени князя не имеют под
собой никакого основания. Древним населением восточноевропейской равнины и Сибири вплоть до границ Китая автор считал чухонцев, чудь. Единственное, что могло утешить вельможных читателей и
слушателей его диссертации, — это этимология термина «славяне»,
якобы произошедшего от термина «слава», которую стяжали основатели городов Руси — Киева в V в., Новгорода — несколько позднее.
Ссылаясь на скандинавские названия днепровских порогов
у Константина Багрянородного, скандинавские имена в летописи
«Деяния датчан» Саксона Грамматика и исландские саги, Г. Ф. Миллер
признавал роль варягов в формировании государственности России,
возводил наименование этих морских разбойников к воинскому искусству и слову война (war). В. О. Ключевский остроумно заметил,
что «сказать по случаю тезоименитства на торжественном заседании
Академии, что шведы дали Руси и народное имя и государей, едва
ли значило украсить торжество»30. Недостаточное владение русским
языком усугубило ситуацию31. Миллер, лишь в 1746 г. перешедший
в российское подданство, но еще раньше ставший искренним патриотом новой родины, написал, что славян «всякой признает за первейших российского народа основателей»32 (!), однако перечислил
те европейские страны, в которых обосновались варяги, и заявил,
что этот народ «победоносным оружием благополучно покорил себе
Россию или лучше сказать Австрию, Острогардию, Гардарикию,
Голмгардию, Гуниландию, которыми именами тогда наши земли от
соседственных народов назывались, не зная еще тогда о Российском
имени». В приведенной цитате два выражения обращают на себя внимание: российские земли он именует «нашими», явно не дистанцируя
себя от их прошлого; второе же наречие — «благополучно» — может быть истолковано по-разному, в зависимости от того, относится
ли оно к покорителям или к покоренным. Думается, Миллер имел в
виду вторых, полагая, что действия варягов принесли благополучие
в страну, которую ныне он почитал своей родиной. Неловкость этого
выражения (результат либо спешки, либо — недостаточного владения
языками автора и переводчиков) был воспринят слушателями 23 ав-
�510 Анна Хорошкевич
густа на объединенном профессорско-историческом собрании в первом и оскорбительном для россиян смысле. Постановление же этого
собрания, тем не менее, предусматривало исправление неточностей
и срочное печатание текста к 6 сентября. Однако президент «перестраховался» — ассамблея по случаю юбилея восшествия на престол
императрицы Елизаветы Петровны была перенесена на 25 ноября, а
состоялась 29 ноября 1749 г., но без диссертации, которая из-за болезни автора якобы «уничтожилась», но тем не менее была опубликована
в 1768 г. А пока, в 1749 г., ее текст комиссия из четырех профессоров
(традиционная четверка — Фишер, Ломоносов, Штрубе де Пирмонт,
Тредиаковский) и двух адъюнктов (астроном Н. И. Попов и ботаник
С. П. Крашенинников) должна была «как наискорее освидетельствовать, не сыщется ль в оной чего для России предосудительного». Как
известно, кто ищет, тот всегда найдет…
Вопреки пословице, первому искателю ошибок это не удалось. В
отзыве от 13 сентября В. К. Тредиаковский поддержал идею печати.
По его мнению, есть вещи, которые «никогда не получат себе математической достоверности», нет «ни единого в свете народа, которого
первоначалие не было б темно и баснословно». Поэт не обнаружил никакого «предосуждения России»33.
Это удалось М. В. Ломоносову, только что ознакомившемуся с татищевским трудом, отличавшимся, по неожиданной оценке
М. Б. Свердлова, аналитическим подходом34. В репорте Ломоносова от
16 сентября главный упрек Миллеру заключался в том, что тот предпочитает иностранные источники отечественным и мало читал летописей, да еще упрекал Нестора в ошибках. Репорт содержал точный
ответ на полученное задание искать «предосудительного»: Россию
«благополучно грабят, завоевывают, разоряют, огнем и мечом истребляют». Автор диссертации готов-де представить российский народ
самым бедным на земле и самым молодым, тогда как Ломоносов,
воспитанный на идеях Гизеля35, полагал, что славяне были известны
до Рождества Христова, восходят к скифам, покоренным сарматами,
в число которых входили и роксоланы. Рецензент не отказал себе в
удовольствии подчеркнуть роль Гостомысла, правнучкой которого
он назначил княгиню Ольгу. Точная терминологическая поправка
Ломоносова (у славян были князья, а не цари российские) могла бы
быть поставлена критику в упрек как умаляющая достоинство древних российских правителей. Репорт М. В. Ломоносова трудно объяснить чем-либо иным, нежели исполнением обязанностей присяжного
раба государыни, милостиво предоставившей ему возможность трудиться на благо отечества в только что завершенной после длительно-
�Эхо сарматской теории в имперской России как... 511
го (1745–1748) строительства Химической лаборатории, о которой он
хлопотал с 1742 г.
Целью же диссертации Г. Ф. Миллера М. В. Ломоносов считал «принести» императрице «первые плоды обновленныя от Ея
Величества Академии… чтобы оная приятна была российским слушателям, всякому читателю новостию и справедливостию своею полезна». Ничего этого она не содержала, будучи «российскому слушателю
смешна и досадительна, и, по моему мнению, отнюдь не может быть
так исправлена, чтоб она когда к публичному действию годилась»36.
Резкость М. В. Ломоносова поразительна даже на фоне размышлений И. Д. Шумахера, часто изображаемого злым гением
Академии. В послании 18 сентября ближайшему коллеге — ботанику
Г. Н. Теплову — И. Д. Шумахер изложил более подходящий к случаю
вариант диссертации: «Происхождение народов весьма неизвестно.
Каждый производит их то от богов, то от героев… Изложу Вам различные мнения писателей по этому предмету и потом выскажу мое
собственное мнение… Я… представляю себе, что русская нация ведет
свое начало от скандинавских народов. Но откуда бы ни производили
русский народ, он всегда был народом храбрым, отличавшимся геройскими подвигами… Но он (Миллер. — А. Х.) хотел умничать. Habeat
sibi! (Пусть получает свое! — А. Х.)»37.
Трудно отделаться от впечатления о некоторой необъективности
профессора химии по отношению к «историографу». На обсуждении
М. В. Ломоносов действовал, «как верному сыну отечества надлежит по присяжной должности». Он принял присягу в качестве профессора химии 30 июля 1745 г. в храме капитула ордена св. Андрея
Первозванного и взял на себя обязательства не щадить собственного
живота, обороняя «все к высокому Ея И. В-а самодержавству силе и
власти принадлежащие права и прерогативы», споспешествовать всему, что к Ея И. В-а верной службе и пользе государственной касаться
может, и о ущербе же Ея Величества интереса, вреде и убытке благовременно объявлять, но и «отвращать и не допущать тщиться буду…
как доброму и верному Ея И. В-а рабу и подданному благопристойно
есть»38. Вероятно, Г. Ф. Миллер в 1747 г. приносил аналогичную присягу, но полагал, что научная истина выше его обязанностей раба Е. И. В.
В период обсуждения текста диссертации на Чрезвычайных профессорско-исторических собраниях (23.10.1749–21.06.1750) М. В. Ло
моносов, оставшийся самым непримиримым критиком текста
Миллера, вышел далеко за пределы взятых на себя в 1745 г. обязательств. В трех заключениях он заявил, что догадка Миллера о Кие —
князе гуннов — «неприятна российским слушателям и читателям», а
�512 Анна Хорошкевич
вовсе не Ея И. В-у39; мысль о преобразовании термина «рос» в «рус»
под влиянием польского языка наносит ущерб представлениям о самостоятельности русского языка, так же как заявление о происхождении русских имен — из греческого и еврейского. Согласно ответу
Миллера, эти имена вошли в обиход только после крещения, а скандинавы были раньше.
Спорящие стороны не нашли общего языка: «оной диссертации никоим образом в свет выпустить нельзя», — был вердикт
М. В. Ломоносова 21 июня 1750 г. В. К. Тредиаковский в тот же день
подтвердил свое прежнее мнение: начало народов темно и неясно.
Достоверен только рассказ Нестора о прибытии трех братьев-варягов, которые не были славянами, «а произошли ли они от славян, не
знаю»40. В. К. Тредиаковский предложил кое-что «умяхчить и усладить», ибо «нагая истина… ненависть рождает, а гибкая… поступка
приобретает множество другов и благодетелей»41.
Решения Собраний колебались между требованиями спрятать
диссертацию, сохранив экземпляр черновика и беловика в историческом Архиве (28.09.1749), или полностью ее уничтожить. Под натиском
Ломоносова и его рьяных сторонников — ботаника Крашенниникова
и астронома Попова — была принята формулировка первого ломоносовского рапорта: «Во всей речи ни одного случая не показал к славе
российского народа, но только… что к бесславию служить может, а
именно: как их многократно разбивали в сражениях, где грабежом,
огнем и мечом пустошили и у царей их сокровища грабили42. А напоследок удивления достойно, с какой неосторожностью употребил
экспрессию, что скандинавы победоносным своим оружием благополучно себе всю Россию покорили». В результате года обсуждения
24 сентября 1750 г. Канцелярия познакомила Профессорское собрание
с приказом об уничтожении тиража диссертации как «предосудительной России»43, что и было успешно произведено. Так была заложена традиция уничтожения культурных ценностей, благополучно
процветшая позднее, когда ликвидировались труды инаковерующих
старообрядцев и инакомыслящих коммунистов, крестьян и диссидентов-интеллигентов.
6 октября Миллер был на год разжалован из профессоров в адъюнкты с потерей половины жалования. Опала упорного ученого продолжалась до 21 февраля 1751 г., но и впредь его исследовательские
возможности были ограничены «сочинением сибирской истории»44.
Так на заре зарождавшейся отечественной исторической науки
на талант ученого была надета узда. Нужно добавить, что Миллер, к
своей чести, в роковых для него обстоятельствах 40-х гг. XVIII в. не
�Эхо сарматской теории в имперской России как... 513
был сломлен45 и продолжал верно служить истине и новой родине, которая, наконец, спустя 250 лет — в условиях краткого постсоветского
«демократизма», — признала его заслуги. Однако до сих пор далеко
не все его архивные материалы стали достоянием научной и любительской общественности. «В России нужно жить долго»…
Узда — благодаря «историческому гению» М. В. Ломоносова —
была надета и на историческую мысль России. М. В. Ломоносов, задетый за живое в своей пылкой и безграничной любви к России46 и имперской власти несостоявшимся докладом Миллера 1749 г., противопоставил его норманизму средневековый бред «Синопсиса» с полным
набором этногенетических средневековых мифов. «Краткий летописец» (1760) М. В. Ломоносова открывается утверждением: «Славяне
и чудь по нашим, сарматы и скифы по внешним писателям были
древние обитатели в России. Единородство славян с сарматами, чуди
со скифами для многих ясных доказательств неспоримо»47. Миллер
придерживался принципов рационалистической историографии своего времени и доверял источникам, наиболее близким по времени к
описываемым событиям, а для Ломоносова не было критерия времени
создания того или иного произведения. Миллера и Ломоносова разделяло не только отношение к документальной базе, но и характер
объяснений (например, «старцы градские» под пером Ломоносова
превращались в княжеских чиновников). Миллер предпочитал рационалистические объяснения: призвание варягов — потребностями
обороны, строительство городов, в том числе Москвы, — племенами,
а не легендарными героями. Важна и литературная фаза историографической работы. Ломоносов, по меткому наблюдению Г. Гусейнова,
«подходил к построению текста точно так, как к строительству своей
химической лаборатории или физическому эксперименту, организуя
текст в соответствии с точно поставленной целью. Это была система
подготовки требуемого эффекта48.
Этим завершился первый этап становления исторической науки в
России в период «национального возбуждения», позорный решающим
вмешательством верховной власти, твердо уверенной, что именно ей
дано знать истину и вершить суд в делах науки, и готовностью гения
в технических областях науки, но дилетанта в истории, из верноподданнических и «патриотических» соображений признать полномочия
власти и в этой сфере49. Традиция верховенства власти была заложена
при Петре I. Предлагая царю в награду за его труды «в произведении
нашего отечества и подданного Вашего всероссийского народа» новый титул императора, сенаторы ссылались на пример Рима50. Термин
«произведение» / «сотворение» здесь не случаен. «Регламент Главного
�514 Анна Хорошкевич
магистрата», отредактированный Петром, утверждал в духе эпохи
Просвещения, что «академии и школы сочиняют новый народ и новый свет, как мы во многих эвропейских нациях видим». Более того,
забота о подобном «сочинении» — «единая из главных должностей
высоких правителей».
Аналогичные периоды национального возбуждения случались и
позднее. После Отечественной войны 1812 г. духовная энергия мыслящей части общества была направлена не в прошлое, но в будущее. Но
и «умствования» декабристов, и их попытка действия были жестоко
пресечены.
Официозная мысль 30-х гг. XIХ в. праздновала поражение польского восстания 1830–1831 гг., на этой волне был создан государственный гимн самодержавной России51, общее настроение оказало
воздействие и на А. С. Пушкина, во времена которого «Синопсис»
все еще служил учебником истории, выдержавшим — по разным
подсчетам — 17, 25, 27, 30 изданий52. Поэтому в пушкинской оценке Ломоносова на первом месте оказались определения «историк,
ритор»: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенной
силой понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда
науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей.
Историк, ритор, механик, минералог, художник и стихотворец, он все
испытал и все проник»53.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
Выражаю признательность Е. Н. Швейковской, благодаря которой
мне стала доступна капитальная монография М. Б. Свердлова: Сверд
лов М. Б. М. В. Ломоносов и становление исторической науки в России.
СПб., 2011.
Ключевский В. О. Наброски по варяжскому вопросу // Ключевский В. О.
Неопубликованные произведения / Отв. ред. М. В. Нечкина. М., 1983.
С. 113.
Клейн Л. С. Феномен советской археологии. СПб., 1993. С. 66–68. Ср.:
Кореняко В. Этнонационализм, квазиисториография и академическая наука. [Электронный ресурс]. URL: http://nationalism.org/aziopa/
korenyako.htm.
Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М.,
1992
Пештич С. Л. «Синопсис» как историческое произведение // ТОДРЛ.
М.; Л., 1958. Т. 15. С. 264–298; Моисеева Г. Н. Ломоносов и древнерус-
�Эхо сарматской теории в имперской России как... 515
ская литература. Л., 1971; Формозов А. А. Классики русской литературы
и историческая наука. М., 2012.
6
Мартин Груневег (о. Венцеслав). Записки о торговой поездке в Москву
в 1584–1585 гг. М., 2013. С. 161, 264.
7
Быкова Т. А. Литературная судьба переводов «Древней российской истории» М. В. Ломоносова // Литературное творчество М. В. Ломоносова:
Исследования и материалы. М.; Л., 1962. С. 237.
8
Ключевский В. О. Лекции по русской историографии // Ключевский В. О.
Соч. В 8 т. М., 1959. Т. 8. С. 403.
9
Свердлов М. Б. Указ. соч. С. 169, 214–215. Правда, патриоты его времени (П. П. Шафиров, Ф. Прокопович, Б. И. Куракин) увлеченно собирали памятники и сообщали информацию из них иностранным
авторам, в частности, согласно мнению Н. А. Копанева, поддержанному М. Б. Свердловым, но оспоренному С. А. Мезиным, А. Ф. де
Лимьеру, автору «Записок о царствовании Петра Первого» (1725–1726).
Голландский журналист, возводя происхождение русских к скифам и
сарматам, первым князем — в соответствии с летописями и утверждением Ф. Прокоповича — называл Рюрика (Там же. С. 255).
10 Проректор кафедральной школы в Кенигсберге приехал в Россию
в 1726 г. при содействии земляка, математика Х. Гольдбаха, конференц-секретаря Академии наук.
11 Свердлов М. Б. Указ. соч. С. 392–408.
12 Там же. С. 524.
13 Хотя Смута закончилась более 125 лет назад, ее события во многом
определяли отношение самодержавного официоза к Речи Посполитой.
Cр. мнение А. Трухина, будто сложности в отношениях России и
Польши берут начало с эпохи разделов Речи Посполитой конца XVIII в.
[Электронный ресурс]. URL: www.iriss.ru/attach_download?object_
id=000150070125&attach_id....
14 Чехов А.П. Из огня да в полымя // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем
в 30 тт. М., 1975. Т. 3. С. 58.
15 На пути издания источников возникали не только лингвистическо-терминологические, но и организационно-цензурные трудности. 24 апреля 1734 г. Академия наук, не желая иметь конфликтов с Синодом, признала его право решать вопрос об издании тех фрагментов «древних
летописцев… которыя… до духовности касаются», остальные же просила Сенат разрешить печатать безо всяких изменений и «продавать по
настоящей цене» (Свердлов М. Б. Указ. соч. С. 418).
16 У тех же, кто не покидал Петербурга, были перед Г. Ф. Миллером некоторые преимущества — прежде всего опыт «бюрократического»
общения с новой властью, самодержицей, круто изменившей стиль
�516 Анна Хорошкевич
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
придворной жизни (Гусарова Е В. Конная карусель в царствование
Елизаветы Петровны // Единорог. Вып. 2. М., 2011. С. 147–158), якобы
«наследницей» традиции петровских реформ, что, однако, оспаривается в современной историографии (См. подробнее: Рахматуллин М. А.
Екатерина II, Николай I, Пушкин в воспоминаниях современников. М.,
2010. С. 569–571; Хорошкевич А. Л. «Я — не историк» // Там же. С. 30).
Материалы для истории императорской Академии наук. СПб., 1895.
Т. 8. С. 595–596.
Свердлов М. Б. Указ. соч. С. 529–533. Внимание к литовским князьям со
стороны этнического немца в стране, столетиями переживавшей позор
Смуты и временной «оккупации» Кремля польско-литовским воинством, воспринималось болезненно.
Уже в июне 1748 г. цензуре было подвергнуто опубликованное в официальных «Санкт-Петербургских ведомостях» сочинение Миллера о
тангутских племенах (в пер. К. А. Кондратовича).
Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. в 11 тт. М., 1950–1959. Т. 10. С. 462.
Свердлов М. Б. Указ. соч. С. 542–545.
Представитель старинного боярского рода детство провел при дворе царя Ивана V, cупругой которого с 1684 г. была его родственница
Прасковья Федоровна. Сторонник Петра I участвовал в Полтавской битве, Прутском походе. В 1712–1716 гг. часто ездил в Польшу и Германию
для усовершенствования в фортификации, артиллерийском деле и математике, благодаря чему овладел польским и немецким языками.
Участник экспедиции Д. Г. Мессершмидта 1721–1722 гг., Страленберг
знал Сибирь и ее народы. Его сочинение «Северная и Восточная
часть Европы и Азии, поскольку таковая охватывает все Русское государство с Сибирью и Великую Татарию» было издано на немецком
языке (1730). Древнейшую историю России он представил почти по
«Синопсису» Гизеля: земли Скифии и Сарматии позднее были заняты
россиянами. Кий, выросший при дворе скандинава Рюрика, призванного Гостомыслом, вернулся в родной город на Днепре. Варягов — морских разбойников (волков) — он объединил со славянами варягами-ваграми С. Герберштейна (Свердлов М. Б. Указ. соч. С. 263–264). См.:
J. G. Sparwenfeld’s Diary of a Journey to Russia 1684–87 / U. Birgegård,
G. Sparwenfeld. Uppsala, 2002.
Пекарский П. Новые известия о В. Н. Татищеве. СПб., 1864. С. 20–22.
Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 203–205.
В особенности исследователей привлекали «портреты князей», домысленные автором «Истории Российской». Наиболее здравые суждения о
методах работы В. Н. Татищева были высказаны А. А. Шахматовым в
1920 г., Н. Л. Рубинштейном в 1941 г., С. Н. Валком и С. Л. Пештичем
�Эхо сарматской теории в имперской России как... 517
27
28
29
30
31
в 60-е гг. ХХ в., Е. М. Добрушкиным и Я. С. Лурье — в 70-е гг. ХХ в. и
А. П. Толочко — в 2005 г. Они, впрочем, не убедили тех, кто по-прежнему доверяет всем сообщениям Василия Никитича. Можно надеяться,
что после предпринятого М. Б. Свердловым обзора «Татищевианы»,
наглядно продемонстрировавшего результаты текстологического анализа «Истории российской» (Свердлов М. Б. Указ соч. С. 440–449), ряды
легковерных патриотов слегка поредеют.
Велики заслуги В. Н. Татищева во введении в научный оборот древних
памятников: это «Русская Правда», «Судебник 1550 г.» (открыт им в
1734 г.). Высокая оценка духовных грамот русских князей отчасти подготовила публикацию этих памятников в Древней Российской Вивлиофике
Н. И. Новикова в 1773–1775 гг. Не исключено соучастие Татищева не
только в судьбе, но и в сочинении (как и полагал К. В. Баранов) первого варианта знаменитого «завещания Ивана Грозного», известного
по «копии» 1805 г., однако этот вопрос еще нуждается в дальнейшем
изучении. (См.: Баранов K.В. Об общей жалованной грамоте Василия
Темного ростовским боярам // Сообщения Ростовского музея. Вып. IX.
Ростов, 1998. С. 34; Зольдат К. «Aкадемическая» публикация духовной
грамоты Ивана IV // Сословия, институты и государственная власть в
России. Средние века и раннее Новое время. Сб. научных статей памяти акад. Л.В. Черепнина. М., 2010. С. 238–246). Комментарии к тексту
завещания впервые опубликованы Корнелией Зольдат, любезно предоставившей мне возможность ознакомиться с ее интересным исследованием (Soldat C. Die Testamente Ivans des Schrecklichen. Berlin, 2011).
Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 6. С. 15–16.
М. Б. Свердлов обратил внимание на важность торжества для президента
Академии, надеявшегося в случае удачи сохранить свой пост, несмотря
на смену фаворита императрицы. Многочисленные Шуваловы, уже стоявшие тесной толпой у трона, проталкивали на роль президента ИАН
своего родственника, 22-летнего красавца, блестяще образованного
И. И. Шувалова (1727–1797). См.: Свердлов М. Б. Указ. соч. С. 551–552.
Ключевский В. О. Лекции по русской историографии. С. 403–405.
Он писал по-немецки. На латынь переводили адъюнкт К. Ф. Модерах
(первую и вторую тетрадь первого варианта, сданные автором 8 и
27 июля) и переводчик В. Лебедев (часть второго переработанного варианта, сданного 3 августа). К сожалению, качество перевода, подготавливавшегося в большой спешке к 6 сентября, видимо, оставляло желать
лучшего. В той же редакции диссертации употреблено слово «позорище» со значением «обозрение» (Свердлов М. Б. Указ. соч. С. 561). Между
тем, уже в XVII в. у этого слова появилось и пейоративное значение
(СлРЯ XI–XVII вв. М., 1990. Вып. 16. С. 124).
�518 Анна Хорошкевич
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Свердлов М. Б. Указ. соч. С. 562.
Возможно, Ломоносов знал и отзыв В. К. Тредиаковского, с которым
порой соперничал и с азартом спорил. Не с разногласий ли по поводу
диссертации Г. Ф. Миллера между поэтом и «историком-ритором» пробежала кошка, подпортившая их отношения?
Свердлов М. Б. Указ. соч. С. 564.
Фундамент представлений М. В. Ломоносова о прошлом Родины был заложен в 30-е годы, во время обучения в Московской Славяно-греко-латинской
коллегии у выходцев из Киево-Могилянской академии, авторитетных знатоков этого прошлого. Поэтому именно под пером «историка, ритора» несколько позднее — в 1760 г. — приобрела законченный вид российская проекция сарматской теории, которой он остался верен и в своем специальном
историческом труде «Древняя российская история от начала российского
народа до кончины великого князя Ярослава первого или до 1054 года», изданном усилиями Г. Ф. Миллера в 1766 г. — после смерти автора.
Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 20–25.
Пекарский П. История императорской Академии наук в Петербурге.
СПб., 1870. Т. 1. С. 56–57.
Карпеев Э. П. Русская культура и Ломоносов. СПб., 2005. С. 107–108;
Свердлов М. Б. Указ. соч. С. 569–570.
Миллер справедливо возражал, что Ломоносов требует «панегирической речи», а не исторической диссертации, где могут быть освещены
события, не относящиеся ни к славе, ни к бесславию.
В этом утверждении М. Б. Свердлов усмотрел впервые сформулированную идею этнокультурного синтеза восточных славян и варягов-руси, в
результате которого сложилось население «славянороссов» или «славяноруссов» (Свердлов М. Б. Указ. соч. С 575).
Пекарский П. История императорской Академии наук в Петербурге.
СПб., 1873. Т. 2. С. 239–247.
В этой связи в глаза бросается различие реакций Ломоносова на сочинения Миллера и Татищева. В труде последнего аналогичные сведения
оценены как полезные для воспитания юношества.
Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 6. C. 550.
Пекарский П. История императорской Академии наук в Петербурге.
Т. 1. С. 365.
В 1755–1765 гг. Г. Ф. Миллер редактировал «Ежемесячные сочинения,
к пользе и увеселению служащие», где поместил статью «О начале
Новгорода и российского народа». В ней он вынужден был сделать
уступку оппоненту и объявить, что с Балтийского побережья происходили роксоланы — предки россов. Здесь же он опубликовал и первый
вариант сочинения о Несторе.
�Эхо сарматской теории в имперской России как... 519
46
47
48
49
50
51
Ср.: «Ломоносовым владела пламенная страсть, которую можно выразить в одном слове — Россия. Она подвигла его ввязаться в драку
с Миллером и серьезно заняться изучением российской истории»
(Володина Т. А. У истоков «национальной идеи» в русской историографии // Вопросы истории. 2000. № 11–12. С. 3–18).
Это утверждение восходит к рапорту Ломоносова в канцелярию
Академии наук от 16 сентября 1749 г. (Ломоносов М. В. Полн. собр. соч.
Т. 6. С. 553). Если Ломоносов свободно черпал материал из «Синопсиса»
и хроники Мацея Стрыйковского как из достоверного источника, то
для Миллера последний был «славным историком» (Маловичко С. И.
М. В. Ломоносов и Г. Ф. Миллер: спор разных историографических
культур // Ейдос: Альманах теорiп та iсторiп iсторичноп науки. Кипв,
2009. Вип. 4. С. 331—354)..
Гусейнов Г. Некоторые особенности риторической практики М. В. Ло
моносова // Scando-Slavica. 1994. T. 40. P. 88–112.
Данная оценка полностью расходится с мнением одного из наиболее агрессивных поклонников исторического гения — В. В. Фомина:
«Н. Л. Рубинштейн внушал, что Ломоносов лишь “во имя национальной гордости” восстал против монополизации иностранцами исторической науки и норманской теории, что он, не будучи “историком-специалистом”, безосновательно критиковал Миллера. Работы же Миллера
Рубинштейн характеризовал как “совершенно новый этап в развитии
русской исторической науки” и предельно высоко оценивал “строгость научной критики, точность научного доказательства” Байера и
Шлецера» (речь идет об учебнике: Рубинштейн Н. Л. Русская историография. М., 1941, подвергшемся жестокой критике в период борьбы с космополитизмом. — А. Х.). Сегодня в науке в оценке Ломоносова как историка также торжествует самый крайний скептицизм: Л. П. Белковец,
А. Б. Каменский, Д. Н. Шанский, А. С. Мыльников, Э. П. Карпеев,
И. Н. Данилевский и др. настойчиво подчеркивают, что Ломоносов в
споре с Миллером, знавшим источники лучше своего оппонента и стремившимся доказать истину, был пристрастен, создал совершенно ненужный ажиотаж вокруг варяжской проблемы и, являясь выразителем
“амбициозно-национальной” политики, заменял научную аргументацию “доводами гипертрофированного патриотизма”. [Электронный ресурс]. URL: http://www.portal-slovo.ru/history/35101.php. Остается лишь
согласиться со скептиками.
Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. М., 1945. С. 155.
Цит. по: Свердлов М. Б. Указ. соч. С. 166).
Киселева Л. Н. Карамзинисты — творцы официальной идеологии: заметки о российском гимне // Тыняновский сборник. Вып. 10.
�520 Анна Хорошкевич
52
53
Шестые, седьмые, восьмые Тыняновские чтения. М., 1998. С. 30–32;
Хорошкевич А. Л. Герб, флаг и гимн. Из истории государственных символов Руси и России. М., 2008. С. 158–161.
Формозов А. А. Указ. соч. М., 2012. С. 15.
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т. М., 1964. Т. 7. С. 28–29.
�Ольга Цыбенко
(Москва)
Константин Леонтьев
о
поляках и Польше
Цыбенко Ольга Васильевна — кандидат филологических наук, Россия, Москва,
Институт славяноведения
РАН
Пока еще не привлекало внимания
исследователей отношение к польскому
вопросу Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891) — писателя, литературного критика, публициста, общественного и религиозного мыслителя. Не будучи
вполне оцененным при жизни, позднее он
был поименован «русским Ницше», гениальным пророком. Действительно, некоторые его предчувствия сбылись — например, о том, что социализм скорее восторжествует в России, менее защищенной от
революций, чем в Западной Европе. Восприняв многие идеи славянофилов, Леонтьев вступал с ними в полемику, причем
именно по славянскому вопросу; увлекался Владимиром Соловьевым, во многом с
ним не соглашаясь; высоко ценил художественный гений Л. Толстого, но осуждал
его и Достоевского за «розовое христианство». Как личность своеобразная, он,
по сути дела, был одинок, особенно как
автор афоризма о том, что «Россию надо
подморозить». Его суждения и приговоры, не всегда справедливые, пугали своей
резкостью и жесткостью — так, В. Розанов
считал, что некоторые из них создают физическое ощущение, будто режут ножом
по стеклу.
Служа в 1860-е гг. на Востоке на различных дипломатических должностях,
�522 Ольга Цыбенко
Леонтьев неоднократно сталкивался с представителями польской
эмиграции, в 1888 г. он опубликовал свои воспоминания в статье
«Польская эмиграция на нижнем Дунае»1. Наблюдать их разнообразные характеры он находил «не всегда безопасным, но весьма занимательным». Леонтьев отмечает, что в Адрианополе были «львы и
тигры эмиграции», лихие офицеры Садык-паши, красивые лица, манеры хорошие, положение в обществе видное — «барство военное».
В Тульче же в 1867–1868 гг., где Леонтьев был вице-консулом, он застал уже остатки разгромленного «мятежного гнезда» — «жалкий
пролетариат эмиграции». Должность Леонтьева обязывала его противодействовать польскому революционному подполью, для борьбы
с которым и было основано русское вице-консульство в Тульче. Биографы пишут о его успешных действиях в этом направлении. Писатель описывает те подробности неудачной экспедиции Милковского,
пытавшегося с вооруженным отрядом повстанцев перейти русскую
границу, которые ему стали известны — дело происходило за пять
лет до его появления там. Затем дает портреты двух выдающихся
личностей, с которыми ему довелось познакомиться в Тульче. Один
— талантливый, умный, закоренелый враг России, один из организаторов повстанческого движения — Воронич, в то время уже больной, служил во французском консульстве. Имея прочное положение,
Леонтьев осмелился его посетить, нарушая твердое правило русских
дипломатов игнорировать подобного рода поляков. Писателю понравился этот «враг непримиримый, даровитый», со «сверкающими
серыми глазами». С другим, тоже французским служащим, стариком Жуковским, «приятным и лукавым патриархом», Леонтьев часто
беседовал, он вспоминает его с теплым и искренним сочувствием,
хотя и подозревает, что тот помогал «своим». Леонтьев рассказывает также о попытках двух поляков оскорбить его из ненависти к
«москалям». С одним из них — сначала разбившим, а потом починившим (он был хороший токарь), дорогую для писателя вещь — он
впоследствии даже подружился. Поляки Леонтьеву «эстетически»
нравились, он вспоминает в этой же статье, как ему в детстве понравился молодцеватый юнкер-поляк, танцующий мазурку, как он
любил, когда сестра исполняла на фортепьяно мазурку Хлопицкого,
пишет о дружеском общении с военным доктором-поляком, своим
коллегой2.
В поляках Леонтьева привлекали смелость, гордость, честолюбие, тщеславие, «гонор», аристократическое чувство формы, верность
католичеству. Он их предпочитал всем другим славянам. Об особом пристрастии Леонтьева к полякам писали авторы монографий о
�Константин Леонтьев о поляках и Польше 523
нем — Н. Бердяев и Ю. Иваск, называвший его полонофобом и полонофилом одновременно.
Национальной односторонности Леонтьев был чужд; превыше
всего ценя разнообразие и сложность, «цветение», он ненавидел современную ему западную цивилизацию за то, что она несет в себе угрозу
уравнивания, уничтожения своеобразия, смешения и наций, и сословий, и личностей. Культурным и религиозным творчеством Европы
старой — средневековой, рыцарской — Леонтьев восхищался. Много
привлекательного он находил у турок, ему нравились строгость их нравов, разнообразие, пышность, яркость их быта. Греками он восторгался
не как наследниками эллинов, а как народом, выработавшим и охранившим православие, более преданным ему, чем современные болгары
и другие югославяне. Русские же, по его мнению, только тем и хороши, что восприняли культуру и христианство из Византии. В России
Леонтьев, как и Тютчев, видел прежде всего православную монархию,
которую должен защищать каждый, кому дорога истинная вера. Ей не
дано восторжествовать в пределах истории, земной мир обречен, можно
лишь пытаться оттянуть конец времен и дать шанс как можно большему числу людей обрести личное спасение. Отсюда — желание «подморозить», замедлить неуклонное скольжение в пропасть. Россия обречена, и слишком мало защитников истинной веры, прежде всего среди
самих русских, которые рабски поклоняются Западу.
Интересно, что Леонтьев, в отличие от некоторых славянофилов,
вовсе не видел в поляках «предателей славянства». Подразумевая под
предательством приверженность католицизму, следовало бы, — весьма трезво подмечает Леонтьев, — к числу предателей отнести чехов и
других славян-католиков.
В своей важнейшей работе «Византизм и славянство» (1875) Леонтьев, споря со славянофилами, утверждает, что славянство есть,
а «славизма» нет, слишком многое славян разделяет: историческое,
культурное влияние империй, в которые они входят, конфессиональная принадлежность и т. д.
На антагонизме Польши и России, на всем, что их разделяет, Леонтьев в своей работе останавливается мало, объясняя, что «теперь»
это всем читающим русским людям известно, и считает нужным обратить внимание на то, что сближает поляков и русских и отличает
их от других славян: «Из всех славян только поляки и русские жили
долго независимой государственной жизнью, и поэтому у них накопилось, так сказать, и удержалось больше своего собственного, чем у
всех других славян... Уже одно существование своего национального
дворянства и у поляков, и у русских отличает их резко от всех других
�524 Ольга Цыбенко
славян. Русское служилое сословие и польская шляхта очень несходны своей историей; они лишены теперь почти всех своих существенных привилегий, но впечатления исторического воспитания в детях
этих двух сословий проживут еще очень долго».
Сближает поляков и русских «сословное воспитание наций, которого следы слабее у австрийских славян и которого вовсе нет в нравах
у славян турецких». «В России дворянство было гораздо слабее», —
отмечает Леонтьев, — в то время как «польское дворянское сословие,
вельможи и шляхта, остаются до сих пор представителями своей нации: они совершают все национальные движения полонизма»3.
С января по апрель 1880 г. Леонтьев жил в Варшаве, будучи
помощником редактора официальной русской газеты «Варшавский
дневник» и помещал в ней свои передовые статьи и фельетоны. Цензура здесь была еще более строгой, чем в России, и Леонтьев не пишет о своей симпатии к полякам, вообще редко о них упоминает. На
страницах официальной газеты неудобно было восхвалять шляхту и
католичество. Едва ли он одобрял русификацию.
Полнее по этому вопросу он высказался в статье «Православие
и католицизм в Польше», написанной в 1880 г. в Варшаве, но напечатанной двумя годами позднее в еженедельнике «Гражданин». Статья
явилась полемическим откликом на публикацию М. И. Кояловича по
вопросу о примирении с поляками в «Холмско-Варшавском епархиальном вестнике». Коялович видел главное препятствие искреннему
и прочному примирению русских с поляками во «всегдашнем преобладании в поляках фанатического, ультрамонтанского направления».
Приведя обширный фрагмент его статьи, Леонтьев пишет, что согласен и с фактами, и с чувствами, и с выводами автора, но, вместе с тем,
видит за ними нечто иное, более отдаленное и более существенное. С
такой, более широкой перспективы «неприятное становится сносным,
вредное — полезным».
В польском католицизме, в сопротивлении русификации Леонтьев видит меньшее зло, чем в либерализме и европейничании русской
интеллигенции: «Католики люди крепкие, убежденные, упрямые, которые и нам могут служить добрым примером… Если верующий
человек не фанатик своей веры, то это только личная слабость его и
больше ничего. Не нужен, может быть, фанатизм насилия, но фанатизм отпора, фанатизм самоотвержения прекрасны… Необходим,
вероятно (увы!), в жизни людской и фанатизм терпеливой ловкости»
(здесь и далее выделено автором)4.
Леонтьев соглашается с Кояловичем, что борьба трудна, но «теперь и турок надо признать полезными противниками». Он считает
�Константин Леонтьев о поляках и Польше 525
«твердых католиков очень полезными, не только для всей Европы
(Бог с ней — с Европой!), но и для России».
«Прогресс наш сделал то, — продолжает автор, — что на всякий
иноверный и твердый в своем иноверчестве элемент государства нашего теперь надо смотреть, как на благо! Не православие истинное,
сердцем простое, мыслью ясное, волей твердое, вливаться будет во
все бреши, образуемые… современной русификацией нашей, а жалкие помои великорусской либеральности… Русификация окраин есть
не что иное, как демократическая европеизация их… Народ рано или
поздно везде идет за интеллигенцией. Интеллигенция русская стала
слишком либеральна, то есть пуста, отрицательна, беспринципна…
Русская интеллигенция так создана, что она чем дальше, тем бесцветнее; чем дальше, тем сходнее с любой европейской интеллигенцией;
она без разбора, как огромный и простодушный страус, глотает все:
камни, стекла побитые, обломки медных замков (лишь бы стекла и
замки были западной фабрики). Страус не может понять, что стекло
режет желудок и что медь, окислившись, отравит его… Такова интеллигенция наша, взятая как всецелое, как социологическая единица»5.
«У поляков о настоящем нигилизме меньше слышно, чем у
нас», — считает Леонтьев.
Как видим, размышления Леонтьева о разрешении болезненного вопроса о польско-русских отношениях тесно связаны с его мыслями о судьбе самой России и предназначении ее интеллигенции, о
судьбах Европы и всего человечества, которому грозит в конечном
счете «красный всеобщий нигилизм»6. Соотнесенность польско-русского вопроса с мировыми судьбами прослеживается, конечно, не
только у него, но и в творчестве многих деятелей русской и польской
культуры на протяжении уже двух столетий. Позиция мыслителя
по-своему уникальна в своей последовательности и резкости. Вместе с тем публицистика К. Н. Леонтьева представляет интересный
пример того, как твердая государственническая, патриотическая
позиция сочетается с явно выраженной симпатией к полякам, основанной во многом на живых впечатлениях от общения с ними (часто именно с повстанцами!), в такой трудный для русско-польских
отношений период. Характерно признание Леонтьева, сделанное им
в статье о польской эмиграции: «Будем строги в политике; будем,
пожалуй, жестоки и беспощадны в “государственных” действиях, но
в “личных” суждениях наших не будем исключительны. Суровость
политических действий есть могущество и сила национальной воли;
узкая строгость личных суждений есть слабость ума и бедность
жизненной фантазии»7.
�526 Ольга Цыбенко
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
6
7
Впервые в «Санкт-Петербургских ведомостях». Цит. по: Леонтьев К. Н.
Собр. соч. В 9 т. М., 1912–1914. Т. 9. С. 335–365.
Там же. С. 348–349.
Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 118.
Там же. С. 341.
Там же. С. 341–342.
Там же. С. 343.
Там же. С. 347.
�Светлана
Шерлаимова
(Москва)
Некоторые сюжеты
из истории
чешско-польских
литературных связей
Шерлаимова Светлана Алек
сандровна — доктор филологических наук, Россия,
Москва, Институт славяноведения РАН
Польша и Чехия близки не только по
географическому соседству, но и по языковому признаку — принадлежности к
западнославянской языковой группе. В отдельные эпохи оказывались сходными их
исторические судьбы, а на рубеже XIII и
XIV вв. чешский король Вацлав II был также и королем польским. Некоторые общие
моменты отчетливо проступают в развитии их культур, литературы прежде всего.
Первый президент Чехословакии
Томаш Гарриг Масарик, формулируя во
время Первой мировой войны свое видение нового устройства Европы, писал
о чешско-польских взаимоотношениях:
«Между польским и чешским народами
существует значительное языковое, национальное и культурное родство; поляки и
чехи на протяжении долгого времени развивались параллельно благодаря одним и
тем же или сходным условиям, предопределенным географическим положением.
Их соседство с самого начала облегчало
их связи; с древнейших времен эти связи
были дружескими, были и недружественными, но они были всегда»1. Это в полной
мере относится к связям между польской
и чешской литературами, которые были
и остаются по сей день достаточно прочными и дружественными (хотя и не без
конфликтов) — на пользу обеим сторонам.
�528 Светлана Шерлаимова
«Дружественности» чешской и польской литератур издавна способствовала этнолингвистическая близость этих славянских народов.
Т. Г. Масарик в своем концептуальном труде «Чешский вопрос. Наш
современный кризис» (1895) констатировал, что чешскому студенту
нетрудно выучить польский язык, а это может дать ему очень много: «В польской литературе гораздо больше пособий для образования,
чем в нашей. Поляки делают много, и притом хороших, переводов, да
и сами они создали немало хорошего и даже прекрасного как в науке,
так и в поэзии»2.
В первой половине ХIХ в., в эпоху набиравшего силу чешского
национального возрождения, польская литература, наряду с английской и немецкой, оказала существенное влияние на формирование
чешского романтизма. Исследователи справедливо отмечают воздействие Мицкевича и Словацкого на творчество основоположника
чешской романтической поэзии, автора поэмы «Май» Карела Гинека
Махи, которого по праву называют первым великим чешским поэтом.
Маха принес в чешскую поэзию, как Мицкевич в польскую, новую
проблематику и нового, гордого, свободолюбивого и отважного героя,
однако у автора «Мая» бунт героя вызван личными, а не общественными причинами и богоборческими настроениями. Как и Мицкевич,
Маха в своей отечественной поэзии прокладывал дорогу не только романтизму, но и реализму и выступал новатором литературного языка.
Можно отметить некоторое сходство в выборе этими двумя поэтами
художественных средств, сходство используемой ими метафорики.
Так, болгарская богемистка Жоржета Чолакова убедительно сопоставила смысл образа озера в поэме Махи «Май» и балладах Мицкевича
«Свитезь» и «Свитезянка»3.
Но я хотела бы снова обратиться к Масарику, который восхищался Мицкевичем, однако вместе с тем в «Чешском вопросе» спорил с
некоторыми романтическими иллюзиями великого польского поэта.
Мицкевич высоко ценил образованность чехов, развитие чешской науки, но при этом не без оснований полагал, что одной ученостью независимости не добиться, что чехи слишком увлекаются изучением
старины, слишком уповают на славянское содружество (Ян Коллар)
и великую Россию. Масарик, со своей стороны, считал, что Мицкевич был излишне увлечен мечтой об открытой борьбе, излишне восторгался героями типа Наполеона («Наполеон, ecco homo!»). Масарик
напоминал, что сам польский поэт к концу жизни стал профессором,
ученым. В этом заочном споре можно уловить определенное различие
чешской и польской ментальности и характеров, которое отразилось и
на известном различии польского и чешского романтизма.
�Некоторые сюжеты из истории чешско-польских... 529
Приведу еще один показательный пример чешско-польских отличий периода романтизма, когда они проявились в противоречивости отношения деятелей чешской культуры к польскому соседу. Переводчик Гоголя, один из основоположников реализма в чешской литературе, замечательный поэт-сатирик Карел Гавличек-Боровский переводил в молодости эпиграммы Мицкевича. Он сочувствовал борьбе
поляков против засилья Российской империи, но, пожив во Львове на
пути в Москву и познакомившись с тем, как поляки угнетают украинцев, он стал критически относиться и к Польше: «Я познакомился
с Польшей и — она мне не понравилась, я с ненавистью и презрением
покинул сарматские края и после Нового года в лютые морозы трясся
в кибитке до Москвы, согреваясь главным образом сердечной всеславянской взаимностью. Русские морозы и прочие русские дела погасили во мне последнюю искру всеславянской любви…»4 Однако критическое отношение к стране (а к имперской России Гавличек относился
с еще большей ненавистью, чем к Польше, притесняющей украинцев)
отнюдь не распространялось на всю ее литературу: Гавличек полюбил Гоголя, переводил «Мертвые души» и другие его произведения,
как и эпиграммы Мицкевича. Так же широко известны тесные и плодотворные взаимосвязи польской и русской литератур — при всей
многовековой драматичности отношений России и Польши.
Развитие чешской литературы после раннего расцвета в эпоху гуситства и явления в начале ХVII в. такой яркой фигуры общеевропейского масштаба, как писатель, философ и педагог Ян Амос Каменский,
в последующие почти два века — вплоть до подъема национального
возрождения — заметно отставало от больших европейских литератур.
После поражения в битве на Белой горе (1620) Чехия утратила национальную самостоятельность, превратившись просто в провинцию Австрийской империи, чешский язык оттеснился немецким на обочину
культурной жизни, что сразу же сказалось на положении литературы.
В этот период пути и темпы развития польской и чешской литератур
существенно разошлись. Потребовалось несколько десятилетий упорной работы ученых, переводчиков и писателей, чтобы вернуть былой
высокий статус чешскому литературному языку, создать возможность
дальнейшего движения вперед национальной литературы. На выравнивание уровня чешской литературы с большими европейскими, в том
числе и польской, ушел практически весь ХIХ в. Но к концу века это
было достигнуто, и в этом процессе большое значение имели зарубежные культурные влияния, включая приходящие из соседней Польши.
Остановлюсь на одном сюжете. В 90-е гг. в Чехии получают
распространение некоторые модернистские течения, прежде всего
�530 Светлана Шерлаимова
в поэзии. В этом сказывалось влияние французской, немецкой, но и
польской литературы (русское влияние на чешскую, как и на другие
европейские литературы, в тот период проявлялось прежде всего в
области прозы высокого реализма: Достоевский, Толстой). В Чехии
с успехом распространялась индивидуалистическая философия Ницше, а в театрах шли пьесы поляка Станислава Пшибышевского, молодежь увлекалась его романами. Пшибышевский был писателем двуязычным: писал по-немецки, затем переводил свои вещи на польский.
Для чехов его сочинения были тем более доступны, что чехи в своем
подавляющем большинстве свободно владели немецким, образование
было немецким и т. д. Ведь и идеолог борьбы за национальную независимость Т. Г. Масарик писал свои труды, в частности, те, которые
цитировались выше, на немецком языке.
Влияние таких произведений Пшибышевского, как «Синагога сатаны» (1897) или «Дети сатаны» (1897) отчетливо проступает
в раннем творчестве будущего «пролетарского поэта» Станислава
Костки Неймана, занимавшего особое место в чешском символизме. В начале своего пути будущий автор революционных «Красных
песен» (1923) и пропагандист социалистического реализма какое-то
время примыкал к кругу самого «декадентского» из всех чешских
журналов — «Модерни ревю» — и под воздействием «сатанизма»
Пшибышевского писал стихи сборника стихов «Слава сатаны среди
нас» (1897). Замечу, что Нейман по отцовской линии происходил из
онемеченного польского, он утверждал, что — дворянского — рода,
гордился этим и отсюда — добавление «Костка» в его имени. Однако, наряду с очевидной перекличкой мотивов с творчеством Пшибышевского, в стихах Неймана проступало, и с течением времени и
его сближением с анархистским рабочим движением чешского Севера — все отчетливее, существенное отличие его поэзии от польского
образца. Сохранялось чувство гордого одиночества лирического героя, но уменьшались настроения упадочности, исчезала мрачность.
Вот так в стихах «Славы сатаны среди нас» молодой поэт рисует
свой автопортрет:
Одинокий и гордый,
я войну объявил навсегда
скользким змеям, влачащим нечистые дни
в путанице ядовитых растений.
Поднял ненависть я как щит,
Жду удара.
(Перевод С. Кирсанова)
�Некоторые сюжеты из истории чешско-польских... 531
В сборнике Неймана «Сон о толпе отчаявшихся» и другие стихотворения» (1903) сатана предстает уже как предводитель обездоленных масс, готовый вести их на борьбу за свободную светлую жизнь:
Я есть Жизнь, я — сила, наслаждение, гордость и бунт,
я живу в вас и вы, живя, живете во мне.
Ибо не приготовил я для вас царства мертвых,
Я Жизни вернуть вас хочу, из когтей Смерти вернуть вас.
(Перевод подстрочный)
Но при всей индивидуальности и всем бунтарстве Неймана можно сказать, что первоначальный импульс именно такой образности и
столь открытого выражения решительного несогласия с окружающей
действительностью был им получен не только от его личного участия
в чешском национально-освободительном и социально-революционном движении, но и от польской поэзии.
В ХХ в., особенно во второй его половине, наблюдается усиление
чешско-польских литературных связей не только в поэзии, но главным образом в области прозы. Возрастает число взаимных переводов
и их качество. Надо специально отметить переводы чешской альтернативной литературы в 70–80-е гг., пусть, как правило, и «во втором
круге обращения». Переводили Йозефа Шкворецкого, Милана Кундеру и многих других. У себя на родине эти авторы находились под категорическим запретом, у нас не разрешалось упоминать их имена даже
в критическом контексте. Поэтому я, например, благодаря польским
друзьям впервые прочитала оперативно переведенную на польский
«Невыносимую легкость бытия» Кундеры, находясь в командировке
в Варшаве.
Особый сюжет — взаимоотношения чешских и польских писателей в эмиграции. Так, Кундера в Париже общался с Казимиром Брандысом, в эссе из книги «Нарушенные завещания» писал о «радостной
возможности» встречаться с ним в Париже; с симпатией относился к
Чеславу Милошу. Он не был лично знаком с Витольдом Гомбровичем,
который был на четверть века старше чешского романиста, но чрезвычайно высоко ценил его творчество, причисляя Гомбровича к самым
выдающимся представителям литературы Центральной Европы наряду с Кафкой, Гашеком, Музилем и Брохом. Замечу, что в один ряд с
Гомбровичем, Музилем и Брохом Мария Янион в книге «Проект фантазматической критики» (1991) ставит самого Кундеру, который, по ее
�532 Светлана Шерлаимова
мнению, как и они, в своих романах эволюционирует от психологизма
в направлении к феноменологии (с ней Янион связывает свой проект).
О популярности Кундеры в Польше можно судить по большому числу
переводов его произведений на польский язык, по числу их изданий и
переизданий, а также по многочисленным работам о его творчестве,
принадлежащим не только специалистам-богемистам, но и литературоведам других специальностей. В 1986 г. в Катовицах состоялся,
пусть и полулегально, симпозиум о творчестве Кундеры, материалы
которого были изданы в Лондоне. С другой стороны, Кундера в своих
теоретических и литературно-критических эссе, а также в некоторых
из своих романов писал о современных польских литераторах, наиболее часто — о значении творчества Гомбровича для европейской литературы. Кундера полагает, что Гомбровича несправедливо недооценивают, объясняя это тем, что тот писал исключительно по-польски —
на «языке малой нации». По мнению Кундеры, новаторство первого
романа Гомбровича «Фердыдурке», вышедшего в свет в 1938 г. — в
один год с тогда же получившей международное признание «Тошнотой» Сартра, — не было понято именно из-за «малого языка», на
котором «Фердыдурке» написан и который мало знают за пределами
родины его автора. Он возражает против того, чтобы «загонять» Гомбровича в «малый национальный контекст», стремится доказать, что
польский прозаик занимает важное место в мировой литературе — в
этом «большом контексте».
Кундера многократно обращается к произведениям этого любимого им польского писателя и в процессе изложения своей оригинальной теории романа, а также исключительной роли в развитии этого
жанра, которую сыграла в ХХ в. блестящая плеяда центральноевропейских романистов. Гомбрович не вернулся в Польшу, не захотел
туда приехать даже тогда, когда изменившаяся в его стране обстановка, казалось бы, уже этому благоприятствовала, но до конца жизни писал только по-польски. Очевидно, что Кундера ощущал в Гомбровиче
нечто душевно себе близкое с точки зрения эмигрантской судьбы. Тем
более — с точки зрения романной поэтики. В центральноевропейском
романе и именно у Гомбровича он подчеркивает столь ценимые им
«аверсию к романтизму», юмор, уходящий корнями к «Гаргантюа и
Пантагрюэлю» Рабле, любовь к предбальзаковскому роману, свободный от иллюзий авангарда «другой модернизм». Но все это не было
простым возвращением назад, повторением старого, ибо Гомбрович,
как и другие «постпрустовские романисты», не отбросил достижения
романного наследия XIX века, он его обогатил, отказавшись от догм
психологической прозы и опираясь на весь опыт развития европейско-
�Некоторые сюжеты из истории чешско-польских... 533
го романа, в который он привнес эссеистские отступления и приемы
игры, сделал его композицию более свободной. Он упрекает польскую
критику, которая не может простить Гомбровичу негативных высказываний о польском романтизме и «польскости», в непонимании новаторства Гомбровича, подчеркивает значение переводов произведений
писателей «малых наций» для справедливого определения их ценности на языки «больших наций»: «Если бы оценка книг Витольда
Гомбровича и Данилы Киша зависела исключительно от мнения тех,
кто знает польский и сербо-хорватский языки, их радикальное эстетическое новаторство никогда не было бы открыто»5. Гомбрович для
Кундеры — ярчайший представитель способного к дальнейшему развитию «постпрустовского романа».
«Дружественность» между чешской и польской литературами
отнюдь не равнозначна взаимному восхвалению. Интерес к литературам соседних родственных славянских народов не обходится без полемики, подчас весьма острой. Мы это видели уже на примере Гавличека-Боровского и Масарика. Тем более это проявляется на современном
этапе. К примеру, Густав Херлинг-Грудзиньский в своем «Дневнике,
писавшемся ночью» убедительно спорит с тем же Кундерой по поводу
его критических суждений о Достоевском, но совершенно несправедливо, резко отрицательно, отзывается о, на мой взгляд, серьезном и
глубоком кундеровском романе «Бессмертие».
После «бархатной революции» в Чехии значительно возрос интерес к польской литературе, в том числе молодой. В частности, активно переводятся и имеют читательский успех произведения Ольги
Токарчук, хотя некоторые чешские критики и высказывают сомнение
в оправданности столь теплого приема этой писательницы — в том
смысле, что «и наши пишут не хуже». Действительно, в современной
чешской литературе последних лет заявило о себе новое поколение
писателей-женщин, получающих престижные национальные и зарубежные литературные премии, но это нисколько не мешает позитивному отношению к Токарчук и другим польским авторам, книги
которых знакомят чешских читателей с издавна интересовавшей их
жизнью близкого славянского соседа, с близкой, но все же «другой»
художественной сферой польской литературы.
Выше шла речь о большой известности в Польше творчества Милана Кундеры. Но здесь знают, читают и ценят целый ряд других чешских писателей. С 60-х гг. очень активно переводятся произведения
Богумила Грабала, что не прерывалось и в годы «нормализации», когда этот выдающийся писатель у себя на родине был не особенно «в чести» у властей и некоторые его книги могли быть изданы только за ру-
�534 Светлана Шерлаимова
бежом. Чешский полонист Петр Последний в своей монографии «Границы диалога. Чешская проза глазами польской критики. 1945–1995»
(1998) объясняет популярность Грабала в Польше тем, что критики и
читатели его воспринимают как прямого продолжателя очень любимого здесь Ярослава Гашека. Последний цитирует хвалебную статью
о Грабале переводчика А. Пиотровского: «Лично у меня ни на минуту
не возникало сомнения, что Богумил Грабал это первый номер современной литературы не только чешской, но европейской и мировой!»
В. А. Хорев в одной из своих последних книг пишет об этом: «Юмористические и гротескные интонации, восходящие к произведениям
чешских писателей Я. Гашека и Б. Грабала, присущи прозе Е. Пильха (р. 1952) “Заговор прелюбодеек” (1993), “Песни пьющих” (2002) и
П. Хюлле “Мерседес-бенц. Из писем Грабалу” (2001), выпустившего
также роман “Касторп” (2004) — вариацию на тему романа Т. Манна “Волшебная гора”»6. Павел Хюлле в небольшом по объему романе
(или повести) «Мерседес-бенц. Из писем Грабалу» описывает прошлую и современную польскую действительность, свободно сопрягая временные пласты, события из жизни своих родителей и рассказ
о том, как он сегодня проходит обучение вождению автомобиля. Но
при этом он избрал форму прямого обращения к Богумилу Грабалу,
одному из самых крупных и своеобразных чешских писателей второй
половины ХХ в., достойному, по его мнению, Нобелевской премии, и в
своем тексте стремится использовать его оригинальную манеру письма. Некоторые сердитые чешские критики пытаются острить, что похожесть на Грабала и есть единственное достоинство этого сочинения
Хюлле, но, по моему мнению, книга интересна своим содержанием, а
грабаловские интонации и художественные приемы польский автор
все же не просто копирует, а переосмысливает.
Польская литература постоянно привлекает внимание чешских
литературоведов. Классиком чешской полонистики можно назвать
академика Карела Крейчи (1904–1979), который написал фундаментальную «Историю польской литературы» (1953) и множество других
работ по этой проблематике. Его традиции продолжают современные
чешские полонисты: К. Кардынь-Пеликанова, О. Бартош, П. Последний и др.
В послевоенной польской богемистике большие заслуги принадлежат Я. Магнушевскому, автору не только «Истории чешской литературы», но и специального исследования «Польско-чешские литературные взаимоотношения конца ХIХ — начала ХХ веков» (1951).
Известны работы Я. Балуха о чешском поэтизме, его «Чешская литература 1945–1968» (1971), труды Г. Янашек-Иваничковой («Карел
�Некоторые сюжеты из истории чешско-польских... 535
Чапек или драма гуманиста», 1962 и др.), В. Навроцкого, к примеру,
«Чешская и словацкая художественная литература в Польше» (в соавторстве с Т. Серным, 1983) и многие другие. Достаточно прочные и
плодотворные связи между чешской и польской литературами, взаимная переводческая деятельность, постоянное, хотя и не без разногласий и даже благодаря им, внимание к этой проблематике со стороны
чешских и польских литературоведов обогащает обе стороны, вносит
ценный вклад в современную славистику вообще.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
6
Masaryk T. G. Nová Evropa. Brno, 1994. S. 161.
Masaryk T. G. Česká otázka. Naše nynější krize. Praha, 1990. S. 332.
Čolakova Ž. Jezero jako transtextuální kód Máchovy poetiky // Máchovské
rezonance / Red. K. Piorecký. Praha, 2010. S. 114–121.
Havlíček Borovský K. Dílo 2. Praha, 1986. S. 57.
Kundera M. Le Rideau. Paris, 2005. P. 51.
Хорев В. А. Польская литература ХХ века. 1890–1990. М., 2009. С. 334.
�«Трудный рост»
польской рецепции
Тадеуш Шишко
(Варшава)
Н. С. Лескова
«Трудный рост» — так определял
свой литературный путь на склоне своей
жизни «волшебник русского слова» Николай Лесков. И таким «трудным ростом»
явилась в действительности его польская
литературная рецепция, о «росте» которой
до сих пор не появилось ни одного суммирующего труда. А ведь никто из русских
классиков, кроме него, не посвятил столько места в своем творчестве Польше, полькам и полякам. Повинна в этом современная ему русская критика, которая после
публикации его так называемой «пожарной» статьи (1862) и вышедшего под псевдонимом М. Стебницкий полемического (в
понятии левых и правых — антинигилистического) романа «Некуда» (1864) с ожесточением набросилась и на статью — за
ее якобы «доносительский характер», — и
тем паче на роман «Некуда», воспринятый
ею как злостный пасквиль на русское демократическое движение. Ультрарадикал
тогдашней критики, Д. Писарев, в своей
получившей широкий резонанс статье
«Прогулка по садам российской словесности» (1865), явно издеваясь над романом «Некуда» и его автором, выступил с
убийственной инвективой: «1) Найдется
ли теперь в России — кроме “Русского
вестника” — хоть один журнал, который
осмелился бы напечатать на своих страни-
Ktoż w opiętym Moskalu, co
ma mordę taksa,
Ujrzy Patrokla albo mężnego
Ajaksa?
J. U. Niemcewicz
«Moje marzenia», 18361
Шишко Тадеуш / Szyszko Ta
deusz — Dr. hab., профессор, Польша, Варшава,
Польский университет в
Варшаве
�«Трудный рост» польской рецепции Н. С. Лескова 537
цах что-нибудь выходящее из-под пера г. Стебницкого и подписанное
его фамилиею? 2) Найдется ли в России хоть один честный писатель,
который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями
и романами г. Стебницкого?»1
К счастью для Лескова, как и для русской литературы, нашлись
и такие журналы, и такие писатели, которые не побоялись сотрудничать с автором предосудительного романа. Но в течение нескольких
лет после этих писаревских «вопросов» многие журналы были для
него категорически закрыты и не прекращались издевательства над
его злополучным романом. Не воздержался от язвительной, чтобы не
сказать злобной, критики этого романа — причем уже спустя пять лет
после его выхода — и знаменитый сатирик Салтыков-Щедрин, впрочем, трезво заметивший, что появлявшиеся в течение этих лет отзывы о «Некуда» были взрывами личного негодования и просто-напросто бранью: «Авторы “отзывов”, говоря о романе, даже не трудились
указывать страницы, по их мнению достойные порицания; никто не
приводил ни одной цитаты, никто не выписывал ни одной строки из
романа в подтверждение своих слов, а все его ругали; ругали огулом
“за все”, ругали с плеча, кратко, но сильно, даже с каким-то соревнованием: точно каждый спешил от своего усердия принести свою посильную лепту в общую сокровищницу и только боялся, как бы не опоздать к началу. Само собою разумеется, что во всем этом поголовном
ругательстве было очень много ожесточения и ни на волос не было
того, что мы привыкли понимать под словом “критика”»2.
Скажем прямо, эти справедливые слова сатирика вполне можно
отнести и к его рецензии, в которой были они высказаны. Ведь он, подобно другим, не столько анализировал роман Лескова, сколько подвергал его уничижительной подозрительности.
Итак, все, не исключая Щедрина, только «ругали» роман «Некуда», и никто не задумывался над глубиной вопросов, поставленных в
этой панорамной картине, представляющей совокупность русской общественно-политической, философской, идейно-моральной, экономической и культурной жизни, над ее познавательными ценностями, не
говоря уже о ее художественных особенностях. И никто даже словом
не обмолвился о представленной Лесковым в этом романе сцене трагической гибели польского повстанческого отряда в дебрях Беловежской
пущи, в нем была замечена лишь пресловутая «польская интрига».
Последующие произведения Лескова, даже такие как знаменитая
«Леди Макбет Мценского уезда» (1865), «Воительница» (1866) или
роман «Обойденные» (1866), русская критика обошла молчанием и
�538
Тадеуш Шишко
долго пренебрегала его творчеством, а некоторые скороспелые наши
критики, заслышав о его якобы «неукротимой злобе к Польше» и не
вникая в содержание его произведений, — хотя бы таких, где польский вопрос «витает сугубо», как в «Некуда» и «Обойденных», в «Бессребренике» (1869) и «Смехе и Горе» (1871), в «Интересных мужчинах» (1885) и «Антука» (1888) или в «Даме и фефеле» (1894), — почти
единодушно провозгласили его «бессмысленным врагом всего польского». В результате не только при жизни, но и на протяжении почти
полувека после смерти на польский язык рассказы и повести Лескова,
не говоря уже о романах, не переводились.
И потому нет ничего удивительного, что в обширной, насчитывающей уже тысячи позиций польской библиографии по русистике,
полной работ, посвященных восприятию в Польше корифеев русской
литературы — Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Толстого, Чехова, Горького, — не
аннотировано ни одной позиции о польской рецепции Лескова. Мало
того, даже в нескольких недавно опубликованных престижных изданиях о польско-русских литературных взаимосвязях и рецепции русской литературы в Польше3, а также в известном труде Ф. Селицкого
о восприятии русских классиков в межвоенной Польше4 Лесков не
упоминается даже в указателе имен. Быть может, потому, что даже
такой скрупулезный исследователь, каким был А. Брюкнер, не упомянул Лескова в своей брошюре о русско-польских отношениях5. Не
отметил ни одной статьи о Лескове в польской прессе и составитель
толкового библиографического указателя польского славяноведения
Э. Колодзейчик6. И лишь в академическом «Зеркале прессы», посвященном обзору русской литературы в польской журналистике XIX в.,
есть три кратких упоминания о Лескове7.
Это, конечно, вовсе не значит, что автор «Леди Макбет Мценского уезда» неизвестен в сегодняшней Польше и о нем не пишут. Пишут,
переводят и изучают его произведения уже несколько десятилетий,
но никто до сих пор не решился исследовать начало его польской рецепции, если не считать полутора страниц «Вступления» В. Якубовского к однотомнику избранных произведений Лескова8, где отмечается: «Польская “лесковиана” сводится лишь к нескольким позициям.
Единственным источником сведений о Лескове в довоенной Польше
были посвященные этому писателю восемь с половиной страниц в
“Истории русской литературы” А. Брюкнера, изданной в 1922 г.». И
после нескольких критических замечаниях в адрес Брюкнера Якубовский называет, уже без всяких оценок, два доклада о Лескове (без
их заглавий) С. Кулаковского, прочитанные в Варшавском научном
�«Трудный рост» польской рецепции Н. С. Лескова 539
обществе (1938) и в Лодзинском научном обществе (1947), дополняя
их лишь «кратким вступлением» Н. Модзелевской к двухтомнику избранных произведений Лескова, изданному в Варшаве в 1950–1951 гг.
Следует, однако, сразу же сказать, что приведенная Якубовским
польская «лесковиана» может в лучшем случае послужить лишь исходным ориентиром при изучении польской рецепции автора «Очарованного странника». Так, например, вопреки Якубовскому, «История
русской литературы» А. Брюкнера не была «единственным источником сведений о Лескове в довоенной Польше», ибо еще до Первой
мировой войны, помимо нескольких журнальных публикаций, о нем
появилась биографическая статья в Большой иллюстрированной энциклопедии. К сожалению, эта статья известного критика и литературоведа Я. Лорентовича была пропитана явной недоброжелательностью к творцу «Некуда». Не говоря уже о том, что Лорентович назвал
Лескова «незначительным талантом». А также, подобно русской критике, он не преминул объявить, что Лесков в своей так называемой
«пожарной статье» якобы обвинил «в совершаемых поджогах учащуюся молодежь, после чего открыто переметнулся в лагерь ультраправых»9. Мало того, Лорентович, без малейшего понятия об отношениях Лескова к Польше и полякам, выносит решение: «Л[есков] в своих
романах выводит поляков и неоднократно обращается к польскому
вопросу; но он является бессмысленным врагом всего польского, любящим наслаждаться клеветой (он никогда не бывал в польской среде!). Типичным для Лескова является его образ восстания 1863 г., в
котором можно восхищаться разве только грубым пафосом»10.
Это явная дезинформация. Лесков почти ежедневно вращался в
польской среде во время своего восьмилетнего пребывания в Киеве
(1849–1857), где изучил польский язык и зачитывался польской литературой; в польском окружении он пребывал и во время своего путешествия по землям бывшей Речи Посполитой осенью 1862 г., и во
время пребывания как в Кракове в том же году, так и в Париже на рубеже 1862–1863 гг., и в Варшаве в сентябре 1875 г., не говоря уже о многочисленных встречах с поляками во время его поездок по России. И
еще одно: это Лесков с нескрываемым сочувствием и без всякого «грубого пафоса» создал в романе «Некуда» трагический образ гибнущего
в дебрях Беловежской пущи польского повстанческого отряда11.
Не мог, конечно, возлюбить Лескова читатель этой, скажем прямо, пасквильной характеристики автора «Соборян», которая влияла
на его восприятие в Польше. Достаточно сказать, что первый перевод на польский язык Лескова, умершего в 1895 г., появился только
в 1937 г.! Ю. Тувим, завороженный красочным, насыщенным фоль-
�540
Тадеуш Шишко
клорной стилизацией языком, а также мастерством орнаментальной
формы «Сказа о тульском косом левше и о стальной блохе», перевел
его и опубликовал с десятью иллюстрациями Вл. Дашевского в престижном варшавском еженедельнике12. Перевод сопровождался следующей информацией: «Прекрасный рассказ Лескова (1831–1895) является жемчужиной не только творчества этого знаменитого и столь
мало известного у нас русского романиста, но и шедевром юмора в
масштабе мировой литературы. Произведение написано своеобразным языком. Лексический состав (фольклорное словотворчество) и
“иррациональный” синтаксис в сочетании с необычным содержанием
создают единственную в своем роде целостность»13.
Впервые имя Лескова появилось в польской прессе, как нам удалось установить, в январе 1873 г. в варшавском еженедельнике «Нива»,
где анонимный петербургский корреспондент сообщал читателям:
«Итак, изящная литература может похвастаться двумя высшего класса
романами: “Концы в воду” и “Соборяне” Лескова-Стебницкого, о которых, однако, в здешних журналах мне не пришлось прочитать ни одного
слова. И здесь, дорогие читатели, существует sui generis литературная
политика, основанная на недобросовестном замалчивании… деятельности тех людей, которые не принадлежат к определенному лагерю»14.
Нужно сказать, что этот петербургский корреспондент, «рожденный на брегах Вислы, которого судьба далеко забросила от родного
очага», как он сам писал о себе15, досконально ориентировался в окружавшей Лескова недружелюбной атмосфере. И искренне сокрушался,
что о хороших книгах, к каким он причислял «Соборян» (1872), ничего не пишут. Корреспондент был прав, ибо это произведение упоминалось только в трех газетных статьях, толстые же журналы демонстративно его не замечали.
В этом же 1873 г. о Лескове упомянул и известный историк, археолог и журналист, бывший виленский общественный деятель и издатель А. Г. Киркор, выступивший с обзором современной русской литературы под псевдонимом Ян из Сливна. Остро критикуя нигилиста
Марка Волохова из романа Гончарова «Обрыв», он отмечал: «Другой
же повествователь, Стебницкий (собственно Лесков), написал целый
роман “Некуда” на нигилистическом фоне. Все выступающие лица,
мужчины и женщины, — нигилисты, и даже события происходят в
доме, где они организовали общество для совместного труда и совместной пользы. Цель одна и та же — опозорить нигилизм»16.
Киркор преувеличивал нигилизм Лескова, ведь не все персонажи
в «Некуда» — нигилисты. Большинство из них, особенно центральные образы, такие как alter ego aвтора доктор Дмитрий Розанов, со-
�«Трудный рост» польской рецепции Н. С. Лескова 541
циалист Вильгельм Райнер, Лиза Бахарева, Юстин Помада, Женни
Гловацкая — это нормальные, честные и праведные люди. Удивительно, что Киркор, досконально знающий русскую литературу, следовал
враждебной Лескову критике и, подобно ей, ни словом не упомянул о
выступающих в «Некуда» польских характерах и о трагическом образе польских повстанцев в Беловежской пуще.
Год спустя имя Лескова мелькнуло среди многих русских литераторов в изданном в 1874 на 1875 г. календаре Я. Яворского17, а в
том же календаре на 1876 г. К. Лучицкий, рассматривая в довольно
обширной статье, в частности, русские романы, писал: «В этих романах авторы обычно представляют некую старинную семью и рисуют
деятельность такой семьи в общественной и частной жизни. Хорошие
поступки, добрые дела, примеры благородства заполняют отдельные
разделы романа и придают ему назидательный тон. Примером такого
романа может послужить произведение г. Лескова “Захудалый род”.
Непременным персонажем и героем в таких семьях является обыкновенно преданный семье слуга, лакей, подчиняющий свои личные интересы интересам своих господ. Тип такого образцового слуги видим
в “Богатырях” г. Чаева18, а Патрикеев (!) в романе г. Лескова уже ходит
в героическом ореоле»19.
«Захудалый род» (1874) Лескова печатался в журнале М. Н. Каткова «Русский вестник» и не был окончен из-за вмешательства владельца журнала в его содержание. Лесков, не соглашаясь со взглядами
Каткова на русское дворянство, порвал связи с журналом и не стал
дописывать свою хронику, которую издал отдельной книгой в 1875 г.,
потому-то Лучицкий признал произведение законченным. Впрочем, и
сам Лесков считал свою хронику законченным и одним из самых ценных своих произведений20. И в этой именно хронике Лесков изобразил
преданного «душой и телом» княжеской семье Протозановых, «умного, находчивого и сообразительного», идеального слугу Патрикея Сударичева, который даже отказался принять дарованную ему вольную.
В том же 1876 г. промелькнуло известие о Лескове в консервативной краковской газете «Время»21, и лишь спустя пять лет его имя кратко
упоминается на страницах варшавского еженедельника «Новины»22, а
еще через два года — в престижном органе варшавских позитивистов
«Пшеглёнд Тыгоднёвы». Его корреспондент (под инициалами S. B.) сообщает: «Петербургские критики яростно спорят о том, возможен ли в
наше время общественный роман или нет»23. Далее S. B. подробно представил голоса «за» и «против», указывая, что поводом для возникшего
спора стало прекращение Лесковым издания своего общественного романа на страницах московской «Газеты А. Гатцука». Корреспондент не
�542
Тадеуш Шишко
назвал это произведение — специфическое продолжение «Некуда» —
роман «Соколий перелет», печатавшийся в 1883 г. в пользующемся довольно шумным успехом московском еженедельнике «Газета А. Гатцука». Вскоре, однако, Лесков пришел к выводу, что господствующая атмосфера неблагоприятна для эпических произведений с общественной
проблематикой и решил остановить печатание «Сокольего перелета» на
тринадцатой главе. В своем объяснительном «Письме в редакцию» Лесков писал: «Останавливаюсь просто потому, что — верно или неверно — я нахожу эту пору совершенно неудобною для общественного романа, написанного правдиво, как я стараюсь, по крайней мере, писать,
не подчиняясь ни партийным, ни каким другим давлениям»24.
За последующие пять лет в польской прессе нам не удалось найти о Лескове ни одной заметки. Только в 1889 г. о нем появилась обширная статья в позитивистском органе А. Свентоховского «Правда».
Следует подчеркнуть, что сам Свентоховский, лидер варшавских позитивистов, неоднократно высказывал свое мнение о русской литературе25, а его журнал охотно предоставлял ей свои страницы. Здесь часто появлялись заметки и статьи почти обо всех современных русских
писателях, а также польские переводы многих их произведений.
Свою статью о Лескове петербургский корреспондент журнала
«Правда» М. Шолковский, скрывшийся под инициалами N. B., начал
словами: «В эти дни я ближе познакомился с произведениями двух русских писателей, о которых я еще не упоминал в своих письмах, а имена
которых все чаще и чаще дают знать о себе». Первый из них — уже известный читателям журнала А. Чехов, чьи рассказы производят «мимолетное впечатление, иногда трогательное, иногда только ловко написаны,
но никогда не достигают глубины чувств и разума», второй — Николай
Лесков: «Воистину, удивительна судьба этого писателя: это одна из звезд
давнишней плеяды. Первые его произведения восходят к временам расцвета литературы и во многих образчиках достойны своей эпохи, но над
именем писателя навис фатализм»26. Этот фатализм Шолковский связывает с пресловутой статьей писателя о петербургских пожарах 1862 г.:
«В центре города находится целый район, застроенный торговыми магазинами, а называется Апраксин двор. Лет тому 20 все магазины были деревянные, и по неизвестным причинам, до сих пор не раскрытым, в одно из жарчайших лет возникли неистовые пожары, которые уничтожили этот район вчистую27. Причина пожаров могла быть
обыкновенна — неосторожность; но взбудораженное воображение искало чего-то загадочного. Распространялись разные слухи о поджигателях. Подозревали в поджогах даже самих купцов. Консервативный
лагерь упрекал прогрессистов, что их идеи разрушают общественный
�«Трудный рост» польской рецепции Н. С. Лескова 543
порядок, причем Аксаков ясно предъявил, что их стремления родили поджигателей28… Такое dictum… вызвало безмерное возмущение
и, несомненно, справедливое; ибо то, что толпе нашептывало отчаяние, ни один лагерь не должен был принимать за правду, и тем более
не следовало для своего поединка точить на этом камне мечи. Лесков
неосторожно повторил мысль Аксакова — неосторожно, ибо то, что
было простительно писателю, имеющему имя и силу, начинающего
литератора почти убивало. И ни один из серьезных органов печати
не принимал его произведений, а о опубликованных в других местах
не упоминалось. Лишь спустя 20 лет его произведения стали внимательно читать и убедились, что это писатель, при сегодняшней засухе,
выдающийся, и что некоторые из его произведений вовсе не пахнут
рутиной, как некогда судили строгие 18-летние критики, что стиль его
сжатый, чуть сатирический, но не пасквильный».
В заключение Шолковский информировал читателей: «Полное
издание сочинений этого писателя вышло в этом году и пользуется
значительным успехом»29.
После этой статьи Шолковского польская пресса откликнулась
несколькими заметками30 лишь на известие о смерти Лескова. Из
этих публикаций заслуживают внимания лишь два небольших некролога — в еженедельнике Э. Пильца «Страна»31 и в «Календаре римско-католического благотворительного общества», где описывались и
литературные достижения Лескова32.
Долгие годы после смерти Лескова в польской печати о нем почти не вспоминали. Только в 1908 г. о нем упомянул в своей статье, посвященной революционным идеям в русском романе, Ст. Здзярский,
и то с оговоркой, что писателя «омрачила тенденция». Он рассматривал Лескова как последователя «русского Диккенса» — Александра
Левитова, за которым, по мнению Здзярского, «следовал и могучий
талант» Достоевского33.
Год спустя, кроме указанной выше энциклопедической заметки
Я. Лорентовича, несколько общих слов посвятил Лескову А. Лянге в
своем обзоре мировой литературы, сообщая, что Лесков якобы своих
героев находил исключительно «в сфере сектантов»34.
Не посчастливилось Лескову и в межвоенной Польше, ибо, кроме
пары статей поклонника его творчества С. Кулаковского, лишь изредка и случайно появлялись о нем краткие высказывания наших критиков или историков литературы. Несомненно, таким голосом a propos
было высказывание Я. Кухажевского в его прекрасной — в другом отношении — монографии «От белого царизма к красному», в которой,
упоминая майские пожары в Петербурге 1862 г., он констатировал:
�544
Тадеуш Шишко
«Если Никитенко писал осмотрительно, то реакционные газеты, как
“Северная пчела”, прямо указывали на студентов как поджигателей.
Лесков в “Пчеле” требовал суровых мер наказания для молодежи»35.
Как видим, Кухажевский спустя десятки лет повторяет вслед за русской критикой и Лорентовичем обидный для Лескова слух о его якобы
призыве к расправе над студентами за поджоги. Лесков в своей «пожарной статье» к такой расправе не призывал, а требовал от полиции
раскрытия — и привлечения к суду — истинных поджигателей.
В межвоенные годы упомянул о Лескове, но уже в положительном смысле, молодой тогда профессор Ягеллонского университета
В. Ледницкий, когда в 1928 г. рассматривал на страницах журнала
«Пшеглёнд Вспулчесны» пользующийся немалым успехом роман Леонида Леонова «Барсуки» (1924). Рассматривая в этом романе «иногда
происходящие кровавые столкновения», в которых «и поп, и дьякон, и
святые иконы принимали участие», Ледницкий писал: «Если выше я
отмечал некоторое сходство романа Леонова с шедеврами Островского, то в данный момент стоит упомянуть о Лескове, о его капитальных
“Соборянах”. Дьякон Ахилла в этом обществе чувствовал бы себя как
дома… Для меня несомненно, что Леонов — это наследник Гоголя,
Салтыкова и Лескова. Последний для него самый близкий… Сближает Леонова с Лесковым стилизация и работа над языком, присущая им
обоим “гастрономия” слова; языковая алчность уподобляет ученика
его мастеру; сближает их интерес к народу, деревне и церкви, но — относительно церкви и духовенства — только в ранних произведениях
Леонова можно отметить интерес к этой сфере русской общественной
жизни. В “Барсуках” эта сфера ограничена — революция проредила
общество — из старых деревьев остались только перелески» 36.
Итак, если бы не статьи упомянутого С. Кулаковского, горячего
поклонника русской литературы — и прежде всего творчества Лескова, читатель межвоенной Польши только случайно мог бы наткнуться на приведенные высказывания об авторе «Соборян». Кулаковский
уже в 1927 г. в популярном еженедельнике «Вядомости Литерацке»
опубликовал о нем сжатое эссе37, а в марте 1937 г. Ст. Слоньски представил на заседании Варшавского научного общества его статью о
польских персонажах в произведениях Лескова38. Уже в начале этой
статьи утверждалось, что Лесков является оригинальнейшим русским
писателем, который «вошел в литературу как журналист и до конца
своих дней сохранил глубокое и правдивое чувство реальной русской
действительности, за что подвергался поруганию как русскими революционерами, так и русской бюрократической средой», ибо «совестливо и отважно затрагивал насущные вопросы своего времени»39. И
�«Трудный рост» польской рецепции Н. С. Лескова 545
после этих вступительных слов Кулаковский отмечал: «Отношение
Лескова к Польше и полякам было живое и сердечное, полное признания к польским революционерам, которые в середине XIX в. боролись
за свою отчизну, тогда как так называемые нигилисты не понимали
ни России, ни народа (наравне с тогдашней бюрократией) и проявляли
признаки анархизма, максимализма без направления и всякого плана
(между прочим, такое сопоставление вытекает из “репортажа” Лескова о пребывании в России польского идеалиста А. Бенни)»40.
В дальнейшем Кулаковский кратко описал личные связи Лескова с Польшей и его пребывание среди поляков, указал на его знание
польского языка и польских песен, которые даже нашли свой отклик
в его творчестве; назвал и восемь его произведений («Соборяне», «Некуда», «Блуждающие огоньки» и др.), в которых выступают польские
персонажи, а русские герои высказываются о польских проблемах.
Год спустя Ст. Слоньски, изложил на одном из очередных заседаний Варшавского научного общества следующую работу Кулаковского, на этот раз — о жизни и творчестве автора «Леди Макбет Мценского уезда»41.
В 1938 г. польское общество отмечало 65 годовщину январского восстания 1863 г., широко отражаемую в прессе. Выходившее уже
в Варшаве многолетнее краковское «Время»42 посвятило годовщине
специальный номер, в котором была опубликована обширная статья
Кулаковского о 1863 г. в творчестве Лескова. Статья начиналась сжатой информацией о Лескове: «В развитии отношений между русскими
и поляками видное место занимает прозаик Николай Лесков (1831–
1895), автор многих романов и повестей, а также бесчисленных очерков и статей. По происхождению чистокровный русский из-под Орла,
он был рано вынужден зарабатывать себе на жизнь. Начал он свою непродолжительную чиновничью карьеру в Киеве, в сороковые годы, то
есть во время расцвета абсолютизма Николая I. Литературную работу — на тридцатом году жизни, в шестидесятые годы; и когда русское
общество увлекалось ультралевыми течениями, Лесков был всегда самим собой и благодаря своей беспримерной честности до конца жизни
сохранил безупречную беспристрастность своих взглядов»43.
Согласно Кулаковскому, «полонофильство» Лескова зародилось еще
в годы его пребывания в Киеве, где он овладел польским языком и подружился со многими поляками, прежде всего связанными с Университетом
св. Владимира44. Кулаковский подчеркивает, что Лесков очень хорошо
понимал освободительные стремления поляков, хотя неоднократно вкладывал в уста своих героев враждебные, обидные для них ходячие выражения. По мнению Кулаковского, и сам роман «Некуда» был написан под
�546
Тадеуш Шишко
впечатлением польского январского восстания 1863 г.45 Автор статьи шаг
за шагом рассматривает почти все эпизоды романа, связанные с польской
проблематикой, не преминув описать и трагическую гибель польского
повстанческого отряда в Беловежской пуще.
Простим автору неточности в сообщении о том, что «продолжение январской трагедии Лесков представил в следующем своем романе “Обойденные”, написанном в Париже в 1865 г.»46, но он достаточно подробно пересказал содержание романа, выявив, прежде всего,
«польские элементы», начиная с описания польско-украинского происхождения главного героя, Нестора Долинского, вплоть до парижских польских красавиц, парижских поляков-«товянчиков» и рьяного
иезуита-аскета, патера Непомуцена Зайончека. И как бы уже мимоходом заметил: «Лесков воспользовался возможностью введения в это
произведение разговора на польском языке, впечатления, вынесенного
из Варшавы и общения с польской средой»47.
В этой же статье Кулаковский рассмотрел еще два произведения
Лескова, связанные с польской темой, — «Загадочный человек», очерк
об Артуре Бенни, и рассказ «Антука» (1888) — о воспоминании австрийского жандарма, поляка пана Гонората, о кошмаре его службы в
повстанческом отряде.
Кулаковский еще раз обратится к автору «Некуда» уже после войны, докладывая в Лодзинском научном обществе о славянских соплеменниках Лескова в его творчестве48.
Подлинным прорывом в «трудном росте» польской рецепции
Николая Лескова явился 1950 г., когда, помимо напечатанных отдельно трех переводов его рассказов49, вышел первый том (а в следующем
году — второй) нового издания «Золотая Серия русской литературы»,
включивший тринадцать избранных произведений Лескова50 в переводах Ю. Тувима, Е. Вышомирского, И. Байковской, Н. Друцкой и А. Менчиньского. Двухтомник предварялся «Вступлением» Н. Модзелевской,
которое, в сущности, явилось первым серьезным исследованием жизни
и творчества Лескова в польской славистике и вместе с изданными произведениями открыло новый этап его польской рецепции.
П ри м е ч а н и я
1
2
Писарев Д. И. Соч. в 4 т. М., 1956. Т. 3. С. 262–263.
Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого (автора романов «Некуда» и «Обойденные»). 2 т. // Отечественные записки. 1869. № 7. См.:
Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. В 20 т. М., 1970. Т. 9. С. 336.
�«Трудный рост» польской рецепции Н. С. Лескова 547
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich. Tom poświęcony VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Pradze / Pod red.
S. Fiszmana i K. Sierockiej, przy współudz. T. Kołakowskiego. Wrocław;
Warszawa; Kraków, 1969; Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce / Pod red. B. Galstera, J. Kamionkowej, K. Sierockiej, przy współudz. A. Piorunowej. Wrocław; Warszawa; Kraków;
Gdańsk, 1975; Historia Literatury Rosyjskiej. Praca zbiorowa / Pod red.
M. Jakóbca. Warszawa, 1976. T. 2. Wyd. 2, zmien. В этом томе профессор Якубец посвятил три обширные статьи польско-русским литературным взаимосвязям 1856–1917 гг. и ни разу не упомянул имени
Лескова. Конечно, в этом томе Лескову как выдающемуся русскому
писателю отведен отдельный раздел.
Sielicki F. Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej. Warszawa, 1985.
Brückner A. O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku dziś i lat
temu trzysta. Lwów; Warszawa, 1906.
Kołodziejczyk E. Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Kraków,
1911.
Zwierciadło prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej / Pod red. B. Galstera, J. Kamionki-Straszakowej, K. Sierockiej,
przy współudz. A. Piorunowej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk,
1978. S. 235, 242, 309.
Leskow M. Utwory wybrane / Przeł. J. Wyszomirski, J. Tuwim, N. Drucka; opr. W. Jakubowski. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1970. S. 87–89.
Wielka Encyklopedia Ilustrowana. Warszawa, 1909. Ser. 1. T. 43. S. 670.
Ibid.
См. подробнее: Szyszko T. Mikołaj Leskow i jego związki z Polską //
Studia Rossica. IV. Warszawa, 1996.
Leskow N. Opowieść o tulskim mańkucie i stаlowej pchle / Tłum. J. Tuwim // Wiadomości Literackie. 1937. № 39. S. 1–3. Попутно отметим,
что в Западной Европе переводить Лескова начали уже к концу XIX
и в начале XX вв. См.: Лесков в зарубежном мире // Литературное
наследство. Т. 101. Неизданный Лесков. Кн. 2. М., 2000. С. 485–533.
Так, например, немецкий перевод «Соборян» был опубликован
в 1886 г., а во Франции периодическое издание «Revue des Etudes
Franco-Russe» начиная с 1904 г. публиковало произведения Лескова
в переводах Дениса Роша (Denis Roche).
Wiadomości Literackie. 1937. № 39. S. 1. Переводы с польского принадлежат автору данной статьи.
Korespondencja z Petersburga // Niwa. 1873. № 26 (styczeń [3] 15).
Ibid.
�548
Тадеуш Шишко
16
Jan ze Śliwina. Zarysy współczesnej literatury rosyjskiej // Tygodnik
Wielkopolski. 1873. № 17. S. 196.
M. F. S. Literatura ruska // Jana Jaworskiego «Kalendarz Ilustrowany na
rok 1875». Warszawa, 1874. S. 54.
Николай Чаев (1824–1914) в своем историческом романе «Богатыри» (1872), как и Лесков в произведениях «Захудалый род» и «На
ножах», изобразил тип слуги, который готов отдать жизнь за своих
господ.
Łuczycki K. Literatura rosyjska // Jana Jaworskiego «Kalendarz Ilustrowany na rok 1876». Warszawa, 1875. S. 42.
В письме Алексею Суворину от 2 марта 1889 г. Лесков, упрашивая
его издать в «Дешевой библиотеке» «Захудалый род», писал: «Мне
это дорого, как ничто другое мною написанное, и я жарко хотел бы
видеть этот этюд распространенным как можно более» (Лесков Н. С.
Собр. соч. в 11 т. М., 1958. Т. 11. С. 418).
Pogląd na dzieje literatury rosyjskiej // Czas. 1876. № 148. S. 2.
Nowiny. 1881. № 277. S. 3 (без подписи и названия).
S. B. Z Cesarstwa // Przegląd Tygodniowy. 1883. № 25. S. 312.
Лесков Н. Письмо в редакцию // Газета А. Гатцука. 1883. № 10. С. 206.
См., напр.: Szyszko T. Aleksander Świętochowski i literatura rosyjska //
Olympus — Czasopismo naukowe. 2007. № 2. S. 7–20.
N. B. [Szołkowski M.] Listy petersburskie // Prawda. 1889. № 43. S. 510.
Петербургские пожары вспыхнули 28 мая (ст. ст.) 1862 г.
В мае 1862 г. в Петербурге анонимно распространялась прокламация П. Г. Заичневского «Молодая Россия», призывающая к свержению самодержавия, расправе с царской династией и созданию федеративной республики. Эту прокламацию упомянул в своей статье о
пожарах Лесков, ее же, помимо распространяемых слухов о разных
поджигателях, имел в виду и И. Аксаков, описывая в своей газете
«День» майские пожары; ее же приводит М. Достоевский в своей не
пропущенной цензурой «пожарной» статье, написанной для выпускаемого совместно с братом Федором журнала «Время».
N. B. Op. cit. Это «полное собрание» вышло в урезанном виде в
1889 г. в 10, а не в 12 томах, как его подготовил Лесков. Два не пропущенные цензурой тома вышли дополнительно в 1896 г., а годом
позже вышло «полное» 12-томное собрание сочинений с фундаментальной вступительной статьей Р. Сементковского. Оно было переиздано в 1989 г., и советский читатель впервые мог ознакомиться с
двумя романами Лескова — «Обойденные» и «На ножах».
Słowo. 1895. № 54. S. 5; № 55. S. 3.
Kronika Petersburska. M. Leskow // Kraj. 1895. № 9. S. 23.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
�«Трудный рост» польской рецепции Н. С. Лескова 549
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Kalendarz Rzymsko-Katolickiego Towarzystwa Dobroczynnosci. Petersburg, 1896. S. 148.
Zdziarski S. Idee rewolucyjne we współczesnej powieści rosyjskiej // Biblioteka Warszawska. 1908. T. 3. Z. 3. S. 409.
Lange A. Krótki zarys literatury powszechnej. Cz. 4. Literatura ludów
słowiańskich. Warszawa, 1909. S. 104.
Kucharzewski J. Od białego caratu do czerwonego. Warszawa, 1999. T. 3.
S. 436. Первое издание этой монографии вышло в 7 т. в 1923–1935 гг.
Упомянутый здесь А. Никитенко — профессор Петербургского университета, который также отмечал наблюдения о майских пожарах
в своем дневнике. См.: Никитенко А. Дневник в 3 т. Т. 2. 1858–1865.
Л., 1955.
Lednicki W. Z beletrystyki sowieckiej: «Borsuki» // Przegląd Współczesny. 1928. № 72. S. 86, 102. Дьякон Ахилла — один из центральных
персонажей «Соборян», порывистый силач, склонный физически
воевать с «маловерами».
Kułakowski S. Leskow a Polska // Wiadomości Literackie. 1927. № 24.
S. 2.
Kułakowski S. Polacy w utworach Mikołaja Leskowa. Przedstawił
St. Słoński dn. 17 marca 1937 r. // Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydz. I językoznawstwa i historii literatury. Warszawa, 1937. R. 30. Z. 4–6. S. 59–61.
Ibid. S. 59.
Ibid. S. 60. Кулаковский имеет здесь в виду рассказ Лескова «Загадочный человек».
Kułakowski S. Mikołaj Leskow (1831–1895). Życie i twórczość. Przedstawił S. Słoński 11 maja 1938 r. // Odbitka ze «Sprawozdań z posiedzeń
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego». Т. XXXI. 1938.
Ежедневная газета «Czas» («Время») выходила в Кракове в 1848–
1934 гг., в Варшаве — в 1935–1939 гг.
Kułakowski S. 1863 rok w utworach M. Leskowa // Czas. 1938. № 22. S. 7.
В этом новооткрытом (1834) университете преобладали в сороковых
годах студенты польского происхождения, преподавали некоторые
польские профессора, так как после подавления польского восстания 1831 г. были закрыты Виленский университет и Кременецкий
лицей. В этом университете во время пребывания в Киеве Лескова
преподавал и родной брат его матери — профессор медицины Сергей Алферьев.
Кулаковский утверждал: «Под непосредственным впечатлением
восстания 1863 г. и предповстанческого времени Лесков написал в
том же 1863 г., будучи в Праге, роман “Некуда”». Лесков, как из-
�550
46
47
48
49
50
Тадеуш Шишко
вестно, в Праге пребывал всего около двух недель в ноябре 1862 г.,
а начиная с декабря этого года до конца марта 1863 г. жил в Париже.
Роман «Некуда» он писал в Петербурге и Киеве, опубликовал его в
«Библиотеке для чтения» (1864).
Роман «Обойденные» не продолжает «январской трагедии»; Лесков
написал его в Петербурге и опубликовал в «Отечественных записках» (1865, № 18–24). В 1865 г. Лесков в Париже не проживал.
Кулаковский имеет в виду пребывание Долинского с сопровождаемой на лечение в Ниццу Дорой в гостях «у пани Свентоховской» в
Варшаве.
Kułakowski S. Wielkorusini, Małorusini, Polacy w utworach Mikołaja
Leskowa (1831–1895) // Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Sprawozdania
z czynności i posiedzeń za I półr. 1947. № 1. S. 54–60. К сожалению,
профессор Лодзинского университета Кулаковский (1892–1949) не
успел написать запланированную монографию о жизни и творчестве Лескова.
Leskow M. Opowieść o tulskim mańkucie. Balwierz artysta / Tłum. J. Tuwim. Warszawa, 1950; Leskow I. (!) Geniusz / Tłum. E. Mendelson // Wesołe opowiadania. Opowiadania klasyków rosyjskich. Warszawa, 1950.
S. 25–39.
Leskow M. Utwory wybrane. Warszawa, 1950–1951. T. 1–2.
�Лариса Щавинская
(Москва)
Польская русская
Илария Булгакова —
летописец православия
в Польше
Щавинская Лариса Леонидовна — кандидат филологических наук, Россия, Москва, Институт славяноведения РАН
Не подлежит сомнению, что Илария Михайловна Булгакова, двоюродная
сестра писателя Михаила Афанасьевича
Булгакова, принадлежала к числу самых
близких ему людей. Коренная холмчанка,
уроженка древнего, основанного в XIII в.
князем Даниилом Романовичем Галицким на пограничье Славии Восточной и
Славии Западной столичного града Холма, она большую часть своей жизни провела в нем и там же была похоронена1.
Дочь выпускника Санкт-Петербургской духовной академии, профессора
Холмской духовной семинарии Михаила
Ивановича Булгакова (1860–1937), родного брата отца М. А. Булгакова Афанасия Ивановича Булгакова (1859–1907)2,
Илария Михайловна с 1911 г. несколько
лет провела в Киеве, училась на Высших
женских курсах, полуофициально иногда
именовавшихся Университетом св. княгини Ольги. Жила она в семье своего
двоюродного брата-ровесника Михаила
Афанасьевича Булгакова и стала ее почти
полноправным членом. В годы московской жизни Иларию Михайловну окружал тот же семейный круг холмских и
киевских Булгаковых, не исключая и любимого ею брата-писателя.
Возвращение Иларии Михайловны
в межвоенный польский Холм, спасение
�552 Лариса Щавинская
ею в 1944 г. одной из величайших христианских святынь — чудотворной иконы Холмской Богоматери XI в.3, регулярные молебны
по скончавшемуся в Москве брату в православных церквах и монастырях Польши, крест в память о нем, установленный на Святой
Горе Грабарке в 1977 г.4, — вот лишь некоторые моменты долгой и
почти монашеской жизни «кузины Лили», как ее называли в семье
М. А. Булгакова.
Имя ее, увы, до сих пор не указывалось среди историографов
польского православия5, а ведь Илария Михайловна Булгакова была
не только его исследователем, но и настоящим монастырским летописцем в женской Марфо-Мариинской обители, стоящей на Святой
горе Грабарке, что на крайнем юге современного Подлясского воеводства Польши. Она же едва ли не первой написала о ныне знаменитом грузинском святом о. Григории Перадзе (1899–1942)6, которого,
видимо, лично знала. Главные же темы написанного Иларией Михайловной о православии в Польше — судьбы здешнего женского
православного монашества, православные паломничества, православная жизнь ее родного Холма и, прежде всего, история Холмской
духовной семинарии.
В 1915 г. Холмская духовная семинария была эвакуирована в
Москву. «Семинарское общежитие, — писала И. М. Булгакова, — находилось на I Мещанской улице в доме Перлова, а также в Доброслободском переулке. Семинаристы молились в древней (с 1682 года)
церкви Св. Николая на Драчах, бывшей некогда церковью Драчевского монастыря. Воспитанники принимали участие в работах Красного Креста при перевозке и размещении раненых, совмещая это
христианское делание с учебными занятиями. Часто в это время обязанности Ректора Семинарии исполнял один из старейших преподавателей М. И. Булгаков. В Москве состоялся конец учебного года в
1916/17 г., когда Семинарию окончило 14 человек; это был последний
выпуск Холмской Духовной Семинарии в Москве, выпуск 39»7.
В своих работах Илария Михайловна цитировала и письма учеников горячо любимого ею отца, оказавшего на нее большое влияние: «Я ученик нашего любимого педагога и воспитателя М. И. Булгакова. Его любовию и трогательным отцовским вниманием и чуткостию я был обласкан в юношеские годы и память о нем живет в моем
сердце. Я был одним из счастливых, кто присутствовал на прощальном обеде, на который пригласил нас Михаил Иванович. Это было
в Москве на Селезневке в весенние дни 1917 года… В числе наших
преподавателей было много достойных людей, но любимый был
один, и это Михаил Иванович»8.
�Польская русская Илария Булгакова... 553
Сама И. М. Булгакова, профессиональный педагог, оставила
о себе добрую память в среде как православных, так и католиков.
Вот что писала о Иларии Михайловне холмская православная молодежь сразу же после ее кончины: «Была для нас незаменимым
руководителем, великим педагогом. Учила музыке, русскому языку, религии. Показывала нам красоту православия. Знала в совершенстве языки русский, немецкий, французский, староцерковнославянский. Была человеком широких гуманитарных знаний и большой личной культуры. Была одним из немногих знатоков истории
и памятников холмского региона. В лице почившей мы потеряли
Великого Человека»9.
Жизнь пограничья, каковым всегда была Холмщина, как правило, наполнена своим особым драматизмом, а иногда трагизмом, связавшим судьбы многих поколений. В силу различных обстоятельств
лишь постепенно мы узнаем об отдельных событиях, явлениях и
фактах давней и совсем еще недавней истории таких пограничных
мест. Особенно сложны были на Холмщине польско-украинские и
украинско-польские отношения, весьма тесно переплетенные с русским присутствием, поздняя проекция которого уже в независимой
Польше имела совершенно иной характер. В конечном итоге царской
администрации на Холмщине известный активист украинского движения в современной Польше Ю. Гаврилюк оценивает так: «Все ж
действия российской власти, которые динамизировали общественную ситуацию и содействовали увеличению числа образованных
выходцев из местного украинского крестьянства и мелкого мещанства, стали катализатором вызревания местной национально ориентированной элиты, которая в 1917 г. включилась в строительство
основ украинской государственности, а затем, уже в условиях возрожденной польской государственности, организовала украинскую
социально-культурную жизнь региона»10.
Всем этим сложным процессам И. М. Булгакова была непосредственной свидетельницей на протяжении многих десятилетий.
Ее отец, происходивший из потомственной православной священнической семьи Орловщины, стал в Холме наследником таких
известных деятелей, как Ф. Г. Лебединцев, Е. М. Крыжановский,
С. Ф. Грушевский — автор выдержавшего несколько десятков изданий учебного руководства по церковнославянскому языку11, сын
которого, М. С. Грушевский, будущий президент Украины, родился
здесь в 1866 г. Мать Иларии Михайловны, Людмила Полиевктовна
(1868–1962), была дочерью заслуженного потомственного православного священника Полиевкта Ивановича Гапановича (1840–1913), уро-
�554 Лариса Щавинская
женца с. Смидин на Ковельщине, в конце 1870-х гг. перебравшегося
в Холм, а затем служившего в 30 верстах к юго-востоку от него в
церкви с. Бусьно.
С раннего детства Илария Михайловна была вовлечена в
церковную жизнь, городскую и сельскую, отличавшуюся на Холмщине народной религиозной активностью, когда десятки тысяч
богомольцев «идут и идут к месту празднества большими или
меньшими партиями с хоругвями, крестами, с церковными или
народно-набожными песнями и по пути следования поднимают
погрязших в суете мирской, будят и поддерживают в народе религиозное настроение и память о чествуемых святых и святынях»12.
В Холме центром религиозного притяжения православных всегда
был огромный Рождественский собор с находившейся в нем иконой
Богоматери Холмской, на протяжении столетий духовной покровительницы местного населения, о которой народ пел множество
духовных песен:
Пречистая Дево, Мати русскаго краю,
Як на небе, так на земли Тя величают.
Пречистая Дево, Мати Холмския Руси!
Мы, рабы Твои и дети, славим Тебя вси.
Круг холмских знакомых отца И. М. Булгаковой включал большое число выдающихся лиц, как связанных непосредственно с семинарией, так и пребывавших вне ее. Так, в год рождения Иларии
Михайловны ректором Холмской духовной семинарии становится
архимандрит Тихон (Белавин), будущий патриарх, а в 1897 г. — архимандрит Евлогий (Георгиевский), будущий митрополит, в 1902 г. —
архимандрит Дионисий (Валединский), будущий предстоятель Православной церкви в Польше. В дальнейшем каждый из них сыграет
свою определенную роль в жизни И. М. Булгаковой.
Весной и летом 1905 г., после введения известного указа о свободе вероисповедания, значительная часть прежних, принявших православие, униатов Холмщины перешла в католичество. Это событие
всколыхнуло весь местный православный мир и не прошло незамеченным Иларией-подростком. Впрочем, событие это отозвалось по
всей Российской империи и обратило взоры к Холмщине множества
различных лиц из-за границы. «Ни одна из русских окраин, — писал
тогда журналист-очевидец, — по сложности исторического и бытового материала не представляет в настоящее время такого живого
�Польская русская Илария Булгакова... 555
интереса для наблюдателя, как Холмская Русь. В то время, когда коренная Россия, сознав печальные последствия бюрократического режима, ведет тяжелую борьбу за обновление всего государственного
строя, Холмская Русь до настоящего времени не может покончить
еще со своим вековечным религиозно-национальным вопросом, который, отвлекая другие, насущные вопросы момента, прошел через
всю историю этого края, измучил, исковеркал народ, а теперь, по-видимому, окончательно поставлен на карту. Россия или Польша, православие или латинство, — а вместе ужиться невозможно… И опять
началась борьба — упорная, тяжелая, не на жизнь, а на смерть… Не
драма, а целая трагедия!»13
Тогда же, летом 1905 г., была образована особая православная
епархия с центром в Холме, а через семь лет — отдельная Холмская
губерния, православное население которой в условиях отступления
в период Первой мировой войны, в 1915 г., почти полностью было
эвакуировано на восток, вглубь Российской империи.
Илария Михайловна находилась тогда в Киеве, жила в семье
почившего несколько лет перед тем родного брата своего отца,
А. И. Булгакова, профессора Киевской духовной академии, образ которого постоянно витал в ее холмском родительском доме. Еще до
приезда в Киев она, несомненно, знакомилась с его работами, прежде
всего публицистическими. «Только вера в Бога, — учил А. И. Булгаков, — дает смысл и значение поведению человека, и только при
вере в Бога его поведение всегда остается сознательным исполнением нравственного закона. По этой причине малейшее различие верований непременно отражается на степени нравственности и проявляется в различии нравственности у разных народов, а безверие
почти всегда сопровождается безнравственностью, или понижением
нравственного уровня»14.
Для И. М. Булгаковой весьма важны были мысли А. И. Булгакова о католицизме, одним из признанных авторитетов в изучении
которого он был. Отчасти полемизируя со знаменитым мыслителем
и поэтом В. С. Соловьевым, Афанасий Иванович писал: «Римский
католицизм представляет такое вероисповедание, которое в течение
ряда веков со времени отделения от православной церкви перестраивалось и в целом, и по частям столько раз, что невольно является мысль: есть ли оно здание, основанное на твердом краеугольном
камне, и может ли оно считаться церковию, которая должна быть
столпом и утверждением истины?»15
Наставничество А. И. Булгакова по отношению к Иларии Михайловне и его собственным детям, включая знаменитого сына —
�556 Лариса Щавинская
писателя Михаила Афанасьевича, в сложных вопросах веры и безверия было несомненным, путь усвоения этих вопросов у каждого из
них — свой особый. Исследование этих проблем применительно к
автору «Мастера и Маргариты» едва намечено, но и в данном случае
одним из непреодолимых препятствий их глубинного изучения стала весьма слабая известность даже основных фактов биографии профессора А. И. Булгакова, не говоря уже об особенностях его богатой
общественной деятельности и конечно же, о подробностях научной
богословской работы16.
Военные и революционные события середины — второй половины 1910-х гг., обретение в 1918 г. Польшей независимости, постепенное возвращение православных беженцев на родную Холмщину17, превращение главного ее православного собора в католический
костел — вот тот внешний событийный ряд, который предшествовал
возвращению Иларии Михайловны к своей семье в Холм из столицы
атеистического СССР в середине 1920-х гг. Она активно участвует в
здешней церковной жизни, деятельности Покровского братства, заботившегося о чистоте православия на Холмщине18. До последнего
времени в домах православных Польши сберегались переписанные
тогда ее рукой различные церковные песнопения, в том числе и акафисты, а также народные религиозные песни богогласничного цикла, которые мы видели во время наших многочисленных экспедиций
на польской земле.
Тогдашние внутренние чувства И. М. Булгаковой, называвшей
положение в СССР по отношению к религиозной вере «адом советским», «советским развратом»19, лучше всего передают слова сочиненного на рубеже конца 1920-х — начала 1930-х гг. «Молебного пения о гонимых и страждущих за веру в Советских Республиках»20,
в котором Илария Михайловна не раз принимала участие в Холме.
Впрочем, и здесь, как и во всей межвоенной Польше, польскими властями предпринимались постоянные гонения на православных 21, достигшие своего апогея к 1938 г., когда на Холмщине и Подляшье в течение двух месяцев было разрушено около 200 (двухсот!) церквей 22.
В годы Второй мировой войны резко усилилось польско-украинское
противостояние на Холмщине, погибло большое количество православных из числа местного мирного населения, включая священников, среди них — настоятель церкви с. Бусьно, где когда-то служил
дед И. М. Булгаковой, иерей Михаил Трохимович — бывший ученик
ее отца в семинарии в Кременце.
В послевоенные годы Илария Михайловна работает преподавателем русского языка и музыки в холмском Музыкальном институ-
�Польская русская Илария Булгакова... 557
те23, позднее Музыкальной школе, где с 1949 г. директором был пианист М. Зарембинский, деятельность которого когда-то была связана
с Московской консерваторией, — лицо весьма известное в среде русской эмиграции. После ухода на пенсию в 1960-е гг. И. М. Булгакова
начинает активно писать на темы польского православия. Одной из
первых подобных проб пера стала небольшая статья в варшавском
православном календаре на 1961 г. о столь дорогом ей храме св. Иоанна Богослова в Холме24. В дальнейшем она публикует, часто почти
анонимно, целую серию различных материалов о текущей жизни и
истории этого родного ей холмского православного прихода. Впоследствии внимание Булгаковой-историографа привлекают холмско-подляшские православные женские обители, апогей развития
которых она наблюдала в годы своего детства и юности, а затем в
одной из них, созданной уже в послевоенное время, Марфо-Мариинской на Святой Горе Грабарке, довольно долгое время находилась,
мечтала провести тут остаток своих дней и в течение нескольких лет
составляла монастырскую летопись25.
Личные наблюдения и собранные документальные свидетельства позволили Иларии Михайловне написать ряд исторических
очерков о женской монашеской жизни на Холмщине и Подляшье,
в которых она приводит множество ценных подробностей, касающихся, в частности, активной взаимосвязи женских православных
обителей с местным населением. Местами ее очерки имеют характер
монастырской хроники, которую она вела до последнего момента существования таких обителей на Холмщине в период, предшествовавший началу Первой мировой войны. Вот, например, один из таких
ее фрагментов-наблюдений Иларии Михайловны, свидетельствующий к тому же о ее несомненных личных симпатиях к коренному
холмскому православному священству. Речь в нем идет о храмовом
празднике в Турковицком женском монастыре в 1909 г.: «Проповеди
в этот год говорили свящ. Антоний Любарский и свящ. Иоанн Левчук, местные уроженцы, преданные своей вере и народу, ревностные
и пламенные проповедники»26.
Рассказывая о знаменитом местном Леснинском монастыре,
пребывающем ныне во Франции, И. М. Булгакова называла его
«Леснинской женской Лаврой», а все эти холмско-подляшские православные обители — святыми местами, где «осуществлялся идеал
любви, жертвенной и бескорыстной»27.
�558 Лариса Щавинская
Примечания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ныне Холм (Chełm) — город в Люблинском воеводстве Польши, менее чем в 20 км от границы с Украиной. Илария Михайловна Булгакова родилась 31 марта 1892 г., скончалась — 4 декабря 1982 г.
См.: Лабынцев Ю., Щавинская Л. Литературные труды Афанасия Булгакова. М., 2011.
По словам очевидцев, она буквально на руках перенесла эту древнейшую икону из брошенного железнодорожного эшелона в г. Люблин
и «передала ее местному православному священнику» — см.: Романюк О. Чудотворна ікона Холмської Богородиці: Повернення з небуття. Луцьк, 2009. С. 19–20.
На кресте этом была сделана следующая надпись: «“Боже, прости
меня!” Предсмертные слова русского писателя Михаила Булгакова
(1891–1940). Господи умилосердись надъ нимъ 6/19 VIII. 1977 г.».
См., например, специальный историографический обзор одного из
ведущих современных исследователей судеб православия в Польше: Mironowicz A. Badania polskie nad dziejami Kościoła Prawosławnego w okresie powojennym // Cerkiewny Wiestnik. 2010. № 3. S. 54–
62.
См.: Bułgakow I. Ojciec archimandryta Grzegorz Peradze // Biuletyn Informacyjny Koła teologów prawosławnych. 1983. № 2. S. 16–17.
И. Б [улгакова]. Холмская духовная семинария: К 200-летию со времени основания (1760–1960 гг.) // Православный календарь на 1966 г.
Варшава, 1965. С. 102.
Там же. С. 105.
Biuletyn Informacyjny Koła teologów prawosławnych. S. 17.
Гаврилюк Ю. Холм і українська пам’ять // Над Бугом і Нарвою. 2010.
№ 6. С. 17.
См., напр.: Грушевский С. Ф. Первая учебная книга церковнославянского языка. М., 1917. 35-е издание.
Холмский старожил [Ф. Г. Лебединцев]. Холмский народный календарь на 1888 год… // Киевская старина. 1887. № 12. С. 770.
Кореневский П. И. По Холмской Руси // Исторический вестник. 1908.
Т. 112. С. 890.
Булгаков А. О просвещении народов. Киев, 1904. С. 19.
А. Б–въ [Булгаков]. Фон-Деллингер, глава старокатолического движения // Труды Киевской духовной академии. 1890. Т. 2. С. 458.
А. И. Булгаков в письме С. А. Венгерову сообщал в 1891 г. следующее: «Киев, 1891 года, 1 декабря. Милостивый государь Семен Афанасьевич! Спешу ответить Вам на письмо, в котором Вы просите меня
�Польская русская Илария Булгакова... 559
“сообщить о себе биографические и библиографические сведения для
Вашего издания”. Излагаю по Вашему желанию “в форме краткой
биографии”.
Имя мое Булгаков Афанасий Иванович, я родился в 1859 году,
21 апреля, в селе Бойтичи Орловской губ., Брянского уезда; отец
мой — священник, а мать — дочь пономаря одной из церквей города Брянска. До 6 лет я жил на месте родины, а потом в селе Подоляны Орловск. уезда и губернии, куда мой отец был переведен на
место священника. Здесь я получил первоначальное образование,
частию под руководством отца и матери, частию в сельской приходской школе. В нашей семье постоянно жили светлые воспоминания о дальнем родственнике со стороны отца проф. Якове Кузьмиче
Амфитеатрове и трех братьях моей матери, которые окончили курс
в Петербургской дух. академии, и из которых один был оставлен
бакалавром в ней, другой служил сначала в Китайской миссии, а
потом при посольстве в Китае, а третий был преподавателем духовной семинарии. Заветною мечтою моих родителей было то, чтобы
я и братья мои шли по той же дороге, на которой составили себе
славу в тесном домашнем кругу наши дяди. Поэтому нас постепенно отдавали учиться в духовно-учебные заведения. Я поступил в
Орловск. дух. училище в 1869 году, когда оно еще не было преобразовано.
Пробыв там два двухгодичных курса (по старому уставу) и два
годичных (по новому) я перешел в 1875 году в духовную семинарию.
Время моего учения там было временем реформ прошлого царствования, временем господства классицизма, временем обсуждения
состояния умов русской молодежи, временем последней русско-турецкой войны, — словом временем, которое закончилось ужасным
событием 1 марта 1881го года. События быстро сменявшиеся, не могли проходить бесследно для духовных заведений и в частности для
нашей семинарии: среди воспитанников было заметно лихорадочное стремление к приобретению знаний; многие стремились оставить семинарию и перейти в светские заведения, — что и удавалось
им несмотря на стеснительные требования по получению аттестата
зрелости. Я был склонен к богословской науке, и окончил полный
семинарский курс; а потом на казенный счет был назначен в Киевскую дух. академию, в которой я пробыл 4 года (до 1885 года), занимаясь преимущественно церковною историею и изучением древних и новых языков. По окончании курса кандидатом богословия с
правом получить степень магистра богословия без новых устных
испытаний (или магистрантом), в том же году, я назначен был пре-
�560 Лариса Щавинская
подавателем греч. языка в г. Новочеркасск Донской области. Здесь
в течение двух лет я окончил начатое еще в академии магистерское
сочинение, 1я часть которого была напечатана и рецензирована в
1886 и в начале 1887 года; так что в мае 1887 года я был приглашен
в академию на магистерский коллоквиум. В октябре того же года,
по утверждению меня в степени магистра богословия я был избран
Советом Киевской академии читать лекции по кафедре Древней
гражданской истории. Но в 1888 году я, по личной склонности к
богословской науке, — переменил кафедру: я перешел на кафедру
“Истории и разбора западных исповеданий”, на которой остаюсь и
теперь. С августа 1890 года начал также давать уроки гражданской
истории в Киевск. институте благород. девиц.
Писать и печатать свои статьи начал еще в семинарии. К 1880 году
была напечатана по определению семинарского начальства моя статья “О судебной реформе в царствование Александра II” (по поводу
25-летнего юбилея царствования покойного Государя). Студентом
академии в 1863 году напечатал статью “Судьба Моравской церкви
после смерти св. Мефодия (885 г.)” (по поводу юбилея со дня смерти
св. Мефодия). Обе статьи напечатаны в “Орлов. епарх. ведом.”. В 1886
и 1887 году напечатал сочинение: “Очерки истории методизма” в двух
книгах. Первая часть представлена была в качестве магистерск. диссертации. В 1888 году начал перевод творений Блаженного Августина
для издаваемой при Киевской академии “Библиотеки отцов древней
западной церкви” (этот перевод продолжаю и теперь). В том же году
составил “Описание торжества 900-летия крещения Руси в Киеве” для
“Церковных ведомостей”. В 1889 году напечатал отчет о “Конференции англиканских епископов”, бывшей в 1888 году. В 1890 году напечатал статьи: “Кафолико-апостольские общины в России”, “Страничка из истории ритуализма в Англии”, “Й. фон Дёллингер”, “Баптизм”.
В 1891 году статьи: “Безбрачие духовенства”, “Идеал общественной
жизни по воззрениям католичества, реформатства и протестантизма”,
“О молоканстве” и “Некрологи Преосв. Платона, митр. Киевского и
Галицкого (1803–1891)”. Все статьи напечатаны в “Трудах Киевской
дух. Академии”. Вместе с печатанием перечисленных статей я редактировал первый выпуск каталога книг фундаментальной библиотеки
академии, напечатанный в 1890 году; редактирование каталога продолжаю и теперь.
Кроме рецензии на мою магистерскую диссертацию, составленную одним из профессоров академии, и кратких извлечений из моих
статей в библиографических листках духовных журналов я не знаю
отзывов на свои сочинения. В сочинении “Очерки истории методиз-
�Польская русская Илария Булгакова... 561
ма” я пришел к выводу, что эта секта Англиканской церкви образовалась постепенно из протеста против омертвления духа в этой церкви; что представители этого протеста могли бы послужить на пользу
Англиканской церкви, если бы духовенство не оттолкнуло их; что по
характеру своему и по устройству своих общин секта методистов есть
крайняя степень в развитии протестантизма» (см.: ИРЛИ РАН. Ф. 377.
Оп. 7. Ед. хр. 646. Л. 1–4).
17 Количество возвратившихся в Холм православных беженцев к концу 1910‑х гг. было уже столь значительным, что по поддержанной
польскими властями просьбе местного православного священника
о. Александра Ярацевича от 21.08.1919 г. здесь даже издали православный календарь на русском языке (См.: Archiwum akt Nowych. MWiOP.
Eд. xр. 1260. S. 5–7).
18 См.: Łukaszuk J. Rola bractw cerkiewnych w walce o zachowanie czystości
prawosławia na Chełmszczyźnie // Historia i dzień dzisiejszy Kościoła prawosławnego w Polsce. Grabarka-Białystok, 1995. S. 49–54.
19 См.: Земская Е. А. Михаил Булгаков и его родные: Семейный портрет.
М., 2004. С. 265.
20 Подробнее см.: Лабынцев Ю. А., Щавинская Л. Л. Народная литература белорусско-русско-украинского пограничья. М., 2009.
С. 285–287; Лабынцев Ю. А. Современная народная память о массовом православном исповедничестве 1920–1930-х годов на русско-белорусско-украинском пограничье // Почитание новомучеников ХХ столетия и восстановление национального самосознания.
Материалы Пятой ежегодной Всероссийской научно-богословской
конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и
судьбы России» Москва — Саров — Дивеево 20–22 июня 2008 года.
Н. Новгород, 2009. С. 297–301.
21 Подробнее см.: Papierzyńska-Turek M. Między tradycją a rzeczywistością: Państwo wobec prawosławia w województwie lubelskim (1918–1939).
Warszawa, 1989; Pelica G. Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918–1939). Lublin, 2009.
22 См.: Купріянович Г. Акція руйнування православних церков на Хомщині і Південному Підляшші. Холм, 2008.
23 В год поступления И. М. Булгаковой на работу в это учебное заведение (1946) оно располагалось в доме православного прихода при церкви св. Иоанна Богослова.
24 См.: Булгакова И. Свято-Иоанно-Богословская церковь в гор. Холме //
Православный календарь на 1961 г. Варшава, 1960. С. 74.
25 Эти тексты, подготовленные И. М. Булгаковой, а также иные ее материалы хранятся в архиве монастыря.
�562 Лариса Щавинская
26
27
И. Б [улгакова]. К истории православного женского монашества на
Холмщине и Подляшье // Православный календарь на 1966 г. Варшава, 1965. С. 96.
Там же. С. 97.
�Воспоминания, стихи
��Андрей Базилевский
(Москва)
Виктор Хорев
как
переводчик
Базилевский Андрей Борисович — доктор филологических наук, Россия, Мос
ква, Институт мировой ли
тературы РАН
Хорев считает литературу ключевым способом познания — по его мнению,
эстетическая функция тут, быть может,
даже не столь важна. Если культура не
описана в литературе, для других народов
она словно бы и не существует. Через литературу познаются другие люди, другое
общество, мир. Мы живем образами, почерпнутыми из литературы. То, насколько
адекватно наше представление о данном
народе, во многом зависит от перевода и
издания его литературы.
Хорев — сторонник того, отнюдь не
общепринятого среди филологов взгляда,
что перевод, знакомя с первичными текстами, выполняет для большинства читательской аудитории гораздо более существенную функцию, чем интерпретация.
Исходя из этого, он видит в популяризации
литературы не менее важную задачу, чем в
ее исследовании. Все годы своей работы в
полонистике он выступает в триедином качестве: как ученый, издатель и переводчик.
Помимо академических жанров он
всегда охотно брался за составление предисловий и комментариев к сочинениям
польских писателей. Переводил не часто,
но крепко и ладно.
Сам Виктор Александрович говорит,
что переводил от случая к случаю, не считая это главным делом. Никогда не рвался
�566 Андрей Базилевский
в переводческую деятельность, поскольку не хотел ни с кем соревноваться, ввязываться в борьбу за гонорары, погружаться в интриги. Но
если что-то попутно попадалось, если предлагали — не отказывался.
В советское время переводчиков хватало; это была сплоченная когорта мастеровитых и практичных профессионалов. Тем, кто «не рвался»
в их круг, доставалось немногое. И все-таки даже в ту пору Хорев перевел немало произведений вполне почтенных авторов.
Первый его перевод был опубликован в 1956 г. – «Дорога жизни»,
сценарий Игоря Неверли и Ежи Кавалеровича. На его счету рассказы и повести Марии Домбровской, Стефана Отвиновского, Ксаверия
Прушинского, Рышарда Фрелека, Вацлава Билинского, Богдана Чешко, Владислава Махеека, Войцеха Жукровского, Збигнева Сафьяна,
Юзефа Виттлина и других.
В 2000-е гг. — после долгого «постперестроечного» перерыва в
переводческих занятиях — Хорев плодотворно сотрудничает со славянской библиотекой издательства «Вахазар». Для книг «Коллекции польской литературы» им переведены многочисленные эссе, рассказы, драматические миниатюры Циприана Камиля Норвида, Болеслава Лесьмяна,
Станислава Игнация Виткевича, Юлиана Тувима, Константы Ильдефонса Галчинского, Владислава Броневского. Среди крупных форм — значительная часть романа Виткевича «Ненасытимость», большой раздел
дневника Броневского, повесть Зигмунта Красинского «Агай-хан».
Именно теперь, во времена перманентного социального кризиса,
когда престиж переводческой профессии, как и всякой интеллектуальной работы, неизмеримо деградировал, когда этот труд перестал
приносить гарантированный доход, оказалась остро востребована и
по заслугам оценена квалификация Хорева-переводчика. И не только она. А еще и его абсолютная нравственная установка как человека
идеи, преданно служащего литературе.
Виктор Александрович принадлежит к тем редким отлично оснащенным переводчикам, которые постигают художественный текст
в полноте его смыслового объема и множественности внетекстовых
связей. При поиске максимально точных и адекватных вариантов переложения он учитывает мнение редактора, видя в нем товарища, а
не соперника (что для многих в переводческом цехе не является бесспорной добродетелью). Он свободен от самодовольной узости, ибо
служит не собственной персоне, а делу, избранному по вдохновению,
делу, в котором знает толк и видит смысл.
Дело это — продвижение литературы иного славянского народа,
который стал для Виктора Хорева поистине родным. Как становится
родным все, во что вложена душа.
�Александр Гугнин
(Полоцк)
Гугнин Александр Александрович — доктор филологических наук, профессор,
Беларусь, Полоцк, Полоцкий государственный университет
Мои последние встречи
с Виктором Хоревым
Меня пригласили работать в Институт славяноведения и балканистики осенью 1983 г., хотя сотрудничество началось
на год или два раньше — сектору современных литератур нужен был германист,
а меня в эти годы стала привлекать славистика — прежде всего серболужичане,
с которыми я столкнулся, изучая немецкую историю и литературу. Я стал участвовать в некоторых мероприятиях сектора, постепенно познакомился с людьми
и, как мне кажется, довольно быстро оценил человеческие качества коллектива.
Почти 25 лет я отработал здесь и ни разу
об этом не пожалел. Мне и сейчас кажется, что это был редкий оазис, не совсем
обычный для эпохи «последнего этапа
строительства коммунизма» и неизвестно откуда взявшейся «перестройки», которую в народе довольно быстро назвали
«катастройкой». Мы занимались наукой
(каждый по своим способностям), участвовали в общественной и политической
жизни (если у кого была к этому склонность), у нас были разногласия по тем или
иным вопросам, но я не припомню ни одного случая, где бы мы расходились или
ссорились в человеческом плане, не припомню ни одного присутственного дня,
когда бы нам после обсуждения тех или
иных коллективных трудов или отдель-
�568 Александр Гугнин
ных статей, проектов и диссертаций не хотелось еще побыть вместе,
почитать друг другу стихи (шутливые или серьезные), рассказать о
своих успехах или неудачах, отметить день рождения, наступающий
праздник или вышедшую книгу, а порой и просто так поговорить
и побыть друг с другом — безо всякого видимого повода… Особое
качество этого коллектива — сердечное расположение друг к другу
(я думаю, оно было не только у меня), способность искренне радоваться удаче другого и стремление помочь, если что-то не ладится.
Я даже физически чувствовал, что мне чего-то не хватает, если хотя
бы один человек из сектора отсутствовал по той или иной причине.
Но я не покривлю перед истиной, если скажу, что организующей душой всего коллектива был Виктор Александрович Хорев, его присутствие всегда было конструктивным и возвышающим — будь то
серьезное научное обсуждение или дружеские беседы после завершенных дел… Мы с Виктором Александровичем не стали закадычными друзьями (у каждого из нас уже таковые были), но и не остались просто товарищами по работе — где бы и по каким делам мы с
ним ни были, нам всегда было хорошо, всегда было что рассказать и
о чем поговорить. Если это все вспоминать, получится целая книга…
Я расскажу только об одной из наших последних встреч в Гродно.
Еще две (самые последние) были в Москве…
4 ноября 2009 г. я выехал из Полоцка в Гродно по приглашению
Светланы Филипповны Мусиенко на торжественное заседание, посвященное 20-летию кафедры польской филологии в Гродненском
государственном университете имени Янки Купалы, и для участия
в Международной научной конференции «Адам Міцкевіч і сучасная
сусветная культура». Мы не раз перезванивались со Светланой, я точно знал, что приедет и Витя Хорев и что у нас найдется возможность
поговорить наедине… Гродно встретил неласково, дул противный ветер, сопровождаемый смесью из дождя и снега; пока я добрался до
гостиницы, порядком продрог. Пришлось выйти в город, закупить
спиртного и закуски, чтобы не простудиться окончательно, к вечеру
нашелся и хороший собеседник (Н. Н. Хмельницкий), так что мы разошлись спать, изгнав все простуды… Витю я увидел на следующий
день, уже в актовом зале. Он выглядел несколько усталым (кажется,
приехал ночью). Торжественная часть началась с благословения священников и в целом прошла великолепно: прекрасные речи, посвященные юбилею и достижениям кафедры; после нескольких официальных выступлений слово дали Виктору Александровичу. Не буду
пересказывать его речь, но меня, как всегда, поразила его способность
быстро включаться в ситуацию: еще минуту назад он сидел, прикрыв
�Мои последние встречи с Виктором Хоревым 569
глаза от утомления, и словно дремал, но вот встал, и с каждой фразой
голос становился все четче и увереннее, и усталости словно и не было.
Он говорил о заслугах Светланы Филипповны и о достижениях кафедры польской филологии, а я вспоминал, сколько славистов из Беларуси обсуждали свои кандидатские и докторские диссертации на заседаниях нашего сектора и скольких из них наставлял и консультировал
Виктор Александрович, практически постоянно ездивший в Гродно и
опекавший своих бывших учеников до самого последнего года…
Поговорить по-настоящему нам удалось после заседаний секций,
дома у Светланы Филипповны, которая отдала Вите ключи, чтобы мы
могли немного отдохнуть перед дружеским ужином. Мы сели в гостиной, налили по рюмке коньяка и стали не торопясь перебирать разные эпизоды и судьбы людей нашего Института, живых и ушедших.
А ушедших (из числа даже самых близких людей) набралось немало.
Пришлось достать еще и бутылку водки. Среди многого вспомнили и
удивительную командировку в Италию в 1989 г. вместе с академиком
Н. И. Толстым, С. М. Толстой, Л. А. Софроновой и В. В. Мочаловой.
Мне пришлось до армии учиться у И. И. Толстого, он после моего возвращения из армии узнал меня, и мы с ним дружили (насколько это
возможно при такой разнице в возрасте). Видимо, он что-то рассказал
обо мне и сыну, потому что Н. И. Толстой, определяя состав делегации, настоял, чтобы включили меня. Всю подноготную этой поездки
Витя знал лучше меня, он с удовольствием посвятил меня в детали,
которых я не знал, но компанию академик подобрал отличную, и мы
не только все еще больше подружились в Италии, но и еще не раз и
не два встречались вместе в Москве на разных квартирах и по разным
поводам, чтобы просто побыть вместе…
На следующий день (помимо конференции) особенно запомнилась поездка на озеро Свитязь, которое я знал только по балладе
Мицкевича, но сам ни разу не был. Погода была еще противнее, чем
вчера, ветер еще сильнее. Озеро замерзло, но лед был тонкий и еще не
занесенный снегом. Рыбы подплывали подо льдом прямо к пошатывающейся пристани, с которой хорошо просматривалось типичное белорусское озеро, каких в Беларуси много, но все же озеро совершенно
особенное, освященное народной легендой и Мицкевичем, поэтому и
волнение было особенное, несмотря на холодную пасмурную погоду
и почти пронизывающий ветер. «Не пора ли согреться?» — подошел
ко мне Витя. «Хорошо бы, — ответил я, — только у меня ничего с собой нет». Витя достал из кармана пальто достаточно вместительную
флягу. Подошел еще третий, сейчас мне кажется, что это был именно
профессор И. В. Жук, но тогда я его еще лично не знал. Получилась
�570 Александр Гугнин
отличная компания, и закуска тут же нашлась, оказывается, Светлана
Филипповна все предусмотрела…
Обратно от озера мы сели в автобус вместе с Витей. О чем-то
говорили, и вдруг он сказал мне: «Саша, у меня, как говорят врачи, неизлечимая болезнь. Так что приезжай в Москву почаще, а то можешь
и не застать…» Я успел застать его и поговорить с ним в Москве еще
два раза. О болезни мы больше не говорили…
�Эугениуш Кабатц
(Варшава)
Наш лауреат
(воспоминание
о Викторе Хореве)
Кабатц Эугениуш / Kaba
tc Eugeniusz — Польша,
Варшава, Общество европейской культуры / Société
Européenne de Culture [SEC]
Вот Виктор Хорев выступает в польском Обществе Европейской Культуры
(SEC) в Варшаве. Образ человека является
перед нами четко очерченным, но остается
как будто незаконченным…
Когда несколько лет назад я вручал
ему нашу польскую награду за многолетнюю и плодотворную работу на ниве европейской культуры, я не подозревал, что
именно таким образом складывается единство двух связанных друг с другом, но
нетождественных культурных диалогов:
достаточно очевидных польско-российских и немного менее заметных на этом
фоне польско-европейских. Я не был знаком с профессором раньше, хотя его имя в
моем сознании ассоциировалось с литературными переводами, где-то в Москве, на
конференциях… Но речь не о том…
Познакомившись и сблизившись с
ним тогда, я попытался — пусть и не в
полной мере — обратиться к той области
знания, в которой работал и которую развивал на протяжении нескольких десятков
лет этот выдающийся литературовед.
Преподавание и изучение полонистики в России — это для нас очень важное
дело, имеющее в том числе и символический смысл. Оно позволяет сближаться с
людьми, овладевать языком и знакомиться
с литературой дружественной страны — в
�572 Эугениуш Кабатц
той цельности национального исторического существования, которая
много важнее тяжкого бремени конфликтов тысячелетнего соседства…
Здесь не вполне уместно упоминать огромное значение — и на
региональном, и на международном уровне — этой области культурных связей (в нашем Обществе мы это называем новой «политикой
культуры»), в которой люди становятся людьми. Мне хотелось лишь
подчеркнуть, что дружба с этим русским полонистом стала для меня
большой честью. Он мгновенно покорил меня легкостью сближения,
мощью харизмы и жаждой знания. Словом, наш лауреат поразил меня
не своей высокой ученостью, а той чертой характера, которую я назвал бы интересом к окружающему миру.
В последние годы, когда он бывал в Варшаве (а бывал он достаточно часто), мы встречались и пытались по-новому определить
польско-русские «вопросы». Внешние проблемы — политические,
экономические — известны как болезненные точки исторических и
межгосударственных отношений, поэтому мы стремились обратиться
к неким универсальным ценностям культуры, а особенно литературы,
поскольку именно в ней отражено взаимодействие личности и истории. Он цитировал письма Э. Ожешко ее русскому переводчику (а ее
переводов было немало, и они пользовались в России большим успехом), а я обращался к своему итальянскому опыту — в этой стране
русская тема обнаруживает себя довольно часто.
Когда мы отмечали очередную годовщину смерти Ярослава
Ивашкевича, возглавлявшего наше Общество на протяжении многих лет, мы вспоминали его книгу «Петербург», в которой благодаря
ему — еще тогда, когда город назывался Ленинградом, — этот русский столп европейской культуры предстал перед нами на исторической оси Венеция — Варшава — Петербург. Переведенная на русский
язык Е. Невякиным, книга стала предметом наших рассуждений о
роли переводчика. В России в издательском деле значение переводчика художественной литературы привычно преуменьшается (обычно
его имя помещается где-то на последней странице и набрано мелким
шрифтом). А в Польше литературные переводы расценивают как искусство, переводчика именуют соавтором и фамилию ставят на первой странице…
Нас огорчали сложности и конфликты, но были и поводы для радости — и таких в польско-русских отношениях немало. Я рассказывал профессору об итальянском вине и итальянской полонистике, с
которой я имел дело, читая лекции в разных университетах от Милана
и Падуи до Неаполя и Бари. Он интересовался гробницей св. Николая
�Наш лауреат (воспоминание о Викторе Хореве) 573
в старой базилике в Бари и судьбой польского писателя Густава Херлинга-Грудзиньского в Неаполе.
При нем я записывал свои полонистические воспоминания, обратившись к биографии еще одного польского писателя, некогда оставшегося в Италии, — Станислава Бжозовского из Флоренции. Профессор был искренне тронут моим рассказом об этом трагическом
философе в книге «Ostatnie wzgуrze Florencji» («Последняя высота
Флоренции»), в которой трудную судьбу молодого поляка я связал с
постройкой в этом городе православной церкви…
Мы переносились в Москву, на Малую Грузинскую улицу, где в
то же самое время — около ста лет назад — как раз строили католический костел, что осталось в детских воспоминаниях моей мамы и о
чем позже рассказывали мои (и Виктора Александровича) московские
друзья, жившие на этой улице, — известные поэты и переводчики
польской литературы Наталья Астафьева и Владимир Британишский.
Нам всегда было легко беседовать, потому что такова была наша
дружба — светлая, оживленная его интеллектом, знаниями и согретая
взаимным обращением по отчеству — «Александрыч». Будучи младше меня всего на два года, он знал польскую литературу как человек
гораздо старше меня. Это, учитывая мое экономическое образование,
может быть, не столь удивительно, но в наших отношениях это было
для меня невыразимо привлекательным и крайне поучительным.
Я завидую тем, кто имел возможность знать его дольше и кто
прекрасно — и заслуженно! — назвал сборник в честь 80-летия профессора «Amicus Poloniae».
Да, он принадлежит к тем мудрым и тонко чувствующим русским людям, о которых мы хотим вспоминать с верой в созидательную силу взаимного доброго слова.
(Перевод Е. Кузнецовой)
�Профессор
Виктор Александрович
Антоний Семчук
(Варшава)
Хорев
Профессор Виктор Александрович
Хорев «принадлежит к поколению шестидесятников, к тем его представителям,
которые, не будучи диссидентами, в то же
время счастливо избежали многих советских комплексов — слепой веры в господствующую идеологическую доктрину,
органического неприятия инакомыслия.
Их нравственное созревание пришлось
на период “оттепели”, а именно к ней…
восходят наиболее позитивные процессы
90-х гг., то лучшее, что принесла с собой
перестройка»1, — пишет Л. Н. Будагова.
Подтолкнуть молодого русского полониста к отрицанию веры в сталинскую
идеологическую доктрину и интересу к
инакомыслию могла также «оттепель» и
смена в 1956 г. руководства Польши.
В Варшаве Виктор Александрович
часто навещал поэта Владислава Броневского, который считал его своим другом,
в Кракове же — Казимежа Выку, академика, выдающегося знатока современной
польской литературы. Биография, творчество и взгляды Броневского — участника польско-большевистской войны
1920 года, в возрожденной Польше межвоенного двадцатилетия преследовавшегося
за симпатии к коммунизму, 1940–1941 гг.
проведшего в советских тюрьмах и уцелевшего лишь благодаря армии генерала
Семчук Антоний / Semczuk
Antoni — Dr. hab., профессор, Польша, Варшава, Варшавский университет
�Профессор Виктор Александрович Хорев 575
Андерса, с которой покинул СССР, в 1945 г. вернувшегося на родину
и оставшегося верным своему мировозрению, — несомненно способствовали идеям «оттепели». Профессор Выка, ученый широчайшего
интеллектуального диапазона, в годы войны написал в дневнике, что,
читая «Войну и мир», смотрит на карту и ищет линии фронта, т. е. он
ожидал освобождения Красной Армией. В книге «Польская литература ХХ века. 1890–1990» профессор Хорев пишет: «Освобождение
Польши советской армией спасло польский народ от биологического уничтожения, которое ставили своей целью нацисты, но не дало
ему возможности свободного выбора своего политического устройства. Советский Союз навязал Польше свою политическую систему»2.
Книга вышла в 2009 г. — после «перестройки» Горбачева, но не сомневаюсь, что процитированные выводы сформировались в сознании
профессора Хорева еще в эпоху «оттепели» и что способствовали им
встречи профессора с польскими писателями и учеными, в том числе
названными выше: академик Выка был одним из основателей Института литературных исследований, с которым с юности сотрудничал
Виктор Александрович.
Профессор Виктор Александрович Хорев, видный ученый и
один из основателей российской полонистики, скончался в Гродно —
городе Элизы Ожешко и Зофьи Налковской — 25 мая 2012 г.
Перед этим — с конца апреля 2012 г. и до середины мая — он
был в Варшаве, где участвовал в двухдневной (27–28.04) международной конференции «Польша — Россия. Диалог культур», посвященной
памяти профессора Елены Захаровны Цыбенко и организованной Институтом русистики Варшавского университета и Российским центром науки и культуры. Как всегда интересно и увлекательно первым
выступил на пленарном заседании. Через несколько дней, будучи у
меня в гостях, с нескрываемой радостью говорил о предстоящей поездке в Гродно: в Гродненском государственном университете имени
Янки Купалы собирались отмечать десятилетний юбилей кафедры
польской филологии, созданной в этом вузе по инициативе и благодаря поддержке профессора Хорева, а самого его ожидал диплом почетного доктора. Диплом Ректором был вручен, но по воле злой судьбы в
ту же ночь Виктора Александровича не стало.
Десять лет назад, к семидесятилетнему юбилею профессора Хорева в Институте славяноведения Российской академии наук была издана интересная и содержательная книга «Studia Polonica», которую
мне довелось рецензировать в нашем журнале «Przegląd Humanistyczny»3. В феврале же нынешнего года, когда Виктору Александровичу
исполнилось 80 лет, Институт славяноведения РАН организовал по-
�576 Антоний Семчук
священную юбиляру международную конференцию и одновременно
опубликовал сборник тезисов «Victor Chorev — Amicus Poloniae»4.
Во вступлении к этой книге юбиляр справедливо назван «одним
из основателей российской полонистики»; говорится также, что во
всех отделах Института и в Польше Виктора Александровича любят
и ценят, а «многие польские коллеги уже давно превратились в его
надежных и близких друзей»5.
В последнее десятилетие сама собой установилась традиция:
приезжая в Варшаву, первый вечер Виктор Александрович проводил
в моем доме. Знакомы мы были давно — еще со времен хрущевской
«оттепели», а традиция эта восходит к июню 1964 г., когда мы с женой,
возвращаясь с Кавказа, на сутки остановились в Москве у гостеприимных Хоревых. Принимала нас и угощала в их квартире на улице Горького милейшая Нина Николаевна Пономарева, жена профессора. Виктор
Александрович часто навещал нас в Варшаве, супруга же его, известная
болгаристка, в Польше никогда не бывала. Мы решили, что это положение следует исправить — и в 1974 или 1975 г. удалось организовать
приезд Нины Николаевны в Варшаву, приурочив его к командировке
мужа. Нина Николаевна была очень довольна поездкой, тем более что с
погодой им повезло. Потом, в Москве, она с удовольствием вспоминала
это путешествие, но, к сожалению, повторить его не удалось.
Кстати о научных командировках — лет десять назад Виктор
Александрович, прилетев на конференцию в Варшаву, из-за нелетной
осенней погоды двое суток не мог вылететь обратно. Два дня в нервном напряжении, в толпе взволнованных, полуголодных, замерзших
людей — вот реалии той поездки. По вечерам, вернувшись к нам, профессор приходил в себя, звонил в Москву жене, отдыхал и ложился
спать. Улететь удалось лишь на третий день. Каких сил и здоровья
стоило Виктору Александровичу, уже не молодому человеку, это «научное» приключение?
После окончания в 1955 г. факультета русистики Варшавского
университета я на шесть лет оказался связанным с Институтом славистики Польской академии наук: сперва как аспирант, а с 1959 г. — как
научный сотрудник. ПАН предоставляла нам возможность ездить в
международные командировки: так, например, я за эти шесть лет три
раза побывал в Москве (в двух академических институтах — Институте славяноведения и Институте мировой литературы) и в Ленинграде (в Институте русской литературы — Пушкинском доме). Московские же полонисты из этих институтов приезжали в Варшаву — в
учреждения ПАН: в Институт славистики и Институт литературных
исследований. Среди них оказался и Виктор Александрович Хорев.
�Профессор Виктор Александрович Хорев 577
Окончив в Вологде среднюю школу, он приехал в столицу и поступил на филологический факультет МГУ, который с отличием закончил в 1954 г. Вскоре был принят на работу в Институт славяноведения АН СССР, с которым связал свою профессию и жизнь. В 1964 г.
Виктор Александрович стал кандидатом, а в 1979 — доктором филологических наук и профессором. Имя выдающегося русского полониста известно далеко за границей — прежде всего, в Польше и других
славянских странах Европы. Из богатого научного наследия Виктора
Александровича особое внимание следует обратить на работы, посвященные польской литературе XX в.
Московское издательство «Наука» опубликовало двухтомную
«Историю польской литературы» (Т. I — 1968 г., Т. II — 1969 г.), подготовленную в основном полонистами Института славяноведения с
привлечением авторов из МГУ (Е. З. Цыбенко), Института мировой литературы (А. Г. Пиотровская) и других научных учреждений. В редколлегию вошли четверо ученых Института славяноведения — В. В. Витт,
И. С. Миллер, Б. Ф. Стахеев и В. А. Хорев, в качестве авторов доминировали трое из них — Витт, Стахеев и Хорев. Виктор Александрович написал обзорную — обширную, более пятидесяти страниц — статью о
межвоенной и военной литературе, где немало места уделил творчеству
Бруно Шульца, Станислава И. Виткевича и Витольда Гомбровича, имена которых в Советском Союзе тогда почти не упоминались. Отдельная
статья была посвящена К. И. Галчиньскому — любимому поэту нашего
поколения. Двухтомник московских полонистов до сих пор не утратил
своей научной и информационно-популяризаторской ценности. Тем,
кто не верит, советую прочитать две статьи: В. А. Хорева о Галчиньском и Б. Ф. Стахеева о Бое-Желеньском.
Эта двухтомная история польской литературы свидетельствует
о широком спектре научных интересов ученого: исследования, посвященные творчеству Владислава Броневского, с которым профессор
дружил, Станислава Дыгата, Леона Кручковского и Яна Каспровича,
а также статьи о Люциане Шенвальде, Тадеуше Ружевиче и Тадеуше Брезе. Обзор современной польской литературы в книге 1969 г.
профессор Хорев довел до 1944 г. — согласно концепции учебника,
однако позже, уже будучи заместителем директора Института славяноведения, Виктор Александрович выступил с инициативой создания
энциклопедической по форме, синтетической «Истории литератур
Восточной Европы после Второй мировой войны». Замысел был реализован: в 1995 г. вышел первый том, в 2001 — второй, куда профессор Хорев включил свой обзор современной польской литературы
1945–1990 гг. — продолжение работы, опубликованной в 1969 г. Было
�578 Антоний Семчук
совершенно очевидно, что в перспективе должна появиться книга о
польской литературе XX века. В начале 2000-х гг. Виктор Александрович, жаловавшийся, что его тянет к письменному столу, оставил
все административные должности — в Институте числился только
как главный научный сотрудник Отдела по изучению современных
литератур Центральной и Юго-Восточной Европы. И вот в 2009 г. эта
книга — три с половиной сотни страниц — появилась. Выпустило
«Польскую литературу XX века. 1890–1990» издательство «Индрик»,
спонсорами выступили Российская академия наук и Польский культурный центр, польскими рецензентами стали профессора Алиция
Володзько-Буткевич и Ян Орловский.
Особое место в ученом наследии профессора В. А. Хорева занимают имагологические труды последних пятнадцати лет. В октябре
1997 г. в Москве состоялась — по его инициативе — научная конференция «Поляки и русские в глазах друг друга». В ней приняли участие
сотрудники Института славяноведения РАН, Института литературных исследований ПАН и других русских и польских научных учреждений. В 2000 г. в Москве вышел пространный сборник материалов
конференции под редакцией профессора Хорева. В эту книгу вошла и
его программная статья «Имагология и изучение русско-польских литературных связей», в которой говорилось: «Имагология ставит своей
задачей выявить истинные и ложные представления о жизни других
народов, стереотипы и предубеждения, существующие в общественном сознании, их происхождение и развитие, их общественную роль и
эстетическую функцию в художественном произведении…»6.
Уже в 2002 г. ученый коллектив русской и польской академий
наук под руководством профессора Хорева издал сборник «Россия —
Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре».
Исследование имагологической темы Виктор Александрович
продолжил также индивидуально. В 2005 г. в Москве появляется его
книга «Польша и поляки глазами русских литераторов: Имагологические очерки». Через 7 лет, в 2012 г. выходит вторая «имагологическая»
книга ученого — «Восприятие России и русской литературы польскими писателями (очерки)».
Имагологические работы Виктора Александровича свидетельствуют о том, что ученого тревожило настоящее и будущее русско-польских отношений. Профессор всегда живо реагировал на волнения и преобразования в современной общественной жизни — в России ли, в Польше, в Европе.
Неслучайно в заглавии книги, выпущенной к его 80-летию, Виктор Александрович назван «Amicus Poloniae» — он действительно
�Профессор Виктор Александрович Хорев 579
был нашим другом и радовал нас каждым своим приездом. Деятельность и наследие профессора Хорева были должным образом оценены
в Польше. Во вступлении к сборнику «Victor Chorev — Amicus Poloniae» говорится об этой высокой оценке (в частности, перечислены
ордена и другие польские награды ученого) — поэтому повторять эту
информацию считаю излишним. Скажу о другом: весной 2012 г. редакция научного журнала «Przegląd Humanistyczny» приняла решение
ввести профессора Хорева в ученый совет журнала. Виктор Александрович был очень рад этому, однако внезапная смерть помешала ему
приступить к работе в этом ученом коллективе.
В заключение — небольшое лирическое отступление. Из московских знакомых особенно близки мне были профессора Борис
Федорович Стахеев, Виктор Александрович Хорев и Елена Захаровна
Цыбенко. Работа в ПАН после окончания университета свела меня с
русскими академическими учеными, а после перехода в 1961 г. в Варшавский университет я стал сотрудничать с филологами из МГУ, прежде всего — с незабвенной Еленой Захаровной.
С Борисом Федоровичем я познакомился в 1956 г. в Варшаве и начиная с 1957 г. часто встречался с ним и его женой, историком Ольгой
Павловной Морозовой — сначала в их скромном жилище на улице
Чернышевского, затем в просторных квартирах на улице Чайковского
и Новослободской, а порой и в новой квартире Виктора Александровича на Профсоюзной. В 50-е и 60-е гг. профессор Стахеев много бывал в Варшаве, но затем — по состоянию здоровья — стал приезжать
все реже. Польские коллеги, учитывая заслуги Бориса Федоровича,
поместили статью о нем в нашей энциклопедии. Помню, как в 1990 г.
Борис Федорович редактировал мою речь для церемонии присуждения звания почетного доктора. Спустя два года мне тоже довелось
редактировать выступление Виктора Александровича в Институте
литературных исследований. Его польский и мой русский были признаны отличными.
Словно бы на смену Борису Федоровичу к нам все чаще стал приезжать Виктор Александрович, особенно после защиты докторской
диссертации, получения звания профессора и поста замдиректора Института славяноведения. Он показал себя неутомимым организатором
научной жизни, был одной из важнейших фигур в дирекции Института, активно развивал сотрудничество с Институтом литературных
исследований ПАН и главными польскими центрами полонистики
и русистики (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав, Торунь). Старался
продолжать и свои индивидуальные исследования. Последние тридцать лет жизни Виктора Александровича были удивительно яркими:
�580 Антоний Семчук
они продемонстрировали исследовательский талант ученого, работоспособность, широкие научные горизонты, последовательность, организационные способности.
Научные выступления профессора Хорева, четко выстроенные и
убедительные, всегда приковывали внимание аудитории. Помню, что
после одного из последних блестящих докладов в Варшавском университете — Виктор Александрович говорил тогда о русско-польских
отношениях в имагологической перспективе — во время дисскусии
было высказано пожелание, чтобы таким языком — рациональным и
толерантным — научились разговаривать политики. Следует сказать,
что этот академический ученый обладал подлинным дидактическим
талантом, который проявлял и в Варшаве: мои студенты слушали его
всегда внимательно и по окончании лекции долго аплодировали.
Но судьба оказалась к нам жестока. В мае 2012 г. ушел из жизни
мой третий московский друг.
Трудно привыкнуть к мысли, что профессор Виктор Александрович Хорев никогда больше не приедет к нам в Польшу. Еще труднее осознать, что Его нет в живых.
П ри м е ч а н и я
1
2
3
4
5
6
Будагова Л. Н. К юбилею профессора В. А. Хорева // Studia Polonica. К
70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002. С. 6.
Хорев В. А. Польская литература XX века. 1890–1990. М., 2009. С. 121.
Semczuk А. Jubileusz Wiktora A. Choriewa // Przegląd Humanistyczny.
2005. № 4. S. 99–101.
Victor Chorev — Amicus Poloniae. К 80-летию Виктора Александровича
Хорева. М., 2012.
Там же. С. 3.
Хорев В. А. Имагология и изучение русско-польских литературных связей // Поляки и русские в глазах друг друга / Под ред. В. А. Хорева. М.,
2000. С. 28.
�Александр Гугнин
Кон ец X X в ек а
Виктору Хореву, хотя и не
ровеснику века,
но все же много за свой век
овидавшему…1*
1
Скончался век. Обыденно и скучно,
Без торжества нас усадил за стол,
И мы обозреваем равнодушно,
Чего хотел он и куда он шел.
Ему Прекрасной Дамы так хотелось,
Но кончил с проституткой в кабаке,
И, проявив отчаянную смелость,
Он сбросил все, помчавшись налегке.
Смеясь и даже трупы не считая, —
За ложными кумирами вослед.
Все сгинуло. Воронья скрылась стая.
Но Истины и не было и нет.
Зато какое пиршество поэтов! —
Иль канет в лету с белых яблонь дым?
Нет, пусть останется хотя бы это,
Хотя бы это вечно молодым!
1 Я подарил этот неожиданно сочинившийся опус Виктору Александровичу
почти сразу же после его написания, и стихи ему понравились, хотя он и высказал недоумение: почему именно эти стихи я решил посвятить именно ему. Я
этого и сам до сих пор не знаю. Знаю лишь одно: любовь, поэзия и интуиция не
очень нуждаются в рационализации. Но то, что Витя родился в Вологде, а вся моя
многочисленная крестьянская родня с материнской стороны (с символической
фамилией Горюновы) до сих пор обитает на севере граничащей с Вологодской
Тверской (Калининской) области, где я в деревне Матвеевское прожил почти всю
войну и где впоследствии не раз бывал и даже купил там дом и несколько лет
пытался вернуться к истокам, вызывало во мне особый интерес к Виктору Александровичу как к почти соседу и почти земляку.
�582
На щеках впалых нет давно улыбки,
Но все ж докурим трубку до конца.
Чтоб в марсианские не впасть ошибки,
Мы ждем вестей от Нового гонца.
Мы вести ждем от нового Мессии —
Что скажет нам грядущий Водолей?
В стихии под названием Россия
Толпа созрела для благих вестей…
2
Когда-то мальчишкой в деревне,
В тверских или псковских полях, —
Я жил как счастливый наследник
Всего, чем богата земля:
Ручьями, звенящими звонко,
Прозрачной водой ключевой,
Цветами на яблоне тонкой
И небом над головой.
Я плавал вдвоем с Одиссеем
И бедных троянцев жалел,
Но все ж вероломных ахеян
Остановить не успел.
Потом было много на свете
Родного чужого вранья.
Я с Гамлетом ездил в карете,
Но предал Офелию я.
Потом было много Офелий,
Но я Дульсинею искал
И, клячу свою не жалея,
Все мельницы переломал.
Потом перепутал чего-то
И стал Дон Жуана смелей,
Узнав, что такое свобода
Из горбачевских речей.
�583
И вот, поседев вместе с веком,
Вобрав в себя всю его муть,
Стать захотел человеком —
Так захотел, что аж жуть!..
3
Как припомню образ смутный
В алом венчике из роз,
Сразу станет неуютно
И душа идёт вразнос.
Целых два тысячелетья
Кровь лилась из-за него…
Но и лучшего на свете
Не придумать ничего…
4
Гуляй, Ванюша, такое дело, —
Душа гуляет, заносит тело…
Таким и был двадцатый век —
Куда его не заносило!
Но суетится человек
От колыбели до могилы.
И все не хочет умирать,
Лекарства впитывая в тело,
Хоть самому на все на…
Но даже это надоело.
5
Лучше гор могут быть только горы
Ну а люди — лучше людей?..
Проносится поезд скорый
Мимо псковско-смоленских полей.
Если спросит меня рать святая —
Ничего я в ответ не скажу:
Мне ни Раю не надо, ни рая —
Ни на дух не переношу!
�584
Что ж, опять по новому кругу:
Кабак, аптека, фонарь…
Эй, сисястая, дай свою руку,
Но лучше ничего не давай!
6
В одинокой хижине души
Соберу я всех своих невест,
Соберу я всех своих друзей,
Соберу я всех своих подруг,
Всех детей и внуков соберу, —
Расцелую всех и обниму:
Милые, я так вас всех люблю!
В одинокой хижине души
Всех людей хороших соберу,
Всех людей достойных соберу,
Даже с гор спуститься позову,
Чтобы в хижину пришли мою —
Всем вина искристого налью,
Расцелую всех и обниму:
Милые, я так вас всех люблю!
Юру Кузнецова позову,
И Рубцова Колю позову,
И Вийона тоже позову,
Всех с ума сошедших позову, —
В одинокой хижине души
Хватит места всем моим гостям…
Но пускай блаженный Дон Кихот
Гонит прочь иных, ненужных нам…
13–14 января 2000 г., ночь, Новополоцк.
�Юрий Гусев
В. А . Хор еву
(Написано в 1999 г., в бытность В. А.
замдиректора Института)
Как ни спросишь Нонну Константинну1 —
Всё-то Виктор Александрыч заседает…
Витя, брось бодягу и рутину:
Нам здесь тамады до боли не хватает!
Кома н д ор
(Написано то ли вскоре после, то ли
незадолгодо присвоения В. А. Хореву
польского ордена Командора)
Чу, Командора слышатся шаги.
Трепещет и бледнеет дона Анна2.
Она сегодня, встав не с той ноги,
Успела отоварить два стакана.
Он входит, строг, но чаще — справедлив.
Он знает: этот мир уж так устроен.
А мы, еще один стакан налив,
Приветствуем его, конечно, стоя3.
В нём столько молодости нерастраченной!
В разведку, в спецсовет — куда угодно с ним!
Ведь если мы — тулупчик, молью траченный,
То Хорев — гвоздик, на котором мы висим.
Он нас ведет к верщинам неизведанным.
Он — регент. Мы — послушный хор его.
Мы смотрим на него без лести преданно…
О, Командор! О, Виктор Хорев! О!
1 Незабвенной памяти секретарь дирекции Института.
2 Вымышленный образ. Типический характер в типических обстоятельствах.
3 Ср.: «И все биндюжники вставали, когда в пивную он входил» (одесская народная песня).
�Светлана Фалькович
На 7 0 - л е ти е В. А . Хорев а
Есть в романе Федина
Витенька — протоплейбой,
Гонял он на велосипеде,
Девиц пленяя собой.
Богатым сынком и спортсменом
Слыл он между людьми,
Друзья кричали вдогонку:
«Жми, Витюша! Жми!»
С этой противной фигурой
У Хорева сходства нет,
Разве что в детстве освоен
Был им велосипед.
Роднит их имя и слава,
Ведь Хорев известен в СМИ,
И то, что мы можем по праву
Крикнуть: «Витюша, жми!»
На 7 5 - л е ти е В. А . Хорев а
Люблю я Хорева, но странною любовью,
Не победит ее рассудок мой,
Меня не трогает, что слава и злословье
Кричат о нем — он не один такой.
Но я люблю, за что, сама не знаю,
С ним говорить, труды его читать
И весь Звенигород от края и до края
С ним вместе шаг за шагом прочесать.
Проселочным путем люблю идти с ним рядом
И взором медленным отслеживать грибы
Иль любоваться парком, барским садом,
Церковным куполом, резным коньком избы.
Мне нравятся им сделанные фото,
На них себя вновь вижу молодой
И вспоминаю «тихую охоту»,
Лесной малины вкус, луч солнца над водой…
Люблю научные собранья,
Что часто созывает он,
И форму их люблю, и содержанье,
�587
На них царящий дух и тон.
Люблю внимать прекрасной польской речи,
Которою владеет он, как бог,
Как подлинный знаток чужих наречий,
Поистине, от Бога филолóг!
Я вижу, как над шахматной доскою
Склонился Хорев с Ритчиком в борьбе,
И образ битвы сказочных героев
С тех пор так явственно рисую я себе.
Люблю дымок от сигареты,
Крахмальной бабочки полет,
Люблю за то, люблю за это —
За что, сам черт не разберет!
А в праздник с юбилейной датой
Могу смотреть до петухов,
Как веселится он поддатый
В кругу подружек и дружков.
Н а 8 0 - л е ти е В . А . Хорев а
Виктор! Известно давно
Это победное имя,
Но говорит оно нам
Больше латыни сухой.
Нежно и верно любим
Витя друзьями своими
Просто за то, что один
Он в целом мире такой.
Пусть же он будет и впредь
Радовать нас бесконечно,
Греть нас сердечным теплом,
Радость общенья дарить.
Niech żyje nam!
Niech żyje вечно!
Словно наглядный пример,
Как человек должен жить!
�Би б л иог рафи я т рудов
Ви к тора А л е кса н д р ови ч а Хоре ва
Монографии
1. О литературе Народной Польши. М.: Знание, 1961.
2. Владислав Броневский. М.: Высшая школа, 1965.
3. Становление социалистической литературы в Польше. М.: Наука, 1979.
4. Польша и поляки глазами русских литераторов. М.: Индрик, 2005.
5. Польская литература ХХ века. 1890–1990. М.: Индрик, 2009.
6. Восприятие России и русской литературы польскими писателями.
Очерки. М.: Индрик, 2012.
Статьи, обзоры, рецензии, комментарии
1956
Баллады А. Мицкевича в переводе А. С. Пушкина // Литература славянских народов. Вып. 1. М.
Научные сессии, посвященные 100-летию со дня смерти А. Мицкевича // Известия АН СССР. Серия «Литература и язык». М.
1957
Przyjaciel narodu radzieckiego // Kraj Rad. № 3. Warszawa.
1958
Значение классического наследия для развития литературы социалистического реализма // IV Международный съезд славистов (в Москве). Ответы на вопросы по литературоведению. М.
Новый литературный журнал Польши // Вопросы литературы. № 2.
Мария Конопницкая // Основные произведения художественной литературы. ВГБИЛ. М.
1959
Творчество Люциана Шенвальда в 20–30-е годы // Литература славянских народов. Вып. 4. М.
�Библиография трудов Виктора Александровича Хорева 589
Теодор Томаш Еж // Еж Т. Т. На рассвете. М.
1961
Комментарии // Броневский Вл. Избранное. М.
О книге В. Оболевича. История польской литературы // Литература
славянских народов. Вып. 6 / Соавт.: В.В. Витт, Б.Ф. Стахеев и др.
В. Жукровский. Крещенные огнем // Современная художественная литература за рубежом. № 2. М. [Рец.]
Ю. Озга-Михальский. Обратная сторона луны // Там же. № 3. М. [Рец.]
1962
Возвращение поэта // Вопросы литературы. № 8.
Л. Кшемень. Капля в потоке // Современная художественная литература за рубежом. № 2. М. [Рец.]
Б. Верник. Их первая любовь // Там же. № 6. [Рец.]
В. Броневский. Стихи и поэмы // Там же. № 7. [Рец.]
К. Выка. Кшиштоф Бачиньский // Там же. № 4–5. [Рец.]
Писатели и читатели // Там же. № 9–10. [Рец.]
Е. Анджеевский // Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. М.,
1962–1978. Т. 1. М.
Т. Боровский // Там же.
К. Брандыс // Там же.
С. Выгодский // Там же.
1963
В. Броневский и советская культура // Литература славянских народов. Вып. 8. М.
Польская пролетарская поэзия 20-х годов // Формирование и развитие
социалистического реализма в литературах западных и южных
славян. М.
О социалистических идеалах воспитания в Польше // Иностранная
литература. № 9.
Majakowski w Polsce // Kraj Rad. Nr. 29. Warszawa.
Caіym sercem z Polsk№ // Ibid. Nr. 37. Warszawa.
Lew Toіstoj w Polsce // Ibid. Nr. 44. Warszawa.
Literatura polska w ZSRR // Wspуіczesnoњж. Nr. 21. Warszawa.
Письма Ю. Тувима // Славянская филология. Вып. 4. МГУ. Публикация. Соавт.: И. Колташева.
Голуй Т. Один оттуда // Современная художественная литература за
рубежом. № 1. М. [Рец.]
И. Фик. Избранные критические работы // Там же. № 4. [Рец.]
�590
Библиография трудов Виктора Александровича Хорева
Леон Кручковский. Материалы // Там же. № 6. [Рец.]
1964
Польская революционная поэзия 30-х годов // Развитие зарубежных
славянских литератур в ХХ веке. М.
О литературной программе Игнация Фика // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. Вып. 42. М.
К. И. Галчиньский // Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. М.
Т. Голуй // Там же.
С. Р. Добровольский // Там же.
С. Дыгат // Там же.
Т. Т. Еж // Там же.
Польская пролетарская поэзия 20–30-х гг. ХХ века: автореф. дисс. …
канд. филол. наук. М.
Г. Тимофеев. Трудная свобода // Современная художественная литература за рубежом. № 6. М. [Рец.]
Ю. Ленарт. За идейные ценности в литературе // Там же. [Рец.]
1965
О творчестве К. Брандыса // Советское славяноведение. № 6.
Броневская Я. Десять червонных сердец // Современная художественная литература за рубежом. № 1. М. [Рец.]
Зёмек Е. Казимеж Брандыс // Там же. № 4. [Рец.]
1966
Вопросы, которые нас волнуют // Вопросы литературы. № 4.
Я. Ивашкевич // Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. М.
К. Ижиковский // Там же.
К. Иллакович // Там же.
Я. Каспрович // Там же.
В. Ковальский // Там же.
М. Конопницкая // Там же.
Т. Конвицкий // Там же.
1967
Наследие В. Броневского // Вопросы литературы. № 5.
Из истории польской марксистской критики // Там же. № 9.
Литература Народной Польши // История Народной Польши / Соавт.:
В. В. Витт, Б. Ф. Стахеев. М.
Комментарии // Жеромский С. Избранные сочинения. Т. 1. М.
Я. Леманьский // Краткая литературная энциклопедия. Т. 4. М.
�Библиография трудов Виктора Александровича Хорева 591
Б. Лесьмян // Там же.
Я. Лехонь // Там же.
А. Лям // Там же.
Г. Морцинек // Там же.
С. Мрожек // Там же.
Г. Маркевич // Там же.
Жабицкий Зб. «Кузница» и ее литературная программа // Современная
художественная литература за рубежом. № 5. М. [Рец.]
Ендриховская А. Зигзагом и прямо // Там же. № 7–8. [Рец.]
Урбаньская Я. Русский советский роман в Польше 1918–1932 // Там
же. [Рец.]
Владислав Броневский. Материалы / Сост. Ф. Лиходзеевская // Там же.
№ 2. [Рец.]
1968
Комментарии // Броневский Вл. Стихи. М.
Глазами друзей // Вопросы литературы. № 2.
Польская литература 1890–1967 // Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. М.
З. Налковская // Там же.
В. Оркан // Там же.
М. Павликовская // Там же.
Я. Броневская. Май и ноябрь // Современная художественная литература за рубежом. № 2. [Рец.]
Ю. Хен. Театр Ирода // Там же. № 2. [Рец.]
В. Кубацкий. Грустная Венеция // Там же. № 6. [Рец.]
1969
Польская литература 1918–1944 гг. // История польской литературы. В
2-х тт. М., 1968–1969. Т. 2. М.
К. И. Галчиньский // Там же.
Польская литература 1918–1944 гг. // История зарубежных литератур
ХХ века. МГУ. М.
Из истории польской марксистской критики // Революционная литература Польши 20–30-х гг. М.
[То же на казахском языке. Алма-ата, 1975.]
Теодор Томаш Еж // Еж Т. Т. На рассвете. М.
Брыль Э. Ноябрьское дело // Современная художественная литература
за рубежом. № 2. [Рец.]
Буковская А. Перемены времени // Там же. № 4. [Рец.]
Садковский В. Исследования и комментарии // Там же. [Рец.]
�592
Библиография трудов Виктора Александровича Хорева
Literatura Polski Ludowej po roku 1956 // Czerwony sztandar. Nr. 217, 223.
Warszawa.
W dniach klкski // Literatura radziecka. Nr. 8. Warszawa.
1970
Polska literatura rewolucyjna // Literatura radziecka. Nr. 9. Warszawa.
Dramaty L. Кruczkowskiego // Czerwony sztandar. Nr. 174. Warszawa.
Урбаньская Я. Русский советский роман в Польше // Советское славяноведение. № 5. [Рец.]
Стемпень М. Вопросы литературы в польской печати на территории
СССР (1918–1939) // Современная художественная литература за
рубежом. № 1. [Рец.]
Урбаньская Я. Русский советский роман в Польше 1932–1939 гг. // Там
же. № 1. [Рец.]
Сероцкая К. Советская Полония (1917–1939) // Там же. № 1. [Рец.]
Путрамент Е. Болдын // Там же. № 2. [Рец.]
Ястшембский З. Литература военного поколения // Там же. [Рец.]
Литература на перепутье. А. Дравич. К. И. Галчиньский. А. Стерн.
Бруно Ясенский // Там же. № 3–6. [Рец.]
1971
К спорам о социалистическом реализме // Советское славяноведение.
№ 6 / Соавт.: С. А. Шерлаимова.
Станислав Дыгат. [Вступительная статья] // Дыгат Ст. Проза. М.
Ю. Пшибось // Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. М.
Е. Путрамент // Там же.
А. Рудницкий // Там же.
Л. Рудницкий // Там же.
Т. Ружевич // Там же.
А. Слонимский // Там же.
Т. Риттнер // Там же.
Dwie prace o Polonii Radzieckiej // Literatura radziecka. Nr. 1. Warszawa.
Szkic do portretu // Ibid. Nr. 6.
Powieњж o frontowym braterstwu // Ibid. Nr. 8.
Polska literatura w ZSRR // Przyjaџс. 5.XII.1971. Warszawa.
Х. Карвацкая. В. Вандурский // Современная художественная литература за рубежом. № 1. [Рец.]
В. Мах — писатель и человек // Там же. № 3. [Рец.]
Брошкевич Е. Долго и счастливо // Там же. [Рец.]
Путрамент Е. Полвека. Т. 4 // Там же. № 4. [Рец.]
Домбровская М. Приключения мыслящего человека // Там же. № 5. [Рец.]
�Библиография трудов Виктора Александровича Хорева 593
Налковская З. Дневник периода войны // Там же. [Рец.]
Мачёнг В. Дело литературы // Там же. [Рец.]
Фарон Б. Збигнев Униловский // Там же. № 6. [Рец.]
Лям А. Критический дневник // Там же. [Рец.]
1972
Польская марксистская литературная критика (20–30-е годы) // Формирование марксистской литературной критики в зарубежных
славянских странах. М.
Микророманы К. Филиповича // Филиппович К. Микророманы. М.
Б. Фарон об Униловском // Советское славяноведение. № 3.
Владислав Броневски — поет на социалистическия реализъм //
Пламък. № 24. София.
Л. Стафф // Краткая литературная энциклопедия. Т. 7.
С. Р. Станде // Там же.
А. Ставар // Там же.
А. Струг // Там же.
Ю. Тувим // Там же.
З. Униловский // Там же.
Ю. Тувим // Детская энциклопедия. М.
В. Броневский // Там же. М.
Брошкевич Е. Не прелюбодействуй, не кради // Современная художественная литература за рубежом. № 4. М. [Рец.]
Кручковский Л. Литература и политика. Т. 1–2 // Там же. № 4. [Рец.]
Коссак Е. Ленин и культура // Там же. № 4. [Рец.]
Оконьская А. С. Выспяньский // Там же. № 6. [Рец.]
1973
К вопросу о сравнительно-типологическом изучении социалистических литератур // Сравнительное изучение славянских литератур. М.
Комментарии // Ивашкевич Я. Избранное. М.
По обе стороны границы // Литературоведение. Реф. журнал ИНИОН
АН СССР.
Кручковский Л. Литература и политика // Советское славяноведение.
№ 4. [Рец.]
Буйницкий Т. В. Броневский // Там же. № 6. [Рец.]
1974
Современная польская повесть. [Предисловие]. Комментарии // Современные польские повести. М.
�594
Библиография трудов Виктора Александровича Хорева
Польский рассказ за 30 лет [Составление]. Комментарии // Польский
рассказ. М.
Польские рассказы // Иностранная литература. № 7.
Поиски и перспективы. Заметки о польском романе последних лет //
Там же.
[То же в переводе на нем. яз. — Kunst und Literatur. Nr. 10. Berlin.]
Леон Кручковский // Кручковский Л. Драмы. Статьи. М.
Издано на русском // Литературная газета. № 30. М.
Чешская поэзия ХХ в. (о книге С. А. Шерлаимовой) // Вопросы литературы. № 11. [Рец.]
Ковалец Ю. Серый ореол // Современная художественная литература
за рубежом. № 3. [Рец.]
Дыгат С. Вокзал в Мюнхене // Там же. № 3. [Рец.]
Чешская поэзия ХХ в. (реферат) // Реф. журнал ИНИОН АН СССР. № 3.
Проблемы социологии литературы // Там же.
1975
Становление социалистической литературы в Польше // Вопросы литературы. № 12.
О польском романе последних лет // Современная литература за рубежом. М.
Накануне освобождения // Иностранная литература. № 6.
В. Яжджинский // Яжджинский В. В последний час. М.
Письма В. Воровского П. Эттингеру // Актуальные вопросы истории
марксистской литературы. Кишинев.
З. Херберт // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. М.
В. Шимборская // Там же.
Б. Червеньский // Там же.
Ю. Чехович // Там же.
Б. Чешко // Там же.
Э. Шиманьский // Там же.
Общие тенденции развития антифашистской литературы (Болгария,
Польша, Чехословакия, Югославия) // Советское славяноведение.
№ 3 / Совм.: Ю. В. Богданов, Г. Я. Ильина.
[То же на нем. яз. — Verteidigung der Menschenheit. Berlin.]
Literarisches Erbe in der sozialistischen Literaturentwicklung // Funktion
der Literatur. Berlin.
A. Јunaczarski a literatura polska // Literatura Radziecka. Nr. 11.
Wіadysіaw Broniewski // Literatura dla klasy X. Lwуw.
Uloha revolucnych tradycii socialistickoj literatury // Slovenska literatura.
Nr. 5. Bratislava.
�Библиография трудов Виктора Александровича Хорева 595
Я. М. Гизгес. Пронзи тень // Современная художественная литература
за рубежом. № 5. [Рец.]
1976
Заметки о польском романе начала 70-х гг. // Новые явления в литературе европейских социалистических стран. Художественная проза
70-х годов. М.
Wі. Broniewski i kultura radziecka // Wіadysіaw Broniewski w poezji polskiej. Warszawa.
Леон Кручковский // Писатели Народной Польши. М.
Владислав Броневский // Там же.
К. И. Галчиньский // Там же.
Станислав Дыгат // Там же.
Микророманы Корнелия Филиповича // Там же.
Зерна и плевелы культуры // Иностранная литература. № 1.
Дом, построенный нашими руками // Современная художественная
литература за рубежом. № 1. М. [Рец.]
М. Стемпень. Польская литература после 1939 г. // Там же. № 4. [Рец.]
St. Digats // Digats St. Atvades. Riga.
1977
Октябрьская революция и становление социалистического реализма в польской литературе 20-х гг. // Советское славяноведение.
№ 5.
Литература реального гуманизма // Вопросы литературы. № 10 / Соавт.: Ю. В. Богданов, С. А. Шерлаимова.
[То же на нем. яз. — Кunst und Literatur. 1978. Nr. 4. Berlin.]
[То же на чеш. яз. — Иeskб literatura. 1978. Nr. 5. Praha.]
Советско-польский симпозиум // Вопросы литературы. № 5.
Новые книги А. Брауна // Иностранная литература. № 8.
Pierwiastki narodowe i internacjonalistyczne w literatury // Przegl№d humanistyczny. Nr. 11.Warszawa.
Рowinowactwa i zauroczenia // Literatura. Nr. 39.
Роговский В. Авария // Современная художественная литература за
рубежом. № 4. М. [Рец.]
Билиньский В. Катастрофа // Там же. № 4. [Рец.]
Навроцкий В. Класс, идеология, литература // Там же. № 5. [Рец.]
Этапы развития литературы Народной Польши (обзор) // Литерату
роведение зарубежных социалистических стран. Реф. журнал
ИНИОН АН СССР.
�596
Библиография трудов Виктора Александровича Хорева
1978
Роль традиций революционной литературы в современном литературном развитии европейских социалистических стран //
Литературная критика европейских социалистических стран.
М.
О современной польской литературной критике // Поиски и перспективы. Литературно-художественная критика в ПНР. М.
Комментарии [и составление] // Там же.
Literatura polska // Tradycje i wspуіczesnoњж. Wrocіaw.
O powieњci A. Brauna // Literatura Radziecka. Nr. 1. Moskwa.
Literatura realnego humanismu // Иeskб literatura. № 5. Praha / Соавт.:
С. А. Шерлаимова, Ю. В. Богданов.
Соотношение национального и интернационального и этапы развития социалистической литературы в Польше // Актуальные проблемы сравнительного изучения литератур социалистических
стран. М.
Опыт антифашистского сопротивления и развитие южно- и западнославянских литератур // VIII Международный съезд славистов
(в Загребе). Доклады советской делегации / Соавт.: Ю. В. Богданов,
Г. Я. Ильина. М.
В. Мах. В. Мысливский. Е. Вавжак. [Вступительная статья] // Польские повести. М.
Я. Бохеньский // Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. М.
Р. Братный // Там же.
Э. Брыль // Там же.
Ю. Ковалец // Там же.
К. Филиппович // Там же.
Б. Ф. Стахеев // Там же / Соавт.: С. А. Шерлаимова, Ю. В. Богданов.
Я. Тарчалович. Л. Шенвальд // Современная художественная литература за рубежом. № 1. [Рец.]
1979
Становление социалистической литературы в Польше: автореф. дисс.
… докт. филол. наук. М.
Польская повесть в 70-е годы // Современная польская повесть. М.
Наш современник // Иностранная литература. № 1.
Не сторониться мира // Там же. № 3.
Общее и особенное // Литературная газета. № 2. 10.I.1979.
О социалистическом реализме // Там же.
Теплиц Е. Массовая культура и современный человек // Современная
художественная литература за рубежом. № 5. М. [Рец.]
�Библиография трудов Виктора Александровича Хорева 597
1980
Полноводность потока. (Социалистический реализм и художественная практика) // Литературная газета. № 7. 13.II.1980.
Ленин и начало формирования социалистической литературы в Польше // Вопросы литературы. № 4.
О поэзии Т. Ружевича // Ружевич Т. Стихи. М.
Польский рассказ в 70-е годы // Сон-трава. М.
Элевтер. Письма к Фелиции // Современная художественная литература за рубежом. № 2. М. [Рец.]
1981
Некоторые аспекты современной деревенской прозы // Современная
литература Чехословакии в контексте литератур европейских социалистических стран. М.
Взглянуть в лицо времени (70-е годы в литературе европейских социалистических стран) // Иностранная литература. № 2.
1982
Духовный мир современника // Дружба народов. № 3 / Соавт.:
Ю. В. Богданов, С. А. Шерлаимова.
Нравственно-философские и экологические проблемы современной
деревенской прозы. (Тезисы) // Славянские культуры и мировой
культурный процесс. Минск.
Некоторые методологические проблемы изучения современных славянских литератур. (Тезисы) // Узловые вопросы славяноведения. Ужгород.
1983
Традиции романа-эпопеи в современных литературах западных и
южных славян // Х Международный съезд славистов (в Софии).
Славянские литературы. Доклады советской делегации / Соавт.:
Г. Я. Ильина, С. А. Шерлаимова. М.
Поэтический мир Я. Каспровича // Каспрович Я. Поэзия. М.
О современном польском детективном романе // Современный польский детектив. М.
Движение жизни — движение литературы // Литературная газета. №
26. 29.VI.1983.
Творческий диалог // Вопросы литературы. № 8 / Соавт.: В. В. Витт.
Дмитрий Федорович Марков (К 70-летию со дня рождения) // Известия АН СССР. Серия «Литература и язык». Вып. 5.
Марксизм, культура, литература // Современная художественная литература за рубежом. № 4. М. [Рец.]
�598
Библиография трудов Виктора Александровича Хорева
Poezja walki i nadziei // Czerwony sztandar. 22.VI.1983. Warszawa.
Majakowski i Broniewski // Ibid.
1984
Маяковский и Броневский // В мире Маяковского. Т. 2. М.
От абстрактного гуманизма к социалистическому // Советское славяноведение. № 4.
Юлиан Ковалец [Вступительная статья] // Ковалец Ю.Свадебный
марш. М.
Znaczenie tradycji literatury socjalistycznej dla wspуіczesnego etapu jej rozwoju // Teoretyczne problemy budownictwa socjalistycznego. Wrocіaw.
1985
Ю. Ковалец и некоторые проблемы польской деревенской прозы //
Проблемы развития литератур европейских социалистических
стран после 1945 г. М.
Литература в период строительства развитого социалистического общества // Там же / Соавт.: Ю. В. Богданов, С. А. Шерлаимова.
[То же — Общественные науки. 1986. № 1.]
Современная документально-художественная литература о периоде войны (на материале польской и болгарской прозы) // Современная болгарская проза и литературы европейских социалистических стран. М.
Путь творческих исканий // Сравнительно-историческое изучение и
теоретические вопросы развития современных литератур. М.
Зеркало борьбы с фашизмом // Январское наступление. М.
Роман о польской судьбе // Иностранная литература. № 9.
Z historii polskiej krytyki marksistowskiej // Polonistyka radziecka.
Warszawa.
Ewolucja ideowo-artystyczna w literaturze polskiej // Ibid.
1986
Проблема традиции в истории литературы европейских социалистических стран после 1945 г. // Современные литературы европейских
социалистических стран 1945–1980. Историография, периодизация, методология исследования. М.
Значение традиций социалистической литературы на современном
этапе ее развития // Теоретические проблемы строительства социализма. М.
Теоретические проблемы социалистического реализма // Критика немарксистских концепций социализма. М.
О польской литературе 80-х гг. // Иностранная литература. № 2.
�Библиография трудов Виктора Александровича Хорева 599
Бреза Т. Стены Иерихона // Там же. № 4. [Рец.]
За общественно активную социалистическую литературу и критику //
Навроцкий В. Класс, идеология, литература. М.
О творчестве Б. Чешко // Чешко Б. Избранное. М.
Современные польские повести // Польские повести. М.
О поэзии В. Броневского // Броневский В. Стихи. М.
Броневский В. Дневник 1918–1922 // Современная художественная литература за рубежом. № 1. М. [Рец.]
Съвремената документално-художествена литература за военния период // Съвремената българска проза и европейските социалистически литератури. БАН. София.
Последняя книга Е. Эдигея // Эдигей Е. Идея в семь миллионов. М.
Теоретические проблемы социалистического реализма и критика их
буржуазных толкований // Krytyka niemarksistowskich koncepcji socjalizmu. Wrocіaw.
К вопросу о литературных влияниях и литературной типологии // Metodologiczne problemy historii badaс nad polsko-rosyjskimi zwi№zkami literackimi. Szczecin.
Julian Kawalec und einige Probleme der polnischen Dorfproza // Literaturim Wandel. Entwicklungen in europischen sozialistischen Lцndern
1944/45–1980. Berlin.
Literatur in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Einfьhrung //
Ibid / Соавт.: Ю. В. Богданов, С. И. Шерлаимова.
1987
По пути реализма // Выбор пути. Литература европейских социалистических стран в первые послевоенные годы. М.
Эссеистика Я. Ивашкевича // Ивашкевич Я. Статьи, эссе, портреты. М.
О романах Е. Эдигея // Эдигей Е. Внезапная смерть игрока. М.
Wіadysіaw Broniewski — poeta rewolucji // Literatura Radziecka. Nr. 7.
Польская литература [общая статья, заметки о польских писателях] //
Литературный энциклопедический словарь. М.
1988
Исследователь содружества братских литератур // Бялокозович Б. Родственность, преемственность, современность. М.
Класс, идеология, литература // Общественные науки. Реф. сборник
ИНИОН АН РАН. М.
Новые тенденции в польской прозе 80-х гг. // Литература европейских
социалистических стран в 70–80-е годы. (Материалы Международной конференции. Москва, 12–14 апреля 1988 г.) М.
�600
Библиография трудов Виктора Александровича Хорева
Комментарии // Братство по оружию. М.
1989
Октябрьская революция и развитие литературной мысли в Польше в
20–30-е годы // Октябрьская революция и новая концепция литературы. К истории марксистской литературной критики европейских
социалистических стран. М.
Гуманизм в литературе // Сравнительное литературоведение и русско-польские литературные связи в ХХ веке. М.
1990
Путешествия в Италию современных польских писателей // Италия и
славянский мир. Тезисы докладов. М.
Proza fikcji i proza faktu // Materiaіy konferencji. Tarnobrzeg.
1991
О польской эссеистике 50–60-х гг. ХХ века // Studia slavica. Языкознание. Литературоведение. История. История науки. К 80-летию
С. Я. Бернштейна. М.
Польский роман ХХ века и творчество З. Налковской // Зофье Налковской посвящается… Минск.
1993
Die Rolle des Kulturklischees in der Geschichte // Polen und Deutschland.
Dьsseldorf.
«Бунт масс» в «Сапожниках» С. И. Виткевича // Литературный авангард. Особенности развития. М.
1994
Под знаком гротеска (о творчестве С. Мрожека) // История культуры
и поэтика. М.
Польская литература 1890–1917 // История всемирной литературы. В 8
т. М., 1983–1994. Т. 8. Соавт.: В. В. Витт. М.
1995
Польская литература 1945–1970 // История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны. В 2-х т. М., 1995–2001. Т. 1. М.
Теория и практика социалистического реализма и польская литература // Знакомый незнакомец. Социалистический реализм как историко-культурная проблема. М.
Под знаком эссеизма (о современной польской прозе) // Славяноведение. № 5.
�Библиография трудов Виктора Александровича Хорева 601
Об истоках и развитии этнических стереотипов // Польская мова i лiтература у кантэксце славянскiх культур. Гродна.
Белорусские мотивы в творчестве Т. Конвицкого // Ўзаемодзянне лiтератур i моў (на прыкладзе беларускa-польска-рускiх сувязей).
Гродна.
1996
О стереотипе и убеждении в литературе // «Путь романтичный совершил…»: Памяти Б. Ф. Стахеева. М.
Изучение литератур стран Центральной и Юго-Восточной Европы //
Институт славяноведения и балканистики. 50 лет. М.
1997
Temat polski i jego interpretacja w rosyjskiej literaturze XX w. // Dzieje
najnowsze. Nr. 1. Warszawa.
«Если бы все были такими…». Польская тема в российской словесности ХХ в. // Вышгород. № 3. Таллинн.
1998
Стереотип поляка в русской литературе ХХ в. // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов. М.
Znowu o balladach Mickiewicza w tіumaczeniu Puszkina // Przegl№d Humanistyczny. Nr. 1. Warszawa.
Stereotypy etniczne a badanie polsko-rosyjskich zwi№zkуw literackich //
Ibid. Nr. 4.
Adam Mickiewicz w twуrczoњci W. Broniewskiego // Ibid. Nr. 5/6.
1999
Ян Каспрович в русской критике и переводах // Jan Kasprowicz. W
70-lecie њmierci. Olsztyn.
Вновь о балладах Мицкевича в переводах Пушкина // Славянский альманах. 1998. М.
Польское восстание 1830 г. и утверждение негативного стереотипа поляка в русской литературе // Речевые и ментальные стереотипы в
синхронии и диахронии. М.
2000
Достижения и потери польской прозы «второго круга обращения» //
Политика и поэтика. М.
Имагология и изучение русско-польских литературных связей // Поляки и русские в глазах друг друга. М.
�602
Библиография трудов Виктора Александровича Хорева
Роль польского восстания 1830 г. в утверждении негативного образа
Польши в русской литературе // Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М.
Польское восстание 1830 г. и развитие стереотипа восприятия Польши
в русской литературе // Polacy a Rosjanie. Warszawa.
Польша в русской поэзии после 1917 г. // Кто мы в современном
мире. М.
Пушкин и славянские литературы // Славянский альманах. 1999. М.
Вновь о балладах Мицкевича в переводах Пушкина // А. Пушкин и
мир славянской культуры. М.
[То же — Адам Мiцкевич i сусветная культура. Siedlce.]
[То же в сокращенном варианте — Остафьевский сборник. Вып. 6. М.]
А. Мицкевич в творчестве В. Броневского // Славянские народы: общность истории и культуры. М.
Памяти Зб. Яросинского // Славяноведение. № 3.
Поэзия А. Мицкевича. Составление, предисловие, комментарий // Мицкевич А. Избранная поэзия. Библиотека славянской литературы. М.
Ingerencja ZSRR w їycie kulturalne Polski (1944–1953) // Napis. Seria VI.
Warszawa.
Поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленррод» и Ф. Прешерна «Крещение у Савицы» // Пушкин / Прешерн. Тезисы докладов международной конференции. М.
2001
Польская литература // История литератур Восточной Европы после
Второй мировой войны. Т. 2. 1970–1980-е гг. М.
Polonistyka w Instytucie sіowianoznawstwa RAN // Polonistyka na њwiecie. Pierwszy kongres polonistyki zagranicznej. Warszawa.
«Краковский авангард» // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.
«Молодая Польша» // Там же.
«Скамандр» // Там же.
«Квадрига» // Там же.
«Чартак» // Там же.
Константы Ильдефонс Галчиньский и русская поэзия // Literatura rosyjska w kontekstach miкdzy kulturowych. Warszawa.
Поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленрод» и Ф. Прешерна «Крещение
при Савице» // F. Preљeren — A. S. Puskin (of 200-letnici njuneja rojstva). Ljubljana.
W. Broniewski i Rosja. Nieznanelisty i inne archiwalia // Przegl№d Humanistyczny / Соавт.: Т. Агапкина. Nr. 6. Warszawa.
�Библиография трудов Виктора Александровича Хорева 603
Pozytywizm warszawski w ocenie krytyki rosyjskiej XIX i pocz№tku
XX wieku // Pozytywizm. Jкzyki epoki. Warszawa.
Польско-белорусское пограничье в творчестве Тадеуша Конвицкого //
Acta Polono-Ruthenica. VI. Olsztyn.
Константы Ильдефонс Галчиньский и русская поэзия // Literatura rosyjska w kontekstach miкdzy kulturowych. Warszawa.
2002
О живучести стереотипов // Россия — Польша. Образы и стереотипы
в литературе и культуре. М.
Литература «человеческого документа». Польский опыт 1960–1990х гг. // Славяноведение. № 5.
Литература «человеческого документа». Польский опыт 1960–1990х гг. (Тезисы) // Славянские литературы в контексте истории мировой литературы. М.
Варшавский позитивизм в оценке русской критики ХIХ — начала
ХХ в. // Творчасць Элiзы Ажэшкi i беларуская культура. Гродна.
O wspуіpracy naukowej miкdzy Instytutem Sіowianoznawstwa RAN a
Instytutem Badaс Literackich PAN // Kwartalnik Polskiej Akademii
Nauk. Warszawa.
Романтические поэмы А. Мицкевича и Ф. Прешерна // ХIII Международный съезд славистов. Литература, культура и фольклор славянских народов. М.
2003
Литература «человеческого документа». Польский опыт 1960–1990х гг.// Литературные итоги ХХ века. Центральная и Юго-Восточная Европа. М.
K. I. Gaіczyсski a poeci rosyjscy // Poezja. Nr. 29/30. Warszawa.
Генрик Сенкевич и его роман «Крестоносцы» // Сенкевич Г. Крестоносцы. М.
Восприятие польской культуры в России (1945–1990) // Dusza polska i
rosyjska. Spojrzenie wspуіczesne. Јуdћ.
Политика и поэтика. Восприятие польской культуры в России в период «оттепели» // Studia Rossica XIII. Warszawa.
Ingerencja ZSRR w їycie kulturalne Polski (1944–1953) // Polska w Rosji —
Rosja w Polsce. Dialog kultur. Poznaс.
Константы Ильдефонс Галчиньский и русские поэты // «Индрик»
10 лет. М.
Восприятие польской культуры в Советской России (1945–1990) // Новая Польша. № 7–8. Варшава.
�604
Библиография трудов Виктора Александровича Хорева
[То же — Шлях да узаемнасцi. Ч. 1. Гродна.]
К юбилею профессора Елены Захаровны Цыбенко // Славяноведение. № 2.
[То же — Studia polonorossica. К 80-летию Елены Захаровны Цыбенко. М.]
Русские критики ХIХ — начала ХХ в. о варшавском позитивиме //
Studia polonorossica. К 80-летию Елены Захаровны Цыбенко. М.
Rozwaїania nad sytuacj№ w humanistyce // Humanistyka przeszіoњci a
przyszіoњж humanistyki. Warszawа.
2004
Русский европеизм и Польша // Славяноведение. № 1.
Русский европеизм и Польша // Миф Европы в литературе и культуре
Польши и России. М.
Kanon powojennej literatury polskiej dla studentуw polonistyki w Rosji //
Wrocіawska dyskusja o jкzyku polskim jako obcym. Wrocіaw.
О каноне послевоенной польской литературы в России // Славянский
вестник. Вып. 2. М.
Stereotyp Polaka w literaturze rosyjskiej XX wieku // Scieїki filologii. Warszawa.
2005
Канон послевоенной польской прозы в России и творчество Зофьи
Налковской // Творчасць Зоф’і Налкоускай i славянскiя культуры.
Гродна.
Русская литература в книге Е. Анджеевского «Изо дня в день» //
Dzienniki pisarzy rosyjskich. Kontekst literacki i historyczny. Tezy referatуw. Warszawa.
Polska literatura XX wieku w oczach rosyjskiego polonisty // Warszawa —
Moskwa. 1900–2000. Warszawa.
[То же на рус. яз. — Польская литература ХХ века глазами русского
полониста // Москва — Варшава. 1900–2000. М.]
Имагологический аспект изучения литературных связей // Межрегиональная конференция славистов. М.
Культура стран Восточной Европы в ХХ веке // История человечества.
Научное и культурное развитие. Т. 7. Проект ЮНЕСКО. М. Совм.:
А. С. Стыкалин.
[То же на англ. яз. — History of Humanity. Vol. 7. The Twentieth Cеntury
UNESCO. Routledge, 2008.]
2006
Витольд Гомбрович и Славомир Мрожек // Творчество В. Гомбровича
и европейская культура. М.
�Библиография трудов Виктора Александровича Хорева 605
Тень войны в поэзии Тадеуша Ружевича // Славяноведение. 2006. № 3.
Анджеевский о русских писателях в книге «Изо дня в день» // Ego-dokument i literatura. Warszawa.
Powojenna literatura polska w oczach rosyjskiego polonisty // Literatura
polska w њwiecie. Katowice.
Польская проза в поисках правды о Второй мировой войне // Итоги
литературного развития в ХХ в. в проблемно-типологическом освещении. М.
Listy Bronisіawa Piіsudskiego do Nikoіaja Rubakina // Wrocіawskie studia
wschodnie / Соавт.: И. Е. Гитович.
«Польский вопрос» в России после восстания 1863 г. // Шлях да узаемносцi. Гродна.
Достоевский и польские писатели второй половины ХХ века // Przegl№d humanistyczny. Nr. 4. Warszawa.
К. И. Галчиньский и русская литература // Меценат и мир. № 29–32. М.
А. Мицкевич и польский стереотип отношения к России // «З краю навагрудскага». Малая айчына у жыццi i творчасцi Адама Мiцкeвiча.
Гродна.
Белорусские мотивы в творчестве Тадеуша Конвицкого // Белорусско-российский диалог. М.
Письма Б. Пилсудского А. Н. Рубакину // Известия Института наследия Б. Пилсудского. № 10. Южно-Сахалинск. Соавт.: И. Е. Гитович.
Polscy pisarze drugiej poіowy XX w. o F. Dostojewskim // Postscriptum.
№ 2.
2007
Война и мир в восприятии Т. Ружевича // Польская культура в зеркале
веков. М.
А. Мицкевич и польский канон восприятия России // Адам Мицкевич
и польский романтизм в русской культуре. М.
Некоторые вопросы современной польской истории // Славянский мир
в третьем тысячелетии. М.
С. И. Виткевич на русском языке // Иностранная литература. № 10.
Война в поэзии Т. Ружевича // Опыт истории — опыт литературы.
Вторая мировая война. М.
Ф. М. Достоевский в дневниках и письмах польских писателей (вторая
половина ХХ в.) // Dzienniki, notatniki i listy pisarzy rosyjskich. Tezy
referatуw. Warszawa.
Adam Mickiewicz i polski kanon postrzegania Rosji // Mickiewicz w
Gdaсsku. Rok 2005. Gdaсsk.
�606
Библиография трудов Виктора Александровича Хорева
2008
Достоевский в сознании польских писателей второй половины
ХХ века // Письменность, литература и фольклор славянских народов. ХIV Международный съезд славистов. Доклады российской
делегации. М.
Польская литература // История культур славянских народов. Т. 3. М.
Адам Мицкевич во Львове в 1939–1941 гг. // Мелодии, краски, запахи «малой родины» Адама Мицкевича. В. А. Хореву посвящается.
Гродно.
Польские писатели в украинском Львове (осень 1939 — лето 1941 года)
// Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы. Русские и украинцы во взаимном общении и восприятии. М.
«Дети» Б. Пруса и «Бесы» Ф. М. Достоевского // Творчество Болеслава
Пруса и его связи с русской культурой. М.
«Dzieci» B. Prusa i «Biesy» F. Dostojewskiego // Stosunki polsko-rosyjskie. Stereotypy, realia, nadzieje. Toruс.
Восточные «Кресы» в современной польской прозе // Столица и провинция в истории России и Польши. М.
Polsko-rosyjski projekt badawczy «Rosjanie i Polacy. Wzajemne widzenie
w literaturze i kulturze w europejskim kontekњcie» // IV Kongres polonistyki zagranicznej «Polonistyka bez granic». Tezа. Krakуw.
«Польша сказалась мне голосом поэзии»: В. Британишский. Поэзия и
Польша. Путешествие длиной полжизни // Вопросы литературы.
№ 9–10. [Рец.]
2009
Петербургский текст Я. Ивашкевича // Русская культура в польском
сознании. М.
Октябрьская революция в России и польская литература в 20-е годы
ХХ века // Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: новые источники, новые взгляды. М.
«Тарас Бульба» в Польше // Н. В. Гоголь и славянские литературы. Тезисы международной научной конференции 10–11 ноября 2009 г. М.
Воспоминания Владимира Британишского «Поэзия и Польша… Путешествие длиной полжизни» // Wspomnienia pisarzy rosyjskich. Rosja i kultura rosyjska we wspomnieniach pisarzy polskich. Tezy referatуw. Warszawa.
Peterburgski tekst Jarosіawa Iwaszkiewicza // Album Gdaсskie. Prace ofiarowane profesorowi Jуzefowi Bachуrzowi. Gdaсsk.
Достоевский в сознании польских писателей ХХ века // Россия и русская литература в современном духовном контексте стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М.
�Библиография трудов Виктора Александровича Хорева 607
2010
«Польша сказалась мне голосом поэзии». Воспоминания Владимира
Британишского «Поэзия и Польша. Путешествие длиной полжизни» // Studia Rossica XX. T. 2. Warszawa.
Польское литературоведение и критика начала ХХI века о литературе
ПНР (1945–1989) // Славяноведение. 2010. № 3.
Najnowsze rosyjskie studia nad polsk№ literatur№ XX wieku // Literatura
polska w њwiecie. T. 3. Katowice.
Вацлав Ледницкий об Адаме Мицкевиче // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура. Гродно.
Памяти Базылия Бялокозовича // Термапилы. № 14. Беласток.
Польское искусство и литература. От символизма к авангарду // Славяноведение. 2010. № 6. [Рец.]
2011
Имагологический аспект изучения культурных связей // Человек на
Балканах глазами русских наблюдателей. СПб.
Автопортрет Ежи Анджеевского в дневнике «Изо дня в день. Литературный дневник 1972–1979» // Текст славянской культуры. К юбилею Людмилы Александровны Софроновой. М.
«Тарас Бульба» в Польше // Славяноведение. № 4.
Вацлав Ледницкий о русской литературе // Польско-русские языковые, литературные и культурные контакты. М.
Сибирь в «Ангелли» Ю. Словацкого и в поэзии русских декабристов //
Юлиуш Словацкий и Россия. М.
2012
О мифологии восприятия Польши в России // Славянский мир в глазах России. Динамика восприятия и отражения в художественном
творчестве, документальной и научной литературе. М.
Б. Пастернак о Ф. Шопене // Отзвуки Шопена в русской культуре.
М.
«Тарас Бульба» в Польше // Н. В. Гоголь и славянские литературы. М.
Другой Броневский // Славяноведение. № 1.
С. И. Виткевич и русская революция // Лингвистика и методика в высшей школе. Гродно.
Sybir w «Anhelli» Slowackiego i u rossyjskich poetуw-dekabrystуw //
Geografia Sіowackiego. Warszawa.
Pamiкci Jeleny Zacharowny Cybienko // Postscriptum. Nr. 1 (9). Warszawa.
Adam Mickiewicz i polski kanon postrzegania Rosji // Magazyn Polski.
Nr. 11.
�608
Библиография трудов Виктора Александровича Хорева
2013
О России и русской литературе в польском сознании // Эліза Ажэшка
ў эстэтычнай прасторы славянскіх краін. Мінск.
Научное редактирование
Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. М., 1957.
Вып. 22.
Советское славяноведение. Литературоведение. Библиография 1956–
1957.
Литература славянских народов. Вып. 4. М., 1958. [Член редколлегии.]
Формирование социалистического реализма в литературах западных
и южных славян. М., 1963. [Член редколлегии.]
История польской литературы. Т. 1–2. М., 1968–1969. [Член редколлегии.]
Революционная литература Польши 20–30-х гг. ХХ в. М., 1969. [Член
редколлегии.]
Зарубежные литературы и современность. Вып. 1. М., 1970. [Член редколлегии.]
Формирование марксистской литературной критики в зарубежных
славянских странах. М., 1972. [Член редколлегии.]
Зарубежные литературы и современность. Вып. 2. М., 1973. [Член редколлегии.]
Современная литературная критика европейских социалистических
стран Вып. 1. М., 1975. [Член редколлегии.]
Писатели Народной Польши. М., 1976. [Член редколлегии.]
Новые явления в литературе европейских социалистических стран.
М., 1976. [Член редколлегии.]
Литература исторического оптимизма. М., 1977. [Член редколлегии.]
О партийности литературы. М., 1978. [Член редколлегии.]
Литературная критика современных социалистических стран. М.,
1978. [Член редколлегии.]
Современная литература Чехословакии в контексте литератур европейских социалистических стран. М., 1981. [Член редколлегии.]
Славяноведение и балканистика в зарубежных странах. М., 1983.
[Член редколлегии.]
Проблемы развития литератур европейских социалистических стран
после 1945 г. М., 1985. [Член редколлегии.]
Сравнительно-историческое изучение и теоретические вопросы развития современных литератур. М., 1985. [Член редколлегии.]
�Библиография трудов Виктора Александровича Хорева 609
Ильина Г. Я. Развитие югославского романа в 20–30-е гг. ХХ в. М.,
1985. [Отв. редактор.]
Современные литературы европейских социалистических стран
1945–1980 гг. М., 1986. [Член редколлегии.]
Навроцкий В. Класс, идеология, литература. М., 1986. [Отв. редактор.]
Literaturim Wandel: Entwicklungen in europischen sozialistischen Lцndern 1944/45–1980. Berlin, 1986. [Член редколлегии.]
Богомолова Н. А. Польские и русские поэты ХХ в. М., 1987. [Отв. редактор.]
Выбор пути. Литература европейских социалистических стран в первые послевоенные годы. М., 1987. [Отв. редактор.]
Польская художественная литература в семье славянских литератур.
М., 1987. [Член редколлегии.]
Бялокозович Б. Родственность, преемственность, современность. М.,
1988. [Отв. редактор.]
Сравнительное литературоведение и русско-польские литературные
связи в ХХ в. М., 1989. [Отв.редактор.]
Октябрьская революция и новая концепция литературы. М., 1989.
[Член редколлегии.]
Италия и славянский мир. М., 1990. [Член редколлегии.]
Studia slavica. Языкознание. Литературоведение. История. История
науки. К 80-летию С. Я. Бернштейна. М., 1991. [Член редколлегии.]
Специфика литературных отношений (Проблемы изучения общности
славянских литератур). М., 1994. [Член редколлегии.]
История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны.
Т. 1. М., 1995. [Отв. редактор.]
Узаемадзеянне лiтаратурi моў. Гродна, 1995. [Член редколлегии.]
Польская мова i лiтаратура у кантэксце славянскiх культур. Гродна,
1995. [Член редколлегии.]
«Путь романтичный совершил…» (Памяти Б. Ф. Стахеева). М., 1996.
Отв. редактор.
Славянский альманах. 1996. М., 1997. [Член редколлегии.]
Славянский альманах. 1997. М., 1998. [Член редколлегии.]
Славянский альманах. 1998. М., 1999. [Член редколлегии.]
Славянский альманах. 1999. М., 2000. [Член редколлегии.]
Adam Mickiewicz i kultura swiatowa. Kњ. 1. Warszawa, 1999. [Член
редколлегии.]
Adam Mickiewicz i kultura swiatowa. Kњ. 2. Gdaсsk. 1998. [Член редколлегии.]
Adam Mickiewicz i kultura swiatowa. Kњ. 3. Siedlce, 2000. [Член редколлегии.]
�610
Библиография трудов Виктора Александровича Хорева
Adam Mickiewicz i kultura swiatowa. Kњ. 4. Гродна, 1998. [Член редколлегии.]
Adam Mickiewicz i kultura swiatowa. Kњ. 5. Гродна, 1998. [Член редколлегии.]
Лабынцев Ю. А., Щавинская Л. Е. Белорусско-украинско-русская православная книжность межвоенной Польши. М., 1999. [Отв. редактор.]
Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000. [Отв. редактор.]
Славяно-германские исследования. Т. 1–2. М., 2000. [Член редколлегии.]
Адельгейм И. Е. Польская проза межвоенного двадцатилетия между
Западом и Россией. Феномен психологического языка. М., 2000.
[Отв. редактор.]
Институт славяноведения РАН. 1999. 2000. Справочник. М., 2001.
[Отв. редактор.]
История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны.
Т. 2. 1970–1980-е гг. М., 2001. [Отв. редактор.]
Институт славяноведения РАН. 2001. Справочник. М., 2002. [Отв. редактор.]
Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М.,
2002. [Отв. редактор.]
Словацкий Ю. Бенёвский. М., 2002. [Отв. редактор.]
Литературные итоги ХХ века. Центральная и Юго-Восточная Европа.
М., 2003. [Отв. редактор.]
Studia polonorossica. К 80-летию Елены Захаровны Цыбенко. М., 2003.
[Отв. редактор.]
Институт славяноведения РАН. 2002. М., 2003. [Отв. редактор.]
Труды Института славяноведения 1998–2003 гг. Библиографический
указатель. М., 2003. [Отв. редактор.]
Виноградов В. В. Язык и стиль русских писателей. М., 2003. [Член редколлегии.]
Тихомирова В. Я. Польская проза о Второй мировой войне в социокультурном контексте 1989–2000. М., 2004. [Отв. редактор.]
Миф Европы в литературе и культуре Польши и России. М., 2004.
[Член редколлегии.]
Институт славяноведения РАН. 2003. Планы 2004 года. М., 2004. [Отв.
редактор.]
Лазари де А. В кругу Ф. Достоевского. М., 2004. [Отв. редактор.]
Адельгейм И. Поэтика «промежутка»: молодая польская проза после
1989 г. М., 2005. [Отв. редактор.]
Институт славяноведения РАН. 2004. Планы 2005 г. М., 2005. [Отв.
редактор.]
�Библиография трудов Виктора Александровича Хорева 611
Творчество В. Гомбровича и европейская культура. М., 2006. [Отв. соредактор.]
Институт славяноведения РАН. 2005. М., 2006. [Отв. редактор.]
«З краю навагрудскага…» (Малая айчына у жыццi i творчасцi Адама
Мiцкевича). Гродна,
2006. [Член редколлегии.]
Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре. М., 2007.
[Отв. редактор.]
Творчество Болеслава Пруса, его связи с русской культурой. М., 2007.
[Отв. соредактор.]
Русская культура в польском сознании. М., 2009. [Отв. соредактор.]
Юлиуш Словацкий и Россия. М., 2011. [Отв. соредактор.]
Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты. М.,
2011. [Отв. соредактор.]
�С ве д е н и я об а в тора х
Адельгейм Ирина Евгеньевна — доктор филологических наук, Россия, Москва, Институт славяноведения РАН. adelgejm@yandex.ru
Ананьева Наталия Евгеньевна — доктор филологических наук, профессор, Россия, Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. ananeva.46@mail.ru
Андрейчук Вера Геннадьевна — аспирантка, Россия, Калининград,
Балтийский федеральный университет им. И. Канта. basia-06@
mail.ru
Базилевский Андрей Борисович — доктор филологических наук, Россия,
Москва, Институт мировой литературы РАН. wahazar@mail.ru
Баранов Андрей Иванович — Dr. hab., профессор, Литва, Вильнюс, Литовский педагогический университет. abandrebar66@gmail.com
Барановская Малгожата / Baranowska Małgorzata — Dr., Польша,
Варшава, Институт литературных исследований ПАН
Бахуж Юзеф / Bachórz Józef — Dr. hab., профессор, Польша, Гданьский университет. jozefbachorz@wp.pl
Будагова Людмила Норайровна — доктор филологических наук, Россия,
Москва, Институт славяноведения РАН. ludmila.budagova@gmail.com
Валенчук-Дейнека Беата / Walęciuk-Dejneka Beata — Dr., Польша, Седльце,
Университет естественных и гуманитарных наук. bdejneka@wp.pl
Вишневский Гжегож / Wiśniewski Grzegorz — Dr., Польша, Варшава,
Союз польских писателей. grz.wisniewski@gmail.com
Глушковский Петр / Gluszkowski Piotr — кандидат исторических наук,
Польша, Варшава, Центр польско-российского диалога и согласия. gluszkowski@cprdip.pl
Граля Иероним / Grala Hieronim — Dr., Польша, Варшава, Варшавский
университет. hieronimgrala57@gmail.com
Гугнин Александр Александрович — доктор филологических наук,
профессор, Беларусь, Полоцк, Полоцкий государственный университет
Гусев Юрий Павлович — доктор филологических наук, Россия, Москва,
Институт славяноведения РАН. gusev.yury@gmail.com
Ивинский Дмитрий Павлович — доктор филологических наук, профессор, Россия, Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. dmitrij_ivinskij@mail.ru
�Сведения об авторах 613
Илюшин Александр Анатольевич — доктор филологических наук,
профессор, Россия, Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Кабатц Эугениуш / Kabatc Eugeniusz — Польша, Варшава, Общество
европейской культуры / Société Européenne de Culture [SEC].
eugeniuszkabatc@gmail.com
Кайтох Войцех / Kajtoch Wojciech — Dr. hab., Польша, Краков, Ягеллонский университет. kajtochwojciech1@o2.pl
Клементьев Сергей Васильевич — доктор филологических наук, Россия,
Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. s.klementiev@mail.ru
Ковальчикова Алина / Kowalczykowa Alina — Dr. hab., профессор,
Польша, Варшава, Институт литературных исследований ПАН.
alinakow@aster.pl
Лабынцев Юрий Андреевич — доктор филологических наук, Россия,
Москва, Институт славяноведения РАН. slavia@hotbox.ru
Лескинен Мария Войттовна — доктор исторических наук, Россия,
Москва, Институт славяноведения РАН. marles70@mail.ru
Мальцев Леонид Алексеевич — доктор филологических наук, Россия,
Калининград, Балтийский федеральный университет им. И. Канта. lamaltsev23@mail.ru
Медведева-Нату Ольга Рахмиловна — кандидат филологических
наук, Канада, Ванкувер, независимый исследователь. khadimolga@yahoo.com
Мочалова Виктория Валентиновна — кандидат филологических
наук, Россия, Москва, Институт славяноведения РАН. vicmoc@
gmail.com
Мусиенко Светлана Филипповна — доктор филологических наук,
профессор, Беларусь, Гродно, Гродненский государственный
университет им. Янки Купалы. musijenko@list.ru
Николаева Татьяна Михайловна — доктор филологических наук, профессор, член-корр. РАН, Россия, Москва, Институт славяноведения РАН. tnikol33@mail.ru
Оцхели Вера Ивановна — доктор филологических наук, Грузия, Кутаиси, Кутаисский государственный университет. vera.ozheli@
yandex.com
�614 Сведения об авторах
Павляк Войцех / Pawlak Wojciech — Польша, Варшава, Национальная
Библиотека в Варшаве. grazyna.pawlak@ibl.waw.pl
Павляк Гражина / Pawlak Grażyna — Dr., Польша, Варшава, Институт
литературных исследований ПАН. grazyna.pawlak@ibl.waw.pl
Рогацкий Хенрик Исидор / Rogacki Henryk Izydor — Dr. hab., профессор, Польша, Варшава, Государственная театральная Академия
им. А. Зельверовича. henrykizydor@op.pl
Санаева Галина Николаевна — кандидат филологических наук, Канада, Ванкувер, независимый исследователь. galina.sanaeva@gmail.
com
Свирида Инесса Ильинична — доктор исторических наук, Россия, Москва, Институт славяноведения РАН. inessvir@yahoo.com
Семчук Антоний / Semczuk Antoni — Dr. hab., профессор, Польша, Варшава, Варшавский университет. ir@uw.edu.pl
Сливовская Виктория / Śliwowska Wiktoria — Dr. hab., профессор,
доктор honoris causa РАН, Польша, Варшава, Институт истории
ПАН. wiktoria.sliwowska@neostrada.pl
Собеская Анна / Sobieska Anna — Dr., Польша, Варшава, Институт литературных исследований ПАН. sobieska.a@gmail.com
Софронова Людмила Александровна — доктор филологических наук,
Россия, Москва, Институт славяноведения РАН
Старикова Надежда Николаевна — доктор филологических наук, Россия, Москва, Институт славяноведения РАН. nstarikova@mail.ru
Сухарский Тадеуш / Sucharski Tadeusz — Dr. hab., профессор, Польша,
Слупск, Поморская Академия. tsucharski@wp.pl
Тихомирова Виктория Яковлевна — доктор филологических наук,
Россия, Москва, Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова. wtichomirowa@mail.ru
Трошиньский Марек / Troszyński Marek — Dr., Польша, Варшава, Институт литературных исследований ПАН. mtroszynski@wp.pl
Туркевич Галина / Turkiewicz Halina — Dr., Литва, Вильнюс, Литовский
педагогический университет. halina.turkevic@leu.lt
Фалькович Светлана Михайловна — доктор исторических наук, Россия, Москва, Институт славяноведения РАН. ritlen@mail.ru
Филатова Наталья Маратовна — кандидат исторических наук,
Россия, Москва, Институт славяноведения РАН. natalifilatova@
yandex.ru
�Сведения об авторах 615
Флоря Борис Николаевич — доктор исторических наук, член-корр. РАН,
Россия, Москва, Институт славяноведения РАН. ritlen@mail.ru
Хорошкевич Анна Леонидовна — доктор исторических наук, Россия,
Москва, Институт славяноведения РАН annahor9@mail.ru
Цыбенко Ольга Васильевна — кандидат филологических наук, Россия,
Москва, Институт славяноведения РАН. cybenko@mail.ru
Шерлаимова Светлана Александровна — доктор филологических
наук, Россия, Москва, Институт славяноведения РАН. svetsherla@
mail.ru
Шишко Тадеуш / Szyszko Tadeusz — Dr. hab., профессор, Польша, Варшава, Польский университет в Варшаве. tadszy@poczta.onet.pl
Щавинская Лариса Леонидовна — кандидат филологических наук,
Россия, Москва, Институт славяноведения РАН. slavia@hotbox.ru
�
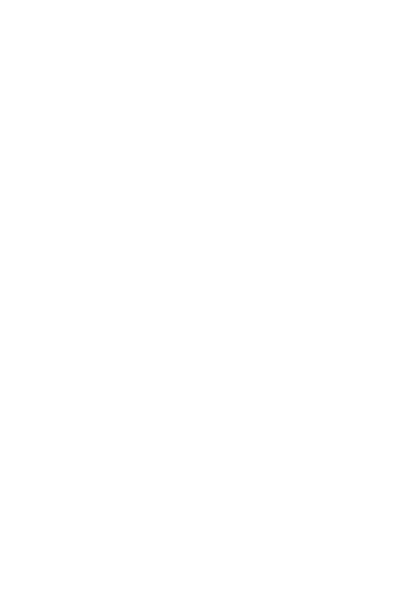
 Hieronim Grala
Hieronim Grala